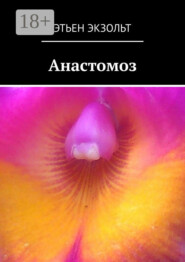По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сердца наши золотые, инкрустированные бриллиантами
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Простите… – взор ее заметался вокруг, она вспоминала, в чем могла ошибиться, что могла сделать неправильно. – Что именно я сделала не так?
– Вы не дали мне номер вашего телефона. – наслаждаясь собственной пошлостью, я чувствовал себя как никогда великолепно.
Рассмеявшись, мгновенно сменив недоуменный испуг на успокоившееся благодушие, она ухмыльнулась, подвластная рассеянному впечатлению, увлеченная неожиданной переменой, всегда полезной в общении с женщинами, неизменно оказывающей желаемое воздействие.
Нисколько не нуждаясь в близости с ней, не чувствуя возбуждения от вида той девушки и едва ли считающий ее привлекательной, я счел содеянное мной реакцией на показанное мне малоцветным экраном и уходил из кафе с еще одним записанным в телефоне контактом, сомневаясь, что когда-либо смогу позвонить ей и понимая, что, если не будет узнано мной расписание ее смен, едва ли приду вновь в столь любимое мной заведение, опасаясь ненужного столкновения. По крайней мере, я оставил щедрые чаевые.
Удалившись на несколько кварталов, я остановился, переводя дыхание под слепящим солнцем, дернул левой рукой, взглянул на часы. Мерзкий черный осьминог щупальцами своими захватил девятку и четверку, что показалось мне странным. В это время он обычно предпочитал другие цифры. Теперь, по его вине, мне следовало поторопиться, вернуться к своим огорчительным обязанностям, смущенным договоренностям и жесткопанцирным обещаниям, что в то мгновение мне представлялось едва ли не позорным отступлением. Нуждаясь в спокойном месте, где я мог бы посидеть и обдумать не только случившееся со мной, но также и наиболее интересный, приятный, неожиданный ответ на него, я позволил себе на мгновение остановиться. Улица, где я оказался, плавно изгибалась, сужаясь, уходя в сторону старого города, что означало другое ее завершение близким к порту. Четырехэтажные здания из зеленоватого кирпича, выглядывающего из-под облезшей желтой штукатурки, вертлявые их балконы с бетонными фигурными оградами, составленными нередко из скульптур и фигурок, сотни возбужденных фавнов, чудовищные их члены, нависающие над прохожими, опустевшие скобы для спутниковых тарелок, позволявшие вспомнить времена, когда подобные устройства еще были востребованы и могли функционировать, ибо метались по грязным орбитам тысячи передающих сигналы космических аппаратов и никто не мог помыслить ни о знаковом загрязнении, ни о нашествии правдолюбцев, все было признаками квартала, построенного в те времена, когда город был марзенийской колонией. Несмотря на расположение невдалеке от обычных моих путей, улица та была мне незнакома. Только подняв голову, я смог узнать ее название у скривившейся таблички, лишившейся уже одного из удерживающих ее болтов и грезившую об избавлении от прочих, позволившем бы ей, швырнув измятую гибкость на выпуклые камни, медленно уползти к морю.
Окрик, донесшийся из открытого на противоположной стороне окна, подбросивший прозрачные белые занавески, предназначавшийся ребенку, ответившему на него пронзительным, переливистым воплем, позволил мне, возжелавшему немедленного бегства из этого ставшего слишком шумным и опасным места, обрести показавшееся достойным решение, выбрать для себя двадцать минут пути по грязным дворам, истечение которых позволит мне успокоиться и взглянуть на содержимое кассеты. Перебежав через пустую дорогу, перепрыгивая треугольные крышки канализационных люков, я перебрался через ограждение, ступил на узкую асфальтовую тропинку, неровную, каждый шаг различную имеющую ширину и, пригибаясь под узкими ветвями, переступая через колонны тигровых муравьев, несущих на себе столь возлюбленных ими двухраковинных улиток, двинулся в желаемую мной сторону.
Прожив в этом городе слишком долго, я вобрал уже все очарование его, узнал все, что могло быть в нем притягательного, таинственного и удивительного, выкопал все его древние пророчества и посмеялся над ними, посему единственным, привлекающим меня, остались малопонятные, тошнотворные сцены, доступные к наблюдению в маленьких его двориках, обросших зданиями, построенными так давно, что в подвалах их имелись специальные комнаты для крыс, а на стенах возле подъездов сохранились кольца для рабских цепей, ибо тогда считалось дурным тоном приводить тех тварей в чужой дом. В этих тенистых тесных дворах я всегда чувствовал себя особенно уютно. Иногда, даже опаздывая на нечто, представлявшееся мне важным и забредая в подобное место, я, останавливался, натолкнувшись на неожиданную преграду его вязкой тишины, садился на покосившуюся лавочку возле грязной, развалившейся песочницы и позволял себе несколько минут благословенного, умиротворенного забвения перед тем, как броситься дальше. И сейчас я не торопился, осторожно и медленно пробираясь из одной хрупкой арки в другую, стараясь не становиться судьей в их доисторическом красноруком настенном соперничестве, переступая гусеничные трещины в асфальте, следуя протоптанным броненосцами дорожкам между расползшимися, умирающими, почти лишившимися травы газонами, радуясь старым детским игрушкам, брошенным среди корней высыхающих деревьев, прислушиваясь к тихим звукам совокуплений и избиений, доносившихся из раскрытых окон. Здесь почти не было кондиционеров, но причиной того служили отнюдь не бедность обитателей и не запрет городской администрации, хотя и то и другое имело место быть. В этих домах всегда была одна и та же температура, двадцать пять неподвижных градусов независимо от того, какая опьянелая жара тревожилась снаружи, не обращая внимания на щели в окнах, но мгновенно достигая температуры замерзания воды, стоило в квартиру войти девственнице, что существенно облегчало процесс знакомства с девушками.
Выбравшись из очередной осыпавшей меня известковым конфетти арки, я осмотрелся и убедился, что нахожусь именно там, где и должен был оказаться. Скрытое в генетическом коде влечение, назойливое чутье, подобное полученному от отца пристрастию к блондинкам, вывело меня с точностью идущей на нерест торпеды. В розовом доме, проросшем на другой стороне улицы, обвешанном перезрелыми балконами, провели свои детство и юность мои родители и квартира та до сих пор принадлежала ему, плата за нее списывалась с отцовского банковского счета, а ключ, снабженный магнитым брелком прятался за мятым почтовым ящиком. Причины, по которым отец сохранил за собой эту собственность носили исключительно сентиментальный характер. Именно в этой квартире он впервые почувствовал губы женщины на своем члене и отдался мужчине.
Распутная прохлада подъезда оплела меня сухим сомнением. Иногда брат пользовался той квартирой для своих забав и не возвращал на место ключи. Другой набор хранился у нашего адвоката и был сейчас недоступен. К моему удовольствию, стоило мне просунуть пальцы между стеной и выгнувшейся спинкой ящика, раздувшегося от рекламы и всевозможных уведомлений, как я нащупал острый металл и уже через минуту захлопнул за собой тяжелую деревянную дверь.
В квартире не было ничего ценного. Старая мебель, помнившая еще первые семяизвержения моего отца, неработающий менгир холодильника с пятнами на дверце, предсказуемо соответствующими очертаниям древних континентов, инопланетно выцветшие ковры на полах, неподцензурные скучные книги в потускневших обложках, затхлый, неподвижный, окоченевший воздух, блесноватые окна, высохшие насекомые, добропорядочные фотоальбомы. Некоторое время я стоял, прислонившись к смягченной потертой кожей двери, глубоко дыша воспаленными воспоминаниями, сгустившимися в туманном склепе прихожей, наслаждаясь пыльной полутьмой, осматривая ее пустые шкафы, рассматривая как величайшее творение разума квадратный кухонный столик.
Последний раз я был здесь больше года назад, когда обиделся на Снежану из-за того, что она отказалась совокупиться с обезьяной. Время от времени и мой брат использовал это место как убежище или место, куда можно было привести случайных знакомых, не опасаясь, что они могут разрушить что-либо ценное или узнать неположенное. Запустелая тишина этого места успокаивала меня, я приходил сюда в поисках места для победоносных размышлений, укромного уголка для совершения того, чем казалось немыслимо оскорбить чертоги постоянного обитания моего, испробовать новый вибратор, искусственную вагину, заняться самоудовлетворением, используя для возбуждения фотографию известной актрисы или певицы. Нечто, беспокоившее меня в других местах, здесь отступало, придавленное древней пылью и я мог, сидя в рассохшемся старом кресле, положив руки на занозливые подлокотники, пребывая в возбужденном оцепенении, обрести восторженную тяжесть хищных мыслей.
Тряхнув головой, я дернул стальную ручку, убедившись, что входная дверь закрыта, скинул туфли и прошел налево, в большую из двух комнат, где, обрушившись на неудобный и жесткий старый диван, вытянул уставшие ноги. Все здесь было чужим для меня и прежде всего таковым представали книги на незнакомых языках, с красными иероглифами, вдавленными в пожелтевшие, поблекшие, выцветшие корешки. Притаившиеся за тусклым зеленоватым стеклом, они надеялись, что никто больше не прикоснется к ним, считали свой язык забытым, потерянным, уничтоженным, полагали свои усохшие, устаревшие, потрепанные тайны содержащими древнюю мудрость, слишком могущественную для недостойного ее, погрязшего в развлечениях надменного мира и хранили ее с неистовством юноши, отвергающего мужское внимание только из страха не увидеть больше созвездия, состоящие более чем из шести звезд, что, как говорили, случается с теми мужчинами, которые знают вкус чужого семени. По своему опыту я мог сказать, что все это было глупыми предрассудками. После того, как много лет назад мужской член впервые вошел в меня, я заметил изменение только в очертаниях пятен на луне и ничего более.
Все вокруг упивалось ровной мягкостью пыли, казалось усталым и не желающим движения и я мог с легкостью поддаться тому настроению, если бы со случайным вдохом не попала в мои легкие высохшая икринка, в телесной влажности обретя новую жизнь, наполнившись ею, разрушив тугую мембрану, за одно мгновение получив взрослые размеры свои. Почти бесплотная, кистеперая та рыба крутилась теперь в аквариуме моих ребер, задевая их плавниками и щекочущей той лаской пробуждая все новые мечтания, не делавшие различий между наслаждением и болью, превращавшие страдание в нечто, обладающее равной ценностью со всем прочим. В виварии книжных шкафов, в кунсткамере их неприкосновенной чистоты, пряча от взгляда некоторые из томов, предавались воспоминаниям фотографии черно-белые или поблекшие настолько, что казалось возмутительной пыткой их старание воспроизвести цвет и на мгновение я увидел собственное лицо, проникнувшее в каждую из тех крикливых картинок.
Большинство из них проявило моего брата в той или иной униформе. На одном снимке он стоял над поверженными врагами, сваленными в кучу телами с эмблемой красного леопарда на предплечьях, на другом сам был облачен в одежду с такими же знаками отличия и возвышался над поставленными на коленями солдатами, которые, быть может, совсем недавно еще были его сослуживцами. Участь наемника предполагала подобные преображения и я полагал, что именно благодаря им была она столь привлекательна для третьего из побывавшего в одной со мной матке мужчин. Наш отец гордился им, но я не испытывал ревности от того, слишком многое было неприятно мне в них обоих и отнимало желание иметь какое-либо сходство.
Длинная, медлительная тишина плавала в той квартире. Тело ее, покрытое чешуйками кристаллизовавшихся воспоминаний, извивалось под потолком, сгоняя с него сонных мотыльков, низвергалось к полу, царапая узкий паркет, сложившийся из досок, рассорившихся настолько, что не желали они теперь и прикасаться друг к другу, скользило над исцарапанным, покосившимся столом с резными ножками, на темной стороне столешницы хранившим непристойные четверостишья, выцарапанные моим отцом во времена незаслуженных наказаний, петлю за петлей рисовало в комнате, отчего тускнели масляные краски изображающих авиакатастрофы картин, написанных моей матерью, пробиралось в прихожую, проползало сквозь приоткрытые дверцы обувных шкафов, неловко царапалось о каблуки возбуждающих туфель, оставшихся от любовниц моего брата, ползло в ванную, подставляя раны под мутные капли всегда протекавшего крана, летело на кухню, где сворачивалось на пустом столе в надежде, что когда-нибудь снова прогонит ее брезгливый шум посуды, плюющиеся проклятия жарящегося мяса, винный смех и звенящая случайная похоть. Веки мои опускались, я чувствовал себя все более усталым в умиротворяющей заброшенности этого места. Прошлой ночью я спал так мало, что даже вырывающий покой кофе не смог отобрать у меня остатки вчерашнего утомления. Кассета вытянула свое тело из моих расслабившихся пальцев, загремела на пол, но я равнодушно взирал на нее, в улыбке пряча извинение. Голова моя склонилась к левому плечу, ворчливая темнота дернулась и я понял, что на какое-то время позволил сну стать господином. Вскочив, я первым делом проверил деньги. На сей раз сносорогам ничего не удалось вытащить. Часы уверяли, что я задремал всего лишь на пятнадцать минут, но у меня, конечно же, не было никаких оснований им верить. Теперь мне следовало торопиться и я бросился к стоявшему в углу первобытному пирамидальному телевизору, вытащил из-под его тумбочки прямоугольный тяжелый корпус старого проигрывателя, поставил его посреди комнаты, протянул ломаный шнур к голодной розетке, собравшей под собой десяток мертвых и сухих тараканов. Индикатор питания обрадовал меня зеленым свечением, замигали призывными нулями часы, но я не желал обнадеживать устройство тем, что ему вновь придется постоянно выполнять вдавленное в него предназначение. Нажатием овальной черной кнопки я открыл принимающий механизм, поднявший створку с призывным жужжанием одинокой саранчи и отдал ему кассету, вслушиваясь в подвывающее его довольство. Тоскливый извращенец, многие годы вынашивавший замыслы свои, готовившийся к ним, выискивавший свою жертву, он втянул добычу в подготовленный плен, вцепился в нее, вскрыл радостное ее тело, обнажил золотистую пленку, вытянул гибкие внутренности, обмотал вокруг своих призывно дрожащих головок и изверг на нее лазерный луч.
Красноватый куб вращался над поверхностью устройства, уверяя в его готовности и я, коснувшись запускающей воспроизведение кнопки, вернулся на диван, сложив руки и ожидая неведомого зрелища.
Запись была сделана на плохом оборудовании и представляла собой многократную копию, потерявшую в том размягчающем повторении четкость и яркость. Первым, что я увидел, была дрожащая полоса по периметру устройства, волнистая прерывистость, вздымающаяся графиками таинственных явлений, а затем, как мечта пробивается сквозь плоть, из крошечной сияющей точки в левом углу поднялось, расправившись, изображение. Девушка, несомненно являвшаяся моей Снежаной, стояла на коленях, левым боком ко мне, улыбаясь, правой рукой сжимая трубную плотность мужского члена, левой взвешивая астероиды тестикул. На бедрах ее ликовали межзвездным шелком черные трусики с золотой бабочкой, купленные мной меньше, чем полгода назад, оставлявшие обнаженными ягодицы и великолепно сочетавшиеся с некоторым другим имевшимся у нее бельем. За ней, в глубине изображения, расплывчатыми темными силуэтами покачивалась мебель, пленительное кожаное кресло, часть комода, слабоумно выпустившего обвисший верхний, изогнутая посадочной штангой лунного модуля ножка кровати. Волосы ее сплелись в косу, широко раскрытыми глазами она восхищенно смотрела на мужчину, поглаживая его набухающий член, меньший в длине, но чуть более толстый, чем пристроившийся на моем теле. Ноги мужчины, юную приобретшие гладкость, прочные, тяжелые, опасно растягивавшие кожу вспыльчивыми переливами солнечных мышц, указывали на существо могучее, намного превосходящее меня силой и я заподозрил, что именно это и могло привлечь мою увлеченную предательницу. Уверяя меня, склонного к напряженной худобе, что подобное телосложение, тонкое, изящное, подвижное, более прочего приятно ей, она, тем не менее, восторгалась некоторыми мускулистыми актерами и я много раз заставал ее мастурбирующей в то время, как на экране перед ней распирающие могучими мышцами саму действительность мужчины совокуплялись друг с другом. Но такая ложь, текучая, живая, страстная, всегда была приятна мне, завораживая и возбуждая меня, позволяя находить приятными воображаемые картины того, как ее тонкое, хрупкое, гибкое тело слабой воительницы прижимается к огромному, загорелому, бугристому самцу. В этом естественном и справедливом единении виделось мне нечто застенчиво извращенное, некое варварское предательство, дерзкое откровение отравителя, отказ от разума, возвращение к одеревенелой дикости, усмиренное подобие зоофилии, разрушение стерильных машин, призыв отказаться от современности, поиск величия в прошлом, полном гниющих в сточных канавах трупов. Как и следовало существу, увлеченному противоположным, я не мог не испытывать болезненного влечения ко всему этому, я просил Снежану записать ее фантазии об огромных, гладких, нетерпеливых самцах, совокупляющихся с ней, насилующих ее и сам с легкостью добивался семяизвержения, перечитывая или слушая те откровения. Как и во многих иным случаях, воплощение воображаемого казалось привлекательным до тех пор, пока не замкнулось, испустив разряд осуществления.
Звук отсутствовал. Подняв голову, девушка улыбалась, смеялась, что-то говорила мужчине, поглаживая и сжимая его тестикулы, восторженно-счастливая, как будто было то исполнением давней ее мечты или она встретилась с возлюбленным, которого считала погибшим. Возможно, он отвечал ей, говорил слова возбуждающие, яростные, непристойные, оскорблял ее, угрожал ей и производил все прочее, что обязан был воссоздать согласно усыпляющим ритуалам благоразумного насилия. Должна была присутствовать причина, превосходящая привлекательность для ее согласия совершить нечто подобное, мужчина должен был обладать помимо всесильного тела чем-либо удивительным, невероятным, изысканно редким, вынудившим бы ее забыть о привычной надежности нашего союза, о всех его преимуществах и грядущем великолепии. Признаваясь, что хотела бы провести со мной всю жизнь, она открывала мне свои слабости, нежелание перемен, страх перед всем окружающим миром, вполне устраивавшие меня, привязывавшие ее к моему непостоянству. Любое изменение представлялось для нее мучительным, новое начинание виделось невозможным. Не имелось силы, кроме моего желания, способной вынудить ее к тому, что не было пережито ею ранее. Изнемогающий от напряжения страх выкупил все ее мысли и шантажировал их теперь, вынуждая следовать его воле. Список того, чего боялась она, был весьма продолжителен и разнообразен, но первым в нем было изнасилование, о котором она нередко мечтала в увлеченности ночного бреда. В такие минуты я замирал, не дыша, боясь неосторожным вдохом прогнать, остановить течение ее невнятных слов, восхищаясь тем, сколь разнообразны были предлагаемые ими сценарии. При ее невзрачной, ничем не отличающейся от тысяч прочих девушек внешности, едва ли стоило так опасаться насилия. Когда я говорил ей об этом, она отвечала, что насилуют и некрасивых девушек, что есть извращенцы, которых не интересуют особи привлекательные, что возникает стечение обстоятельств, при котором мужчине становится неважно, какая именно женщина может ему поддаться. С этим я был вынужден согласиться, но также отмечал и непоследовательность в ее попытках избежать неприятного. Задержавшись у подружки, она выбирала короткий путь через парк, вместо заполненной туристами улицы, могла остаться у малознакомых людей на ночь, поймать случайную машину, пытаясь сэкономить на такси. Полагая изначально, что в прошлом ее имелся некий неприятный инцидент, я некоторое время терпел, приберегая расспросы о том, надеясь на волнующую, возбуждающую историю, но так и не получив ее обрекающих на неистовую похоть откровений. Боялась она и опьянения, ни разу не допустившего к ней его расторопных, пританцовывающих слуг. На любой вечеринке, мероприятии, приеме, даже в обществе людей знакомых и безопасных, если таковые имелись где-либо в этом мире, она очень осторожно относилась к любому алкоголю, не говоря уже о дымах, порошках и игольчатых жидкостях. Нужно было видеть, как она делает глоток красного вина, осторожно пробует его на вкус, глотает и озирается вокруг, всматриваясь в окружающее, стараясь заметить первые признаки душераздирающего опьянения, намек на низвергающее отравление, немедля отстраняющая бокал и не прикасающаяся больше к нему, садящаяся поодаль ото всех, скрестив на груди руки, закинув ногу на ногу и пребывающая в таком положении до тех пор, пока признаки дурмана не исчезнут и мы не сможем, потворствуя ее требованию, отправиться домой. Два этих страха соседствовали, умилительно дополняя друг друга, как рак-кровосос и рыба-барсук. Однажды, на школьной вечеринке, она немного выпила, кто-то пытался поцеловать ее и ему это почти удалось. Признание в том произносимо было ею так, как будто по своей воле она отдалась одновременно десятку мужчин, словно то был величайший проступок ее и считала она, что никогда не должна вновь допустить подобного.
Изображение дернулось, изогнулось, посреди него вспыхнула извилистая галактика, разошедшаяся сверкающими мятыми рукавами и я пропустил то мгновение, когда пальцы девушки отпустили блестящие и гладкие тестикулы мужчины и она обеими руками схватилась сперва за его бедра, а потом сместила ладони к ягодицам. Будь перед ней некто равный мне, музыкант, поэт, санитар, я был бы спокоен. Именно неоспоримое отличие мужчины, его ядовитое превосходство, вынуждало меня ревновать. Сколько бы силы не старался передать мне в свое время брат, я все равно оставался слабым и только беспредельная злость, морщинисто – сухая, жесткая, непоколебимая, позволяла мне одолевать противников, намного и во многом меня превосходивших. Даже мой отец смеялся, сравнивал меня с нахальной гиеной, пророчил мне поедание трупов и колдовскую мечту. Часто сбегая или уклоняясь от схватки, когда становилось очевидно, что всей злобы окажется недостаточно для превосходства над противником, чрезмерно превосходившим меня силой или умениями, я все же радовался изящной, хрупкой тонкости своего тела, его естественному проворству и легкости, столь радостно совпадавшими с наиболее приятным образом, каким я хотел представлять и подавать свою непререкаемую плоть. И только теперь, когда я видел, с каким благоговением взирает Снежана на вздыбленного атлета, с каким ласковым упорством поглаживает каменные мускулы его ног, я усомнился в правильности выбранного видения, я задумался о походе в тренажерный зал, приобретении препаратов, необходимых для скорейшего роста мышц и всего прочего, уподобившего бы меня этому глянцевому чудовищу. К счастью, сознание мое оказалось более благоразумным, чем я сам и, совместно с укоряющей памятью, вернуло мне чистоту, на мгновение явив перед взором профессора Сколовского, читающего лекцию о нейробиологических аспектах порнографии. Покачивания его неаккуратной густой бороды, волосы, торчащие вверх так, словно был он поклонником устаревшей деструктивной музыки, спокойная речь, снабженная в точно выверенных местах едкими шутками о женщинах и устройстве мира, напомнили мне о том, кем я хотел быть и должен был стать. Все остальное было чуждым, разрушительным, глупым, вело к жеманному забвению и бурной пустоте.
Опомнившись, вновь став вечным наблюдающим, я увидел, как Снежана, чуть приподнявшись, потянулась расходящимися губами к ультрамариновой от цветового искажения головке и они, сжавшись, впились в ее острие вогнувшим щеки поцелуем, а уже через мгновение, резким броском, поглотили ее, вытянув подбородок девушки, но оставив открытыми глаза. Увидев достаточно, я остановил воспроизведение, выключил устройство, извлек из него кассету, отправил его на прежнее место заточения, все это совершив в спокойной тишине, не чувствуя себя ни возмущенным, ни удивленным, с легкостью подавляя трепещущую ярость, нашедшую было место между ребрами моими, зацепившись за них хваткими щупальцами. Став детективом, дознавателем, инквизитором, я смогу выяснить посредством расспросов и поддельных пыток, кем был тот мужчина и, самое важное, что в нем оказалось для нее соблазнительным. Не желая стеснять руки свои, я оставил кассету в квартире, положив ее в пластиковый пакет и спрятав под диваном, куда едва ли решит заглянуть мой брат, если появится в этой квартире с очередным любовником. Имея возможность жить в любом из двух десятков городов мира, он, как только выдавалось у него пустое время, в перерыве между контрактами, прилетал сюда. Случалось, что я неожиданно встречал его на улице, загорелого, пьяного, безумного, и он обнимал меня, прижимал к своей пропитанной потом форме еще одной далекой страны, о которой мало кто слышал здесь, предлагал мне разделить с ним бутылку вина, тянул в таверну, где, выбрав стол между уже занятыми, нарочито громко расспрашивал меня о моих успехах и любовницах. Среди них он больше всего не мог терпеть мою пряноглазую Снежану, поражаясь тому, что я могу произвести совокупление с подобным ей созданием. Отвращение, вызываемое ею, было непонятно мне, а он отказывался объяснять его, уверяя меня, что все в этой девушке, незавершенность ее ломаных, резких, неуверенных движений, более подобающих безропотному насекомому, слегка вкрадчивый, подергивающийся голос ее, выдававший недостаток самообладания, стыдливые глаза, как будто извиняющиеся за некий недавно совершенный проступок, которым, как полагал я, могло быть само существование ее, суждения, не имевшие в своем числе ни одного, отличавшегося от принятых здравомыслием, ее мечтания, исходившие из настоящих возможностей и не предполагающие обретения иных, желание поддаться обстоятельствам и следовать их увлекательному течению, все обязывалось служить источником исступленного отвращения. Пожимая плечами, я соглашался с ним, но возвращался к ней, находя приятным ее упругое страдание в полуночном витражном метании, в стробоскопическом блеске наслаждения, испытывая влечение к ее влагалищу, способному до боли сжать мой член, к ее грудям, выделявшим во время менструации горьковатую жидкость, которую я, смеясь, называл молоком и от вкуса которой моя плоть, даже если выбросила она семя секунду назад, напрягалась вновь, к ее твердому язычку, знавшему, написанием каких древних рун можно меня расколдовать. Брат смеялся надо мной, во время кратких телефонных звонков с другого конца мира спрашивал, все ли еще я живу с той неприглядной шлюхой, как будто там, в пустынной крови, это интересовало его более прочего. Думаю, он обрадовался бы этой видеозаписи, как и увиденной мной ранее фотографии, ее двойное или всего лишь протяженное предательство восхитило бы его, он бы смеялся, потирая предплечье, как всегда делал в моменты величайшей радости, он бы напоминал мне всего его кишечные предсказания и клинописные пророчества. Сам же я беспокоился о другом, ибо заподозрил, что именно Михаил и был тем, кто запечатлел те кадры, держал камеру, а возможно, и участвовал в неувиденном мной продолжении. Причины, побудившие его к тому, волновали меня больше, чем сам факт произошедшего, ибо он не менее моего презирал ту девушку. Ревность, возникшая во мне, происходила от призрачной зависти, испытываемой по отношению к его образу жизни, к его утонченно эгоистичному, слегка лицемерному взгляду, погруженности в выбранное им, соответствующее представлениям об интеллекте и научной изысканности дело, которое, как когда-то надеялся я, могло быть и моим собственным. Отступление от всего того было вызвано моей воспаленной ленью, моим отрешенным пристрастием к наслаждениям, потворствованием воображению и блудливым мечтам, в чем я мог винить только самого себя, но иногда мне снилось, что я стал им и я просыпался с улыбкой и напряженным членом.
Двойное непреодолимое превосходство окружило меня, равно интеллектуальное и физическое, я ничего не мог противопоставить ему, способному полностью уничтожить меня за несколько затворнических дней. Необходимо было признать, что план и воплощение его были великолепны и то, что исходили они не от вражды или ненависти, но представляли всего лишь игру, воплощение хитроумного разума, превращало их в подарок жертвенной щедрости. Как игрок в марбунагу, увидевший непреодолимое поражение через несколько ходов, я мог улыбнуться, признать его, пожать руку противнику, в молчании покинуть поле боя, признавая собственное ничтожество, молча и стиснув зубы сидеть в пустом гостиничном номере, вцепившись в кресло и не снимая костюма, выбирая способ незаметного самоубийства. Отученный от поспешности многими своими ошибками, я предпочел все же сначала расспросить Снежану. Шипастые щупальца удушали цифры десять и одиннадцать, мне следовало поторопиться, если я правильно помнил ее расписание. Квартиру я покидал в спешке, не заглянув, согласно традиции, в фотоальбом, где хранились непристойные фотографии моих родителей, немало вытянувшие семени из нас с братом, захлопнул дверь, отправил ключ на прежнее место, выскочил на улицу, оглядываясь в поисках способа сократить путь. После встречи с Михаилом я должен был отправиться в ином направлении и тогда, после сорока минут неторопливой прогулки, оказался бы там, где мог бы встретиться с моей разборчивой предательницей. Выбрав показавшееся мне верным направление, я бросился вперед так быстро, как только могла позволить мне разболевшаяся нога. При каждом шаге холодная, колючая боль проходила от правого колена через бедро к промежности, брезгливо в ней останавливаясь и исчезая до следующего напряжения. Со страхом ожидая прикосновения к асфальту, я тем самым существенно замедлял себя, прорываясь сквозь арки, спотыкаясь о выпавшие из стен округлившиеся кирпичи, поскальзываясь на стекающей со стен сладкой молочной гнили, задыхаясь от обеззараживающих испарений покрывающего их красноватого мха.
Выскользнув из очередной сдавленной непристойности, я осознал себя находящимся на узкой улице, превратившей темную сторону в высокую желтую стену, лаково блестящую защищающим ее от граффити покрытием, бережливо прикрытую сверху колючей проволокой, брезгливо взирающую на меня черными морскими звездами видеокамер. Тяжелые от стыдливых и безгрешных черных плодов деревья нависали над ней бесформенными уплотнениями тоски, где-то за гневливой прочностью истерзанных кирпичей исступленно дрались носухи. Могло показаться, что стена тянется бесконечно, стягивая собой весь город, но я знал, что ею ограничен лишь относительно небольшой район, так и не восстановленный после Войны Воспоминаний. Любой местный житель знал способ определить слепое место между камерами, я же, вдобавок к тому, был обучен старшим братом, как можно забраться по гладкой поверхности стены, миновать колючую проволоку и избежать всех опасностей после. Ни одного из тех сокровенных знаний мне не пришлось применять, ибо в первом же слепом месте я обнаружил прикрытое опустившимися ветвями деревьев и вьюном барсучьей ягоды отверстие, через которое и пробрался, лишь слегка оцарапав левое плечо.
Уже давно я не был в Гнилом Городе. Последний раз я пришел сюда со Снежаной, через несколько дней после того, как она бормотала во сне о том, как ее насилуют на его одряхлевших улицах. Скорее всего, сама она не заметила и не запомнила того своего сновидения, но часть его осталась в ее венах, добралась до мозга бесплотным тромбом и тянула девушку в темные, безрадостные, выглядящие самыми опасными переулки. Едва поспевая за ней, я ухмылялся, занимая себя вопросом о том, был ли ее сон пророческим, доведется ли мне наблюдать за тем, как совершится над ней насилие, но ничего подобного не произошло, мы никого не встретили, она вернулась домой недовольная и раздраженная. После того, как влагалище девицы получило мое семя, что всегда сопровождалось и переживаемым ею оргазмом и в дополнение к тому я полчаса сосал ее клитор, она породила скандал, обвиняя меня в том, что я не уделяю ей достаточно внимания.
Город не любил тех, кто не нес в себе его крови. Не обращая внимания на их мольбы, на их вдохновенные просьбы, он позволял им существовать в его пределах, ни никогда и ничем не помогал. Городу нравилось, чтобы те, кто родился под вой его злопамятных ураганов, кто издал утверждающий жизнь крик вместе с ударом молнии в окружавшие его горы, кто с первым вдохом втянул его пряные туманы, кто линиями на ладонях повторял пересечения самых широких и старых его улиц, чтобы все они, горделиво и с осознанием собственного права требовали от него желаемого ими и тогда он, притворившись побежденным, исполнял их просьбы, подобно родителю, не боящемуся притвориться слабым в игривой борьбе с ребенком. В теле Снежаны текла иноземная кровь, отец ее происходил из бедных земель диких цыган, необразованных и отсталых настолько, что они до сих пор полагали, будто наша планета является частью Солнечной системы и некоей галактики, материя состоит из определимых частиц, а мозг человека является основой его мышления. Люди той страны нищали с каждым годом, выживая лишь благодаря наивным и глупым туристам, попадавшимся на уловки дешевизны и ретушированных фотографий и обнаруживавшим по приезде толпу волосатых и небритых варваров, лезущих к ним в карманы, пытающихся обсчитать, обмануть, продать сломанные безделушки, уверяющих, что нет ничего прекраснее, чем вид с обрушивающихся под ногами скал на отравленное отходами море, ржавые корабли на мели и острова мусора, к которым брезговали приближаться даже рыбы-еноты. Стоит также упомянуть, что мужчины той страны отличались поразительным разнообразием извращений и наименее привлекательным было для них совокупление со взрослой женщиной. Девочки становились для них развлечением едва ли не с младенческого возраста, среди мальчиков особо выделяли обладателей звонких голосов, возвышающих страдальческий крик, собаки ценились обладающие особо пушистыми хвостами, а среди овец предпочтением была снабженная мускулистыми ногами и мягкой шерстью авертинская порода. Не было среди них ни одного мужчины, избежавшего хотя бы одного из тех извращений. В возрасте пяти лет они уже знали вкус мужского семени, в семь или восемь анусы их привычны были к члену. Как только собственная их плоть обретала твердость, они забирались на своих матерей и сестер, с пятнадцати лет должны были иметь в любовницах девочку не старше десяти лет и раз в месяц совокупляться с мальчиком моложе их хотя бы на два года. Иначе на них начинали смотреть на них с подозрением, сомневаясь в их мужественности и полноценности. Только благодаря приверженности традициям, характерной для всех варваров, они продолжали размножаться и порождать потомство для будущих извращений.
Город испытывал презрение к дикарям, он мог принять и признать любое отклонение, потворствовать и приветствовать его, но только в том случае, если таилось за ним нечто большее, чем привычка и страх. Невзлюбил он и Снежану, постоянно причиняя ей мелкие, не нарушающие приличий и традиций гостеприимной вежливости неприятности, неудобства и происшествия. Там, где она спотыкалась и падала, разбивая локти и колени, у меня происходила удивительная, приятная, необычная встреча, я находил монеты или обретал удивительное прозрение.
Пробравшись сквозь заросли стреножащего кустарника, покрыв руки царапинами, повторяющими сеть марсианских каналов, какими они стали после восстания Лубрикантов, я выпустил себя на улицу, трещавшую от возбужденной жарой лунной саранчи. В этом районе всегда было на пару градусов теплее, здесь пропадал ветер и не чувствовалось присутствия океана. Говорят, что до войны сюда никогда не заходили кошки.
С шумом вырвавшись из цепких ветвей, я распугал нескольких носух, бросившихся к полуразрушенным зданиям. Одна из них на мгновение замерла, приподнявшись, передней правой лапой касаясь покосившейся, исходящей острыми щепками выцветшей синей двери, испуганным любопытством одаривая меня, подергивая носом, покачивая вздыбленным хвостом. Стоило мне сделать шаг, как она исчезла в темноте и что-то загремело в глубине здания, отзываясь глумливым эхом. Отряхнувшись, я осмотрелся, вспоминая направление, стараясь учитывать тот факт, что после радужных бомб, разорвавшихся здесь во время войны, правая и левая стороны могли поменяться местами, благоразумно оставляя при этом на прежних местах часы и украшения. Мне, двуликому амбидекстеру, было бы особенно трудно ориентироваться в этом случае, если бы не шрамы на левой руке, полученные по вине Снежаны. Поглядывая на них, я брел посредине проезжей части, подальше от готовых упасть кусков черепицы, разваливающихся стен, яростных носух, блудливых призраков, поджидающих меня с намерением овладеть мной, направить к вожделениям, доселе мне неизвестным и противоречащим моим предпочтениям. Как мародер, выискивающий в руинах золотые кольца на раздробленных пальцах, я всматривался в пустые оконные проемы, дверные порталы, позволявшие лицезреть лестницы, раскрошившиеся без скреплявшей их высохшей спермы, изучал перила, черпавшие некогда силу в разорванной о них одежде и коже и погнувшиеся теперь от голода, покореженную мебель, истосковавшуюся по хранившемуся в ней когда-то кружевному и кожаному белью, столы, покосившиеся, раскрывшие дверцы в терпеливом ожидании непристойных и откровенных дневников. Только жалость мог я испытывать к ним, больше пяти десятилетий тосковавшим в беспричинной надежде. Не далее как в прошлом году мэр заявил о том, что в ближайшие десять лет не собирается ни очищать район, ни восстанавливать его, выделяя средства только на сохранение стены и ее охрану. Даже то, что каждый год здесь пропадали десятки подростков, привлеченных приключением соседней улицы и столь же велик был счет похищенных, изнасилованных и убитых, не могло изменить мнение городской администрации. Большинство похищенных появлялось позднее на рынках северных стран. Брат рассказывал мне, что увидел однажды свою бывшую любовницу, выставленную на продажу и, несмотря на имевшуюся у него возможность купить ее, удовлетворенно наблюдал как ее приобрел толстый дибар, покрытый зловонными чумными язвами.
Опасности, распутствовавшие здесь, не завершались только сметливыми бродягами и стаями носух. Под землей до сих пор прятались подвижные мины, чувствовавшие магниты миноискателей и умело сбегавшие от них, а позднее возвращавшиеся и занимавшие место на улице, согласно имевшимся в их памяти картам. Спасало только то, что междусторонняя аномалия распространялась и на них, слишком простых и не способных изобрести метод для ее преодоления. Брат научил меня приметам, по которым можно было определить наличие такой мины. Начать можно было с того, что они редко когда возвращались на места взрывов и потому я спокойно переходил от одной воронки к другой. С течением времени у тех устройств, не рассчитанных на долгое пребывание под землей и не получивших приказа отключиться, выработалось стойкое неприятие электричества и потому можно было бесстрашно перемещаться под любыми проводами, спасаясь в их благословенном гудении. На одном из перекрестков мне послышались смеющиеся детские голоса, но звук тот немедля пропал и я решил, что был он всего лишь еще одним заблудшим эхом. В детстве мы иногда покупали у бродивших по дворам лохмотных торговцев проволочные, потрескивающие от напряжения ловушки и вслушивались потом в отголоски чужих слов, пытаясь обнаружить в них слизистую тайну или забытое признание.
Перебежав через улицу, я прижался к кирпичной стене единственного дома, выглядевшего не нуждающимся в случайной гибели возле него прохожего и в это мгновение из окна над моим левым плечом потянуло стальной пустотой. Медленно повернувшись, я увидел направленное на меня дуло автомата. Опознать униформу и даже принадлежность к подразделению не составило для меня труда. Просмотрев достаточное количество документальных фильмов о событиях той войны, прочитав несколько обильно поросших фотографиями книг, выслушав рассказы отца о моем деде с его стороны, я мог понять, что нахожусь в присутствии солдат из десантного батальона «Василиск», отличившегося особой жестокостью как во время боев, так и в часы перемирия. Протащив меня сквозь длинные коридоры во внутренний дворик, солдаты швырнули мое тело на покачнувшийся под ним стул, привязали запястья к его стальным горячим ножкам и оставили в одиночестве.
Квадратный двор, окруженный колоннами, зарос кружевным плющом, получившим свое название за черный рисунок на листьях, сжавшим колонны, опустившимся с них до выцветшей мозаики и ползущим теперь по ней в мою сторону. Место, где усадили меня, было когда-то неглубоким бассейном, по оставшимся на дне плиткам я мог понять, что изображали они золотых дельфинов, совокуплявшихся с человеческими женщинами. Округлая впадина в центре уверяла о присутствии в прошлом фонтана, но теперь все вокруг было сухим и потерянным, растертым и превращенным в пелену придорожных мечтаний. Разбитая виниловая пластинка лежала возле одной из колонн, ожидая затмения и воплощая собой беззвучное поражение.
Появившись за моей спиной, мужчина некоторое время стоял там, не шевелясь, но и я не совершал никаких движений, не пытался повернуться и рассмотреть незнакомца. Вместо страха я испытывал раздражение, понимая, что теперь непременно опоздаю и не смогу встретить Снежану в перерыве между ее занятиями.
Обойдя меня, он превратился в седого гиганта, предпочитавшего во все ту же светло-желтую униформу, выцветшую, мятую, во многих местах зашитую. Ботинки его принадлежали к коллекции, выпущенной всего лишь пару лет назад модной тогда певицей и покинули, должно быть, ноги некоего незадачливого путешественника.
– Что ты делаешь здесь? – присев на парапет, он достал из нагрудного кармана пачку сигарет.
– Я всего лишь проходил мимо. – глаза его оставались невидимыми под узкими солнцезащитными очками, а брови либо безупречной владели прозрачностью, либо отсутствовали вовсе.
– Говорят, ты торопился. – сигарета сжалась в его в пальцах, сдавивших ее так, как другие делают то с женским соском.
– Я спешу узнать, почему моя женщина мне изменила. – уверенный, что любой мужчина сочтет ту причину значительной, я произвел то откровение, не боясь унижения.
– Какая разница? – ухмыльнувшись, он выдернул из воздуха солнечную зажигалку, поднял ее к небу и прикурил от нее сигарету. Забавный фокус, теперь уже мало кто может его повторить. Даже мой брат так и не смог научиться, несмотря на все старания. – Брось ее.
– Я еще не изучил ее достаточно. – слова его были для меня обычной мужской глупостью, каковую следовало пропустить через себя, как дым чужой сигареты.
– Ты глупец. – пепел просыпался на ярко-красный член приготовившегося войти в светловолосую женщину дельфина.
– Возможно. – безразличное пожатие плечами показалось мне лучшим ответом. Из всех известных наследственных заболеваний, пагубно влияющих на интеллект, у меня было определено только четыре.
– Так ты проходил мимо? – губы его двинулись так, как будто впервые произносил ранее незнакомое ему слово. – Ты не искал нас?
– Я натолкнулся на вас случайно. – но я понимал, что мне ничем не удалось бы убедить его в этом.
– Таких случайностей не бывает. Не притворяйся! – мужчина вскочил, развалистым шагом приблизился к моей неподвижности. – Ты один из нас, не отрицай этого. Твоя кровь говорит в тебе и за тебя. Тебе достаточно посмотреть в зеркало и ты поймешь это.
Покачав головой, я почувствовал, как рот мой наполняется терпкой слюной от неприятного того признания.
– Мой дед был одним из вас. – отдаляющее исправление не могло много для него значить.
– Он остался в городе? – присев передо мной так, что глаза наши оказались напротив, он вынудил меня опустить взор, избегая собственного отражения и задержать дыхание из опасения отравиться гнилостным зловонием от его кожи. Многие годы он питался только носухами и человечиной, что не могло благополучно сказаться на его здоровье.
– Он изнасиловал мою бабку и был ранен ею. Ему предложили жениться на ней и стать гражданином или быть повешенным. – история та восхищала меня до гордости.
– Трус! – мужчина сплюнул и слюна его была зеленой.
Пожав плечами в безличии ответа, я позволил ему любое мнение.
– Но ты, – рука его отягчила собой мое плечо. – Ты ведь не такой, как он?