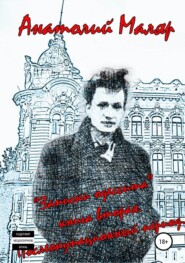По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки одессита. Оккупация и после…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Затем события развивались просто: румынам не составляло труда определить, что они нашли большую еврейскую семью. Солдаты привычно выгнали жильцов из комнаты и коридора, и по широкой мраморной лестнице повели их вниз, подгоняя прикладами…
По этой красивой лестнице еще совсем недавно жители, независимо от национальности, спокойно поднимались и спускались, весело шутили с соседями, встречая их на площадках. Иногда ругались. Теперь их гнали в неизвестность, и они переживали за своего деда. Кто его накормит? Кто будет за ним ухаживать?
Женщины плакали, дети испуганно суетились у них под ногами. Двое здоровенных, деревенского вида румын, совсем недавно призванных в королевскую армию, остались в квартире. Им еще не доводилось смотреть с такой высоты вниз, на вымощенную квадратными гранитными плитами землю. Один из них вышел на балкон и неловко зацепился за коляску. Старик, сидевший в ней уставился на него испуганными глазами.
– Здесь спрятался старый жид! – радостно окликнул он своего напарника.
– Гони его вниз, к остальным! – отозвалось в гулком коридоре.
– Он парализованный, иди сюда…
Старик не понимал по-румынски, хотя и чувствовал, что перекликаются солдаты о нем. Может быть, они не знают, как доставить его в больницу? Старик напрягся, его пугала неизвестность. Тут на балкон вышел второй румын, и весело предложил:
– Не будем с ним возиться, сбросим с балкона! Так будет быстрее!
Оба засмеялись: еще никто из их товарищей не сбрасывал жидов с четвертого этажа! Подняли перепуганного еврея из коляски, один уцепился крепкими крестьянскими пальцами за запястья, второй – за ноги. Старик понял, для чего его так ухватили, когда его стали мягко раскачивать, так, как раскачивают детей в морской воде… Он громко закричал, и этот крик отвлек меня от игры в песке…
О чем думал паралитик, летящий со своего балкона к быстро приближающимся гранитным плитам нашего двора? Наверное, он с ужасом смотрел на бегущего к месту его падения ребенка, который, задрав голову, смотрел на летящего деда ничего не понимающим взглядом. Мальчик запомнил этого старика на всю жизнь…
О чем думали молодые веселые румынские солдаты, наблюдавшие сверху за полетом кричащего старика-еврея? Позже советские и иностранные историки говорили: война есть война… Она без жертв не бывает. Войны бывают справедливыми и несправедливыми. Это всё теория.
А на практике еще одна вселенная разбилась о гранитные плиты двора на улице Жуковского.
***
Вскоре после этого случая румыны организовали под этим балконом солдатскую столовую. Рядом со входом соорудили длинную скамейку и каждый день к обеду моя тяжело больная бабушка Пелагея сажала меня не нее рядом с собой, и мы ждали, когда поедят румынские солдаты.
Они уходили, и тогда дежурный по столовой показывал нам куда сесть, наливал в солдатские миски борщ, давал мамалыгу, компот или чай. Все это было очень хорошо приготовлено – вкус мамалыги и борща я запомнил навсегда. И если борщ у меня сейчас иногда получается, то мамалыга, сколько я ни пробовал приготовить, не шла ни в какое сравнение с тем вкусом из детства. Видимо, для того, чтобы ее так приготовить, нужно быть румыном или молдаванином.
Мы с бабушкой Пелагеей каждый день сидели на скамейке, слушая всасывающие и хлюпающие звуки при приеме горячего борща и чавканье солдат при потреблении мамалыги. Ждали, когда поедят румыны и по команде встанут. Они выходили из-за столов, весело икая, перекидываясь шутками. Я нетерпеливо ожидал, когда они покинут столовую.
Дежурный солдат не успевал жестом разрешить нам пересесть со скамейки за освободившийся стол, как мы с бабушкой оказывались на месте с ложками в руках. Пока дневальный собирал алюминиевую посуду с других столов и протирал их тряпкой мы успевали съесть вкуснейший борщ вместе с мамалыгой.
Бабушка, вставая, всегда благодарила «деточку-румына», крестила его. Из столовой я выходил еще более веселым, чем солдаты, и она не знала, как меня успокоить. Румыны, находившиеся во дворе, смотрели на меня и смеялись. Они тоже были сыты, а потому – веселы.
Среди них случались разные люди, и офицеры, видимо, знали, кому из солдат можно поручить какую «работу». Были, как и в любой армии, любители вешать, расстреливать… Были и те, кто просто хотел жить. Таких обычно считают плохими солдатами – они не хотят становиться генералами. Их сложно отличить по внешнему виду от хороших. Румынские солдаты почему-то не хотели умирать на поле брани, но в дальнейшем пришлось.
Бабушка Пелагея
Бабушка часто брала меня за руку и водила в церковь. При пересечении Александровского проспекта она о чем-то со мной разговаривала чтобы я не замечал повешенных евреев на деревьях. На улицах и в Соборе людей было мало. Бабушка долго о чем-то разговаривала с батюшкой, а я ходил по огромному залу и радовался красоте, не соответствующей угрюмому виду города.
Возле Успенского собора (тогда я его названия не знал) толпились нищие, грязные дети и оборванные старухи, по сравнению с которыми мы с бабушкой смотрелись состоятельными людьми. Они бросались нам под ноги, выпрашивая подаяние, но у нас не было никаких денег. Иногда Пелагея вынимала из «загашника» какие-то мелкие советские монетки чтобы купить свечку и поставить ее за умерших…
Мама знала о копеечных сбережениях бабушки, но на них не претендовала. Возможно, эти деньги пригодились для оплаты похорон Пелагеи осенью 1942 года…
После похорон мама нашла в ее пуховой подушке спрятанные «катеньки», которые были уже никому не нужны. Эти деньги она хранила со времени срочной продажи двухэтажного дома в ее родной станице Веселая, откуда она бежала с детьми от резни.
Однажды бабушка Пелагея, поясняя мне в очередной раз, чтоб я не говорил родителям об увиденном, забыла отвлечь меня от панорамы Александровского проспекта, где на деревьях висели мертвые люди, освещенные солнцем. В пустом садике качались в тишине евреи с табличками на шее и меня заинтересовало, зачем они нужны:
– Бабушка, а что это за дощечки? – я никогда не видел, чтобы люди носили на шеях такое украшение.
– Пошли, пошли, это тебе еще рано знать – поторопила меня старенькая Пелагея.
Бабушка в последние дни своей жизни ходила трудно и медленно. Когда мы возвращались из церкви, Пелагея говорила: «Не говори папе и маме, пусть они не знают, куда мы ходили». Я никогда ее не подводил. После этого мы обычно усаживались на скамейку возле румынской столовой и ждали обеденного времени.
Чтобы я никуда не убегал, она мне рассказывала сказки, интересные и смешные, про Царевну-Лягушку, Аленушку, Иванушку. Какими бывают лягушки, я не знал, о царевнах тоже осведомлен был мало. О Кощее Бессмертном догадывался – румыны могли в него стрелять, а ему, наверное, хоть бы что, разве ребро поцарапают…
Когда дежурный пускал нас сесть за стол, уговаривать меня не было необходимости, я ел до икоты. Пелагея крестила, как всегда, дежурного по столовой солдата, а мне говорила: «Не говори папе и маме, что мы кушали у румын». Я и эту просьбу бабушки исполнял, хотя мама, конечно, видела мой выпяченный живот. Она ласкалась к бабушке, как будто ничего не понимала…
Бабушке было трудно подниматься на третий этаж и спускаться вниз, но через время она снова брала меня за руку и шла к школе. Там мы садились на тумбу возле входной лестницы, и Пелагея продолжала сказку о том, как гуси несли Аленушку, потому что без этого я убегал куда хотел и когда хотел…
Бабушка Пелагея меня очень любила, когда могла, старалась гулять со мной, но осенью 1942 года она умерла. Бог ей дал спокойную смерть, без мучений.
Ее положили на большой стол посреди комнаты, а мама с соседкой на кровати перебирали виноград для поминок, и я подсел к ним. Взял гронку и понес бабушке: «на, бабушка, съешь, не притворяйся». Эту смерть я перенес сложнее, чем то, что видел ранее.
Я хорошо запомнил похороны бабушки Пелагеи. Соседи помогли снести гроб с телом по лестнице нашей парадной на улицу, где ждала подвода с лошадью. Гроб положили на телегу, меня посадили рядом с извозчиком. Мои родители и соседи с несколькими старушками, знавшими бабушку, пошли сзади.
Медленно ехали по Ришельевской, потом по Водопроводной. Было тепло и солнечно. Въехали в центральные ворота Второго Христианского кладбища и остановились возле церкви. Взрослые мужчины внесли гроб в Храм.
Мои родители не были людьми верующими, однако бабушка веровала, и по ее последнему желанию похороны проходили согласно православному обряду. Потом гроб отнесли на руках к уже вырытой могиле. Когда его опускали вниз, одна из бабушкиных подруг поставила меня рядом и показала: «смотри, как твою бабушку глубоко закапывают».
Потом пошли обратно, по Водопроводной улице, зашли к каким-то маминым знакомым, где помянули бабушку Пелагею. Потом брели пешком домой и я услышал, как ребята, немного старше меня пели:
Антонеску дал приказ: всем румынам на Кавказ,
А румыны: «ласа, ласа», ла каруцэ ши ла каса
(«хорошо, хорошо, на телегу и домой»)
Улицы города были совершенно безлюдными. Я не помню, чтобы по ним ходили даже румынские патрули. Кто помог родителям в то трудное время организовать бабушкины похороны, я не знаю. Когда мама была жива, я не спросил, а потом… То, что похороны не обошлись дорого, понятно. Пелагею похоронили далеко от центральной аллеи, по тем временам – на окраине кладбища. Но ведь и скромными средствами родители не располагали.
Тогда могилы располагались не очень плотно. Недалеко от бабушки была похоронена румынская девочка, приехавшая с родителями. Многие румынские военные и предприниматели привозили с собой семьи в надежде остаться насовсем.
Родители не имели возможности держать нас возле себя и объяснять, куда можно ходить, а куда нельзя. После смерти бабушки Пелагеи, водившей меня за руку, я стал в возрасте четырех лет вполне самостоятельным. У нас с Ленькой не возникало мысли, что можно заблудиться в городе, на бульваре Фельдмана, например, и не найти обратной дороги к нашему дому. Ноги нас уводили от него и сами приводили, когда приходило время, о котором сигнализировало громкое урчание в пустом животе.
Мама находилась дома очень редко. Не всегда бывал дома и отец с сестрой, поэтому не помню семейных завтраков и обедов, но к вечеру папа обычно накрывал стол, на котором помещал разогретую на «буржуйке» сковородку с куском мамалыги, и ждал, пока мы с сестрой разделим ее по-братски. Все комнаты нашей коммунальной квартиры не закрывались на ключ. Мы знали, где живем, а в комнаты соседей не заходили, если нас не звали.
«Что такое хорошо?»
В румынскую столовую я не догадался ходить, хотя, возможно, солдаты меня и продолжали бы кормить по старой привычке.
С этого времени мое питание стало таким же скудным, каким оно было у моих сверстников и друзей, четырех – шестилетних одесситов.
Мы были постоянно голодны, но почему-то веселы. Как тогда говорили – жизнерадостные рахиты. Сказать, что мы были худыми – не сказать ничего.
Как-то раз один из сверстников назвал меня головастиком, что мне показалось обидным, хотя я, наверное, так и выглядел. Сейчас трудно себе представить состояние матери и отца, видевших своих голодных детей и знавших, что ничего для них сделать не могут. В таком положении было большинство родителей-одесситов.
В той комнате, с балкона которой в начале оккупации выбросили инвалида, поселилась тетя Аня с мужем Гришей. Они были бездетными. Дядя Гриша до войны работал где-то охранником, а тетя Аня обстирывала соседей, что-то перепродавала – это была обычная одесская семья.