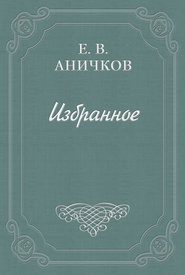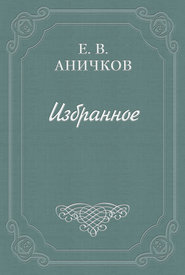По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
К. Д. Бальмонт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это – последняя строфа стихов о древнем военном боге балтийских славян Святовите. Его знаменитое капище стояло в Арконе, и грозой оно было для южного, византийско-римского христианства, стремившегося захватить еще языческий север, обуздать его порывы, подчинить его государственности и церковной pax romana. И разве не новым пророчеством звучат эти четыре строки? Разве, правда, скоро не станет
Славянский мир объят пожаром?
Теперь уже окончательно вновь верит и вновь надеется ставший славянским поэтом Бальмонт. Его западничество было действительно только паломничеством. Всегда звала к себе, протягивая свои окровавленные руки, родина, и самые гневные песни о злом рабстве были песнями любви.
Полное новых надежд, справившееся с отчаянием славянское увлечение становится даже вновь общечеловеческим; оно не замыкается в себе. Те самые славянские образы, что еще недавно мучили, превращаются в образы светлые, и готовы они засиять на весь мир. В «Злых чарах» Заря-заряница была образом страшным и кровавым.
Хочется ласки,
Мягкости краски,
Будет, уж искрилась красная, —
обращается теперь к ней поэт и спрашивает с трепетом в измученном сердце:
Или ты, Заря,
Каждый день горя,
Так и не узнаешь нежной жалости?
И совсем иные символы и начнет навевать «Заря-заряница»:
На камне солнцевом сидит Заря-Девица,
Она – улыбчивая птица,
В сияньи розовом широко-длинных крыл,
На камне солнцевом, он – амулет всех сил.
Светло-раскидисты сияющие крылья,
Пушинки, перушки до моря достают,
Все Небо – ток огня, все облака поют
От их цветного изобилья,
От них румянится и нищенский приют.
Улыбчивым лицом будя людские лица,
Сияньем розовым развеселив весь мир,
На камне солнцевом побыв, Заря-Девица
Уходит за моря – к другим – и тот же пир.
Так эта «Свирель славянина» навевает счастье зорь всему миру, потому что не хочет поэт-славянин свои скорби и свои радости замкнуть лишь в узких пределах своего народа или своего племени.
VI. Лирика, лирика без конца
Одна из основных черт новых веяний – возрождение лиризма. Французские поэты свободного стиха все свои усилия направили на воссоздание именно лирической поэзии. Художественно запечатлеть смутные настроения, через которые проходит душа поэта, когда открываются ей сочетания мыслей и образов, – вот что представилось самым верным путем достижения нового, более глубокого понимания жизни. Поэты как будто и тут возвращаются к романтизму, этой по преимуществу лирической эпохе. Ее закончил Виктор Гюго безостановочностью своей поэтической риторики, и тогда школа Парнаса выдвинула принцип ut pictura poesis; как у Леконтаде Лиля и Эредиа, лирику заменили короткие изображающие поэмы; парнасцы потребовали также стройности в отделке, и поэзия Сюлли Прюдома рассуждает, доказывает чуть ли не научные положения. То же рассуждает и поэтическая углубленность Браунинга и Кардуччи; эти поэты творили, строго проверив свои мысли-звуки, разрабатывая каждое стихотворение, подобно философской проблеме. Напротив, Бодлер, Верлен и Малларме опрокинули и образность, и строгость логики, и рассудочность, и тут начало нового лиризма. Вновь выделяется чувство; оно должно войти во все свои права, потому что в чувствах или, – говоря по-новому, – в эмоциях таится особая, не сказанная, не охваченная рассуждением, но оттого лишь более драгоценная мудрость. Символизм внес недоговоренность; он пользуется антитезами и сравнениями, один из членов которых должно довести до полной выразительности уже воображение самого читателя. Преобладает музыкальное начало. Лирика – музыка. Широкий простор для новых ритмических сочетаний, возвращение рифмы к изначальному ассонансу, чтобы этим путем открыть более свободную игру созвучий, подчинение синтаксиса гармонии – все это как бы отменяет сказуемое слишком прозаическое и рациональное, навязывающее такую определенность, какой нет и не должно быть в том самом дорогом и ценном, что родит поэтическое вдохновение.
В одном из последних своих сборников – «Хоровод времен» – Бальмонт дает такое исключительно лирическое определение своему творчеству. Стихи эти названы «Играть»:
Играть на скрипке людских рыданий,
На тайной флейте своих же болей,
И быть воздушным, как миг свиданий,
И нежным-нежным, как цвет магнолий.
А после? – После – не существует.
Всегда есть только – теперь, сейчас,
Мгновенье вечно благовествует,
Секунда – атом, живой алмаз.
Мы расцветаем, мы отцветаем,
Без сожаленья, когда не мыслим.
И мы страдаем, и мы рыдаем,
Когда считаем, когда мы числим.
Касайся флейты, играй на скрипке,
Укрась алмазом вверху смычок,
Сплети в гирлянду свои ошибки
И кинь их в пляску, в намек, в прыжок.
В этих стихах так сильно выражены мгновенность лирического замысла, его вырванность из связи событий, в которых всегда есть доля логической последовательности. Впечатлительность роднит самое преходящее, почти случайное состояние души с какой-то вечной правдой. Это сказано в другом, тоже программном, стихотворении, озаглавленном «Свирельник», из сборника «Зеленый Вертоград». Бальмонт говорит о поэте:
Он испил священной крови из раскрывшихся сердец.
Он отведал меда мыслей, что как вишенье цвели,
Что как яблони светились и желаньем сердце жгли.
В белом свете, в алом свете, в синем, в желто-золотом,
Был он в радугах вселенских освещен Огнем и Льдом.
Заглянул он в голубую опрокинутость зеркал,
Слышал шепоты столетий и нашел, чего искал.
Семиствольную цевницу он вознес, поет свирель.
Вековую он гробницу превращает в колыбель.
Лиризм не только основная стихия Бальмонта: все десять томов его стихотворений – лирика и только лирика; изливается капля за каплей и слеза за слезой душа поэта в неперестающей и единой, но все же дробной до последней и крайней раздробленности песне и не может излиться; не хватает слов, не хватает созвучий, не сказать всего; главное, не сосредоточиться Бальмонту на одной какой-нибудь определенной выразительности, потому что без конца роятся в нем рифмы, и ритмы, и перезвоны, и мечты. На каждую тему у Бальмонта можно найти по несколько стихотворений. Сколько их об одном только солнце! А происходит это именно оттого, что не сдерживает одно какое-нибудь сказуемое. И солнце – символ, и земля – символ, и огонь – символ, и ветер – символ, и то же самое – камни драгоценные, цвета и цветы, и они – символы. И все эти разные и пестрые символы можно нанизать на одну нитку, они все составляют частички одной бесконечной вереницы; одна душа их воссоздает и холит, но все-таки нет им Определенного сказуемого, потому что таких сказуемых рождается великое множество. В этой как бы необузданности творчества Бальмонта, в этой непрерывности его поэтического творчества – даже опасность. Ради строгого художественного совершенства хочется подчас остановить его, напомнить об отделанности. Часто бывает, что распоется поэт и становится весь во власти своих рифм и ритмов; тогда-то множатся сборники, но не возрастает само поэтическое создание, а только расплывается. Не оттого ли его последние сборники не вызывают восторга, равного тому, что выпал на долю «Будем как солнце» и «Только любовь»? Не оттого ли они не обсуждаются так горячо, как ранний сборник «Горящие здания»?
Легко подслушать у самого Бальмонта признания, которые как будто отвечают на поставленные вопросы: да, слишком распелся, не собрал все свое творение с такой жестокой к себе требовательностью, какая заставила Бодлера все свои силы положить лишь на два сборника: один – в стихах, другой – в прозе, или друга его, далекого, но самого близкого, Эдгара По, по три раза возвращаться к своему юношескому сборнику и после этой неустанной, трудолюбивой, строго критической выучки создать «Ворона» и «Колокольчики». Не поспевал за порывистым творчеством Бальмонта интерес его поклонников; они наскоро, только скользя, пробежали его последующие сборники и сказали себе: не то, не слабнет ли талант? Но сам Бальмонт ответил им:
Я не устану быть живым:
Ручей поет, я – вечно с ним,
Заря горит, она – во мне,
Я-в вечно творческом Огне, —
а сборником дальше, собирая свои стихи, названные «Былинками», Бальмонт начал их строками, озаглавленными «Как я пишу стихи».
Рождается внезапная строка,
За ней встает немедленно другая,
Мелькает третья ей издалека,
Четвертая смеется, набегая,
И пятая, и после, и потом,
Откуда, сколько, – я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом,
И, право, никогда не сочиняю.
Критику-педанту манна небесная это признание. Поэт не размышлял над стихом. «Нет, ты поразмысли», – возражает на это педант-узкоум самодовольно и самоуверенно. Увы, не было бы этого лирического отдаванья себя во власть «набегающим строкам», и особенно самой первой, той, что набежала, еще не согнувши свою ветреную и мудрую вместе с тем голову ни под какой стяг уже сложившегося ритма или уже готовой, требующей созвучия рифмы – не было бы и Бальмонта. Первая строка может в процессе отделки перестать быть первой, строчки, конечно, можно потом переставить; но все же именно первая строка – священна, и размышлять над ней – только портить. И Бальмонт не рассуждает. Меньше чем кто-либо.
Бегут и набегают, как валуны в потоке, удачные и совершенные и менее совершенные, не такие прекрасные стихи:
Вновь и вновь струятся строки
Звучно-сладостных стихов,
Снова зыблются намеки,
Вновь ищу во тьме грехов.
Другие электронные книги автора Евгений Васильевич Аничков
Другие аудиокниги автора Евгений Васильевич Аничков
Эстетика




 3.67
3.67