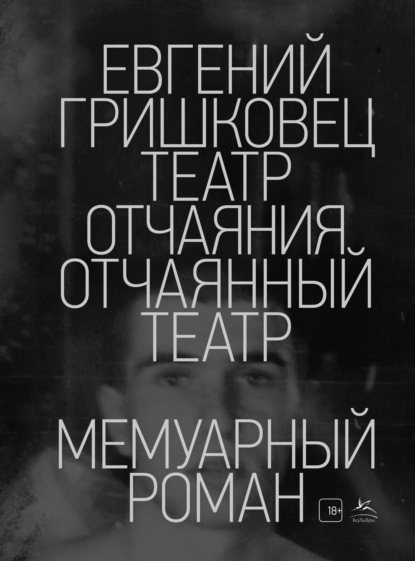По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Театр отчаяния. Отчаянный театр
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эти спектакли совсем не ассоциировались у меня с театром, который стоял в центре города и в котором я бывал. Театр на пластинках и в радиоприёмнике был как кино, но без изображения. Изображение возникало само собой в воображении. В областном же театре всё было конкретно. Воображение в нём отключалось. Ему не было там места. Актёры, голоса, костюмы, декорации, звуки, воздух и свет были конкретными и фальшивыми. Было видно, как всё сделано.
То есть театр у микрофона – радиотеатр и театр на виниловых пластинках – не был для меня театром как таковым.
Телеспектакли в целом я не любил. Они были для меня как какое-то недоделанное кино с картонными стенами и с фотографиями в окнах вместо настоящей жизни. Но некоторые из таких телепостановок мне нравились. Обыкновенно они тоже были про заграницу и часто детективными. В этих чёрно-белых телеспектаклях царила сладкая, неспешная, кажущаяся умной и глубокомысленной, скука. Прекрасные актёры с явным удовольствием участвовали в этом. Было видно, что им нравится изображать медлительных английских аристократов, исполнять сдержанные непростые жесты, носить длинные или очень короткие платья, смокинги, шейные платки, тонкие перчатки и трости. Они аппетитно обращались друг к другу: сэр, мисс, миссис, мистер, мэм, босс, шеф, Джон, Гарри или Сьюзен. А какими страшными или смешными у них получались персонажи Диккенса! Другими англичан и представить себе было невозможно.
Французы в наших телеспектаклях той поры были другими. Преимущественно помятые, громкие и с шарфами. Актёры смаковали: месьё, мадемуазель, мадам, гарсон, патрон, Франсуа, Клодин или Люсиль. В этих телевизионных спектаклях интерьеры воплощали чьи-то фантазии о неизвестных нам иностранных домах, дворцах, коттеджах, отелях, конторах и офисах. Герои в этих интерьерах много вальяжно пили таинственные напитки из каких-то неведомых бутылок. Вкусно произносилось: джин, виски, бренди, кальвадос, ром, сухой мартини, чинзано… Как выяснилось позже, пилось всё не так, как это в действительности пьётся, и совсем не из такой, как надо, посуды. Интерьеры оказались наивными, а реальные англичане совсем не медленными и не степенными. Но с точки зрения правды и достоверности я тогда те спектакли не оценивал. В них воплотились и мои тогдашние чудесные представления о Старом Свете, а многие иллюзии и фантазии были продиктованы именно теми самыми телеспектаклями.
По телевизору показывали и спектакли, которые происходили на настоящей театральной сцене, их снимали для телевидения в присутствии публики. Зал реагировал, был слышен смех, аплодисменты. Некоторые из них я любил и смотрел неоднократно. Но они почему-то не осознавались мною драматическим театром, хотя это был самый что ни на есть театр. Почему не осознавались? Не понимаю до сих пор. Возможно, по той причине, что в них играли такие гениальные актёры и играли так восхитительно, что все остальные общие с Кемеровским областным драмтеатром признаки просто становились несущественны и незаметны. А ещё я видел те спектакли по телевизору, а значит, они происходили в недосягаемом мире.
Всё это я написал, чтобы было ясно, что я ничего не ждал от театра, который был рядом и доступен. Наоборот.
Однако мне довелось побывать в нашем областном театре до моих последних каникул ещё раз. Я нарушил данное себе слово больше туда не ходить никогда. До сих пор вспоминаю тот поход в театр, и волна жгучего стыда накрывает меня.
Тогда во всю стояли холода, и снега накопилось в городе много. Уже началось общее ожидание Нового года, в школе же было скучно и уныло. Наверное, та скука и послужила одной из причин моего решения всё же сходить в театр. Скука и что-то во мне недоброе – какое-то юношеское ехидство и задиристость.
Так вот, в один очень скучный зимний день, точнее, утром скучного школьного дня, на невыносимо скучный урок физики или химии ворвалась наша учительница литературы. Женщина яркая, пышная, громкая и весьма жизнерадостная. Думаю, она считалась красоткой, просто для нас она была совсем взрослой, старше наших родителей, можно сказать пожилой. Она всегда благоухала, кабинет литературы благоухал. Носила она только яркие радостные платья и такие же причёски. Бусы были всегда. Помню её редчайшей голубизны глаза. Свой предмет, книги и писателей она любила страстно. Нас любила существенно меньше, потому что мы не проявляли преданности к её предмету. Многие относились к литературе как к досадной трате времени. Я и сам часто огорчал нашу учительницу литературы. Теперь об этом жалею. Я регулярно намеренно делал провокационные заявления, вступал с ней в спор и устраивал из урока балаган. Оригинальничал. Она же понимала, что обсуждаемое на уроке произведение я прочёл, и прочёл глубоко, что я валяю дурака, но, как правило, велась на мои провокации. Однако плохих оценок мне не ставила, директору не жаловалась, родителей в школу не вызывала. Чего-то от меня ждала.
Она могла запросто заплакать, читая нам стихи. Любые. Хоть Некрасова, хоть Маяковского, хоть Есенина. Говорила всегда нараспев и всё интонировала, проговаривала каждое слово отчётливо и выразительно. У меня постоянно возникали сомнения, а не перепутала ли она нас с младшими классами? Она обращалась к нам, особенно к мальчикам, как к совсем несмышлёным детям. Думаю, она жила в каком-то своём чудесном мире, не замечая серых пятиэтажек за окном и не касаясь туфлями коричневого дощатого школьного пола. Она происходила из какой-то иной эпохи. Вспоминаю её теперь с благодарной радостью, а тогда меня многое в ней раздражало. Я не хотел сюсюкать по поводу прочитанных книг или воспроизводить штампы из учебника, отказывался читать стихи с той интонацией, на которой она настаивала. Единственное, что я в ней тогда уважал, – это очевидная преданность и любовь к литературе. Весь остальной её яркий нездешний романтизм казался мне смешным.
И вот наша учительница литературы, благоухая и сверкая голубыми глазами, ворвалась в класс на урок каких-то естественных наук. Она была радостнее обычного. Она явно несла какую-то чудесную весть. Сюрприз. Подарок.
– Мои хорошие! – сказала она, нараспев, глубоким грудным голосом. – Нам несказанно посчастливилось! Мне любезно предложили… Совершенно безвозмездно… Двадцать билетов на дивный спектакль. На гастроли приезжает Новосибирский театр юного зрителя и будет давать свою премьеру… Сирано де Бержерак.
Понятное дело, что нашлись те, кто этого названия не слышал прежде и громко хохотнул. Таких нашлось полкласса. Да и те, кто знал это название, хохотнули из стадной солидарности. Отыскался один умник, который не удержался и брякнул: «Сирано Дебержесрак?» Опять был смех.
Но наша литераторша привычно пропустила всё мимо ушей и, кажется, ничего не заметила.
– Пойдут первые двадцать желающих из всех десятых классов – улыбаясь, сказала она. – Загляните ко мне на перемене и запишитесь. Вас ждёт упоительнейшее событие.
Ни на какой спектакль я идти не собирался, хотя знал и очень любил чудесную пьесу Ростана. Я живо представил себе некоего артиста из Новосибирска с наклеенным огромным носом, в дурацком костюме, в шляпе с пером и с бутафорской шпагой. Мне этого совсем не хотелось видеть.
Но вдруг я услышал сзади разговор нашего классного заводилы и лидера и классной же признанной красотки. Разговор прозвучал шёпотом, но на весь класс: «А давай сходим поприкалываемся!» – «А давай…»
В итоге к концу урока вся компания тех, кто покуривал, пробовал портвейн и собирался на квартирах, захотела пойти в театр. Жаждущий всех радостей жизни юноша тут же во мне победил. И я первым записался на спектакль.
К походу на Сирано я подготовил всё своё презрение к театру, всё своё ехидство, желчь и острословие. Не будучи циничным, я решил быть в театре таковым. Себе я сам тогда не признавался, но, по совести сказать, хотел произвести впечатление на одноклассников, а особенно на пару одноклассниц. Оделся я в театр неуместно ярко.
Вели себя мы все тогда в театре отвратительно. Бедная наша, незабвенная учительница литературы! Она пришла наряднее всех, в предвкушении романтического спектакля. С ней были какие-то дамы, видимо, её коллеги из других школ. Но мы были безжалостны и жестоки. Мы испортили нашей учительнице праздник.
Начали мы плохо себя вести ещё в гардеробе. Шумели, хохотали. Продолжили в буфете, откуда нас с трудом и после третьего звонка окриками загнали в зал, где свет уже угасал, а зрители притихли в ожидании.
Зал был не полон, но с первого взгляда я заметил, что публика другая, не такая, как на «На дне» нашей областной драмы. В этот раз в театр пришли люди моложе и разноцветнее одетые. Увы, я не успел их хорошо рассмотреть, да и не хотел. Мне заранее всё было ясно, и я не намерен был менять своё твёрдое мнение насчёт театра как явления. Сомнений у меня не было. Я пришёл глумиться.
Кроме другой публики на этом спектакле меня сильно удивило то, что занавес ещё до начала был открыт, а ярко освещённая сцена не была загромождена декорациями. Наоборот, она была практически пуста.
К сожалению, я почти не помню тот спектакль. С самого начала я стал всё язвительно комментировать, часто вызывая смех моих одноклассников и хихиканье одноклассниц. Текст пьесы я знал почти наизусть. Перечёл нарочно накануне, поэтому мог раньше актёров шёпотом говорить реплики, а также, на мой взгляд, остроумно коверкать их. Я очень этим увлёкся.
А спектакль был необычный какой-то. В нём определённо что-то было. Но я не мог тогда это воспринять. Плюс, к огромному предубеждению, я ещё был весь в коллективном хулиганско-негативистском кураже. Даже если бы мне понравилось то, что происходит на сцене, я бы не смог в этом сознаться ни себе, ни тем более одноклассникам. Во мне определённо сработал весь постыдный ужас, и со мной случилась дикость коллективного посещения культурного события, помноженная на юность.
Про спектакль помню только, что актёры в нём не были одеты в нелепые исторические костюмы. Многие играли в джинсах и свитерах. Все молодые. У Сирано не было наклеенного носа, и он один из всех был облачён в белую рубашку с объёмными рукавами. В спектакле звучало много музыки, кажется, хорошей. Персонажи постоянно танцевали, не очень хорошо.
Помню ещё, что Сирано после каждого существенного монолога выходил на середину сцены, молча проводил пальцем по лицу и на лице оставалась цветная полоса, то синяя, то красная, то белая, а потом он вытирал ладонь о рубашку. К концу первого акта он весь был измазан и исполосован. В этом тоже точно что-то было. В какие-то моменты я даже хотел присмотреться, прислушаться и вникнуть в суть спектакля. Но не мог.
На меня выразительно смотрели зрители, сидевшие по сторонам, те, что сидели впереди, оглядывались, шикали. К нам приходили бабушки в униформе. Мы затихали, но, стоило им уйти, мы взрывались смехом.
В конце первого акта на сцене оказалось много персонажей, музыка зазвучала громче прежнего, и начался большой, многофигурный танец. Разгорячённые мои одноклассники, раззадоренные моими комментариями и ехидством, стали хлопать в такт танцу, а один из них, футболист с самого детства, вдруг вскочил, громко, длинно свистнул и стал лихо бить в ладоши, прикрикивая: «Давай, давай, родные! Оп-па! Оп-па! Давай, жги!» Это было уже слишком. Благо тут первый акт закончился.
Выходили мы из зала в окружении театральных бабушек. Учительница литературы стояла в стороне в слезах. Пришёл какой-то крупный мужчина в коричневом костюме, ругал нас, а потом объявил, что не пустит всю нашу компанию не только досматривать спектакль, но и вообще не пустит в театр. Мы хорохорились, однако не возражали.
В какой-то момент наша учительница литературы что-то сказала мужчине в коричневом на ухо. Тот коротко поразмыслил и приказал девочкам пойти в зал на свои места. Лидер и заводила класса тут же возопил о прощении и сразу был прощён. Следом простили ещё пару ребят. В итоге покинуть театр были приговорены футболист и я. Я был изгнан.
Мы пошли в гардероб молча. По пути футболист куда-то исчез. На лестнице мне навстречу шагнул молодой мужчина. Я узнал его. Он во время спектакля сидел впереди и несколько раз оглядывался, чтобы выразительно на меня посмотреть. Я остановился перед ним. Он гневно скривил рот и сказал: «Дешёвый же ты… пижон! Жаль, что заткнуть не мог твой поганый рот…» Тут молодая женщина, рядом, сказала: «Да не трожь ты его…» А он ещё мгновение посверлил меня взглядом и добавил: «Лучше вали отсюда! Не мешай людям».
Тогда я твёрдо решил не только поставить крест на театре, но и вовсе исключить его из своей жизни. Само слово мне стало противно. Оно напоминало мне теперь не столько о фальши, но после «Сирано де Бержерака» ещё и моём собственно позоре, постыдной и пошлой серости, которой я так глупо поддался.
То, что я больше никогда в жизни не пойду ни в какой театр, мною было решено окончательно. При том моём ощущении времени я приговорил себя к непосещению театра на много веков.
Вот с таким отношением к драматическому театру я отправился на свои последние каникулы.
Те зимние каникулы я очень хотел провести в Ленинграде. В этом дивном городе мне посчастливилось прожить с родителями три года. Там я пошёл в первый класс в школу. Папа учился в аспирантуре, поэтому мы в Ленинград и попали. Но его учёба закончилась, и, когда мне исполнилось девять лет, мы вернулись обратно в Сибирь. С тех пор я в Ленинграде не был. У меня о нём оставались только фантастические воспоминания.
Я с сентября, с самого начала учебного года, планировал поездку. Родители согласились оплатить эту мою мечту. Там, на берегах Невы, у них всё ещё были приятели и коллеги, которые готовы были меня приютить и за мной приглядеть. Самолётом лететь выходило дорого, но и поезд меня не пугал. Трое суток в один конец. На сам Ленинград от каникул оставалось от силы четыре дня, однако меня всё устраивало.
Вот только мне нужна была компания. Один я ехать не хотел. Не то чтобы боялся, но робел. Опасался оказаться в неловкой ситуации, глупо провинциально выглядеть. Нужен был кто-то. И такой нашёлся. Один из немногих моих нешкольных приятелей, с которым я хотя бы мог слушать одну и ту же музыку, тоже решил ехать в Ленинград. Мы строили планы. Мечтали, грезили тем, что, возможно, попадём на какой-нибудь концерт «Аквариума» или пойдём в знаменитое, по слухам, кафе и увидим там самого Гребенщикова, и не только. Было ещё много подобных фантазий. Но за пару недель до поездки моему приятелю запретили ехать в Ленинград. Нового компаньона искать было поздно.
Я горевал до слёз. Плакал. Но, к радости родителей, от поездки в Ленинград отказался. Им тревожно было отпускать меня так далеко. Я же чувствовал себя вполне взрослым и самостоятельным. Но самую малость недостаточно опытным, чтобы пуститься в такой путь одному.
Досадно было ещё и потому, что я конечно же хвастался в классе, что поеду на каникулах в Ленинград. Мысль о том, что придётся остаться в городе, разрывала сердце, а сам город раздражал всем своим существом. Что мне было в нём делать целых десять дней? Разнообразный зимний спорт меня не интересовал. Бегать на лыжах за городом или кататься на коньках? Этого я не любил. Вообще к спорту я был равнодушен. А к увлечению им старался выказать высокомерие. Но и обложиться книгами, всласть обчитаться тоже не хотелось. Я настроился на путешествие, на какие-то открытия и новые впечатления. Короче, я ныл.
Спасительная идея поехать на каникулы в Томск пришла не мне. Её предложил отец. Я сначала её отверг. Что Томск в сравнении с Ленинградом? Томск был рядом, всего триста километров. Он всегда там был. Однако я в Томске прежде не бывал.
А с Томском в нашей семье было связано много историй и мифов. Дед и бабушка когда-то учились и закончили Томский государственный университет. Там они познакомились. Про Томск они говорили с упоением. Этот город был для них самым счастливым местом в мире. Там они были студентами, там осталась их юность.
Они говорили о Томске как о городе старинном, красивом, изящном и содержательном. В сравнении с промышленным, новым и угловатым Кемерово, который возник, вырос и окреп у них на глазах, наполнился дымом заводов и химкомбинатов, а также заселился теми, кто на этих комбинатах и заводах работал, Томск был городом студентов, профессоров, библиотек, учёных, лабораторий, белых лабораторных халатов, открытий, творчества, физиков и лириков.
Там, в Томске, дедушка и бабушка вкусили науки и мечтаний, с ней связанных. Это вне Томска их научные мечты и амбиции рухнули. Жизнь заставила трудиться совсем на другой ниве. На ниве учительствования в средней школе. А Томск так и остался местом прекрасных помыслов, больших перспектив и светлых надежд. К тому же многие их однокашники в Томске продолжали жить, мало того, стали со временем учёными, преподавателями, доцентами и профессорами.
Бабушка любила говорить, что деда в университете все ценили, что он был самым талантливым и ярким, что если бы не война, не тяжёлое ранение, не рождение потом моего отца, но, главное, не дедов взрывной, задиристый и неуживчивый характер… Если бы не его правдолюбие, то конечно же… Потому что те, кто деду в подмётки не годились, но не воевали, были усидчивы и послушны, держали язык за зубами… Вот они-то и добились высот в науке и преподавании.
Кстати, бабушка и дед поддерживали крепкие отношения со многими своими однокашниками, переписывались, созванивались, бывали друг у друга в гостях. Я их не раз видел. Тех самых, которые деду в подмётки не годились. Они правда деда любили и нежно относились к бабушке. То есть мне было к кому ехать в Томск. Короче говоря, я в конце концов решил туда поехать, хоть и не вполне охотно и без каких-либо ожиданий и предвкушений.
Билеты в Ленинград, заранее купленные, лежавшие на моём письменном столе для того, чтобы ими можно было любоваться, я сдал. В Томск можно было поехать поездом или автобусом. Вариантов хватало. Поэтому заранее туда билеты я брать не стал. Думал купить их накануне поездки. Ещё оставались какие-то смутные надежды на что-нибудь иное, более интересное.
И вот за несколько дней до намеченного выезда в город студенческой юности моих деда и бабушки я заговорил на перемене с одним моим одноклассником, Пашей, с которым мы то ссорились, то мирились, но в целом относились друг к другу уважительно. Его родители, как и мои, работали в Высшей школе, преподавали, это как-то нас сближало. Заговорили мы о планах на каникулы.
Я сказал, что передумал ехать в Ленинград, потому что там в это время плохая погода и делать там нечего, в этом городе на Неве. Вот и подумал, не поехать ли мне в Томск, потому что Томск – это здорово, весело и интересно. Паша очень удивился, обрадовался и сообщил, что собирается сам поехать с двоюродной своей сестрой в Томск, потому что его родители там когда-то учились и хотят, чтобы сам Паша пошёл по их стопам и поступил в Томский государственный университет. Так что он с сестрой намерен поехать, посмотреть город и университет. Паша также поведал, что в Томске бывал неоднократно, что город действительно замечательный, но он хочет посмотреть на него свежим взглядом и с прицелом на будущее.
У меня никаких планов и прицелов на будущее, связанных с Томском, не было, но я тоже обрадовался. В компании ехать веселее. Вот тогда я подумал о грядущей поездке не без удовольствия.