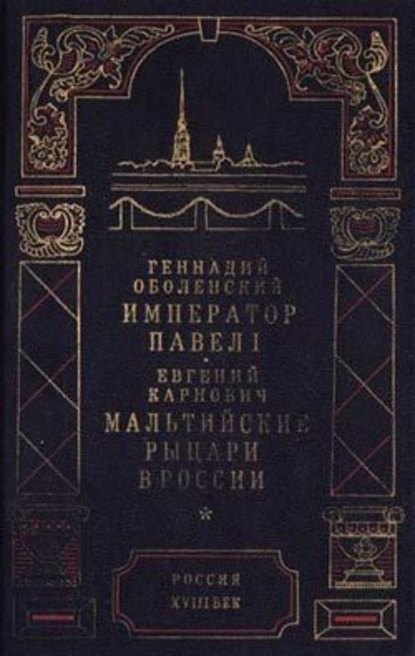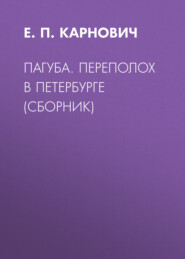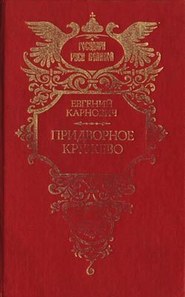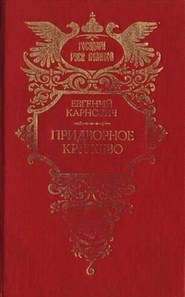По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мальтийские рыцари в России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По окончании вопросов принимаемый клал правую руку на раскрытый «Служебник» и торжественно обещался до конца своей жизни оказывать безусловное послушание начальнику, который будет ему дан от ордена или великого магистра, жить без всякой собственности и блюсти целомудрие. На первый раз в знак послушания он по приказанию своего принимателя должен был отнести «Служебник» к престолу и принести его оттуда снова. Затем должен был прочитать вслух подряд 150 раз «Отче наш» или столько же раз канон Богородице.
По исполнении всего этого приниматель показывал посвящаемому вервие, бич, колье, гвоздь, столб и крест, упоминая, какое значение имели эти предметы при страданиях Христовых, и внушал, что обо всем этом он должен вспоминать сколь возможно чаще, и в заключение клал принимаемому вервие на шею, говоря, что это ярмо неволи, которое он должен носить с полною покорностью. Затем рыцари приступали к новициату, облекали его в орденское одеяние при пении псалмов, и каждый троекратно целовал его в губы, как своего нового собрата.
Императору Павлу должна была нравиться подобная рыцарская обрядность, так как он и при пожаловании им голштинского ордена св. Анны из своих рук всегда соблюдал существенный рыцарский обряд; получивший орден становился на колени перед императором, который три раза ударял его по плечу своею обнаженною шпагою.
В 1800 году появилась напечатанная в С. – Петербурге «в императорской» типографии книга под следующим заглавием: «Уложение священного воинского ордена святого Иоанна Иерусалимского, вновь сочиненное по повелению священного генерального капитула, собранного в 1776 году, под началием его преимущественного высочества великого магистра, брата Емануила де-Рогана. В Мальте 1782 года напечатанное, ныне же, по высочайшему его императорского величества Павла Петровича повелению, с языков итальянского, латинского и французского на российский переведенное». Книга эта, кроме постановлений, изданных орденским капитулом, и указов, данных великими магистрами, содержит в себе папские буллы и жалованные ордену папами грамоты. Вся эта книга проникнута беспредельною преданностию к святейшему престолу и римско-католической церкви. Преданность эта является вообще отличительной чертою книги, в особенности же в молитвах, в ней приводимых. Рыцари молились за папу, кардиналов и прелатов. Все это должно было удивлять читателя, знавшего, что главою ордена был русский император. С своей стороны, переводчики, как надобно предполагать, хотели смягчить странность таких отношений иноверного государя к папе тем, что слово «католический» заменили словом «кафолический», как будто подразумевая восточную церковь, но при такой уловке вся несообразность выступала еще ярче. Самое предисловие к подобной книге поражало странностью. Упомянув о том, что император Павел I принял сан великого магистра, трое переводчиков этой книги, состоявших в ведомстве иностранной коллегии, обращались к императору с следующими пожеланиями: «буди в обладателях царств болий, яко же Иоанн Креститель, защитник сего ордена. Крестом Предтечи побеждай, сокрушай, низлагай, поражай всех супостатов, измождай плоти их, да дух спасается и буди им страшен паче всех царей земных». Между тем в самой книге все желаемые переводчиками победы, сокрушения, низложения, поражения, измождения и устрашения относились исключительно к торжеству и благоденствию католичества, и, как на венец всех рыцарских добродетелей, указывалось в книге на готовность членов ордена положить душу за други своя, сиречь католиков, т. е. собственно католиков – последователей римской, а не какой-либо другой христианской церкви.
Появление этой книги возбудило тревогу и опасения среди русского духовенства…
XXI
Стоял невыносимо жаркий июньский день, и сильно пекло солнце с ярко-голубого неба, по которому не пробегало ни облачка в то время, когда по дороге от Петербурга к Павловску медленно двигался какой-то странный поезд. Открывал его всадник в черном полукафтанье, поверх которого был надет красный суконный супервест, наподобие рыцарских лат, а сверху была наброшена черная мантия. На груди всадника виднелся большой черный круг с изображением на нем белого осьмиконечного креста. Всадник этот держал в руках серебряный маршальский жезл. Голова его была покрыта небольшим бархатным беретом, над которым развевались черные, красные и белые страусовые перья. За этим всадником следовал конный литаврщик в серебряных латах и в серебряном шишаке с черным волосяным гребнем, а за ним несколько трубачей, одетых так же, как и он, и почти безумолчно наигрывавших марш, напоминавший по своему мотиву торжественный церковный гимн. За трубачами следовала придворная вызолоченная с зеркальными стеклами карета. В ней на первом месте сидел с непокрытою напудренною головою какой-то важный господин, одетый в черную суконную мантию. На малиновой бархатной подушке с золотыми кистями, положенной на его коленах, он держал большую серебряную коробку. Напротив него на переднем месте в карете сидели двое других, одетых так же, как он, в черные мантии с белыми крестами на плече. Карета была запряжена шестеркою прекрасных в богатой позолоченной упряжке коней, которых вели под уздцы пудреные в треугольных шляпах лакеи, в красных ливреях с золотыми галунами. В другой такой же карете сидели поезжане, одетые также в черные мантии; из них занимавший первое место держал на коленях положенный на подушке меч в золотых ножнах и с золотою рукояткой; а в третьей такой же карете, ехавшей на первом месте, вез на подушке высокую корону, состоявшую из нескольких золотых суженных кверху под крестом золотых полос, осыпанных драгоценными камнями. За этой каретой следовала блиставшая позолотой четырехместная коляска. В ней сидел господин в черной мантии и в таком же берете, какой был на голове у всадника, ехавшего впереди поезда. Он держал в руках большое на черном древке красное знамя с белым осьмиконечным крестом. За коляской следовало несколько карет, в которых сидели одни только мужчины, одетые в черные мантии. Отряд кавалергардов в блестящих серебряных латах и таких же шишаках замыкал поезд. Его беспрестанно обгоняли кареты, которые спешно катили в Павловск и в которых все поезжане были одеты или в черные мантии, или в красные супервесты.
Павловск, недавно основанный великим князем Павлом Петровичем, считался имением супруги его великой княгини Марии Федоровны и был ее любимым местопребыванием. Павловск, в котором хозяйкою была императрица Мария Федоровна, резко отличался от суровой Гатчины. В Павловске вместо казарм, манежей и кордегардии был устроен розовый павильон наподобие павильона, существовавшего в Трианоне. В павловском парке были и искусственные развалины, и швейцарские хижины, и мельница с фермою, заведенною по образцу тирольских ферм. Расположение для некоторой части садов, а также устройство больших террас были заимствованы из Италии; большая аллея, шедшая от дворца, напоминала аллею, бывшую в Фонтенбло. Все это было далеко от той однообразной, скроенной на прусский лад внешности, какою отличалась Гатчина, где беспрестанно слышались барабаны, рожки и командные возгласы, тогда как Павловск каждый вечер оживлялся концертами, балами, спектаклями и увеселительными поездками с звонким и веселым смехом молоденьких женщин.
Сделавшись императором, Павел I проводил, по обыкновению, некоторую часть летнего времени и в этой новой загородной резиденции, как бы в гостях у своей супруги, а теперь туда из Петербурга, накануне Иванова дня, торжественно везли, по повелению государя, хранившиеся в бриллиантовой комнате Зимнего дворца регалии великого магистра Мальтийского ордена, так как на этот раз в Павловске должно было происходить обычное у мальтийских рыцарей празднование памяти Иоанна Крестителя, покровителя ордена. Туда же на празднество должны были приехать и все жившие в Петербурге кавалеры, а их было уже немало, так как не проходило почти ни одного дня, чтобы император не жаловал новых кавалеров и командоров. В Павловск предписано было также собираться для парада гвардейским полкам. Вследствие этого пустынная в обыкновенное время дорога между столицею и Павловском была теперь чрезвычайно оживлена. Густая пыль стояла над нею, и задыхавшиеся от жары в каретах и в своих не летних нарядах кавалеры были крайне недовольны изнурительною поездкою, опасаясь вдобавок к этому, что они какою-нибудь малейшею оплошностию в соблюдении всех орденских порядков и обрядов навлекут на себя, чего доброго, грозный гнев великого магистра. Каждый из них с затаенным в душе беспокойством думал только о том, чтобы поскорее и счастливо отбыть предстоящее торжество и затем благополучно возвратиться восвояси. Встречавшиеся по дороге с поездом проезжие и прохожие почтительно снимали перед ним шапки и в недоумении смотрели ему вслед, не зная, что такое происходит перед ними.
Когда поезд стал приближаться к Павловску, собравшиеся в тамошнем дворце кавалеры вышли к нему навстречу попарно и по назначенному заранее между ними распределению приняли привезенные мальтийские регалии: государственную печать с изображением великого магистра Павла Петровича, находившуюся в серебряной коробке, меч, называвшийся «кинжалом веры», корону и знамя. Построенные на площади перед дворцом полки отдали регалиям великого магистра воинскую честь, подобавшую по тогдашним артикулам коронованным особам, и затем регалии при бое барабанов и при звуках музыки были торжественно отнесены в главную дворцовую залу.
Что же будет здесь делаться? В чем же будет состоять праздник? – спрашивал каждый, смотря на шедшие перед дворцом загадочные приготовления. На находящуюся перед дворцом площадь приехало несколько возов с дровами, хворостом и ельником, и из этих материалов рабочие стали складывать, по указанию одного из членов орденского капитула, большие костры. Костры были вышиною аршина в два, а в длину и ширину имели полтора аршина. Поверх их были положены венки из цветов, а бока их были убраны гирляндами из ельника. Таких костров было приготовлено девять. В некотором от них расстоянии разбили палатку из полотна с черными, белыми и красными полосами. Около пяти часов вечера приведены были на дворцовую площадь гвардейские полки, которые и выстроились по трем сторонам площади. В этом строю особенно бросались в глаза тогдашние гусары в так называвшихся «барсах». На плечах у гусаров вместо ментиков были накинуты барсовые шкуры головою вниз, подбитые красным сукном с серебряным галуном и такою же застежкою, состоявшею из круглого серебряного медальона с вензелем императора и сдерживавшею на груди гусара одну из лап барса с его хвостом. Гусарская сбруя была черная, отделанная серебряными бляхами. Несмотря на множество собранных здесь людей, на площади царила мертвая тишина в ожидании какого-то необыкновенного зрелища. Ровно в семь часов вечера все мальтийские кавалеры, прибывшие в Павловск, явились на площадь и, став попарно, вошли во дворец. Спустя несколько времени они в том же порядке стали выходить оттуда с главного подъезда, причем младшие кавалеры несли в руках зажженные факелы, а старшие несли их незажженными. В числе старших кавалеров были и духовные лица, и между ними первое место занимал архиепископ Амвросий, исправлявший при великом магистре должность «призрителя бедных». Торжественным и медленным шагом выступили на площадь мальтийские рыцари в беретах с перьями, в красных супервестах с накинутыми поверх их черными мантиями; такие же мантии, но без супервестов и беретов были надеты и на духовных особ. В замке рыцарей в одежде великого магистра с короною на голове шествовал император, держа в руках незажженный факел. Отступая несколько шагов от него, шли его «оруженосцы», с одной стороны граф Иван Павлович Кутайсов, а с другой – князь Владимир Петрович Долгоруков, шеф кавалергардского корпуса, с обнаженным палашом. За этой процессиею показалась императрица с ее семейством в сопровождении многочисленной и блестящей свиты. Она вошла в приготовленную для нее на площади палатку, чтобы смотреть оттуда на долженствовавшую происходить церемонию.
В глубоком молчании, с благоговейным выражением на лицах двигались по площади мальтийские кавалеры. Исполняя установившийся в ордене святого Иоанна Иерусалимского обычай – праздновать канун Иванова дня, они, идя по два в ряд, обошли все девять костров по три раза. Солдатики с удивлением посматривали на эту невиданную еще ими «экзерцицию». После троекратного обхода костров император, великий князь Александр Павлович и граф Салтыков зажгли у младших кавалеров свои факелы и потом начали зажигать ими разложенные на площади костры, или так называемые «жертвенники», причем им помогали младшие кавалеры, обступившие со всех сторон костры. От загоревшегося ельника поднялись клубы черного дыма, но, когда дым рассеялся, костры начали гореть ярким пламенем. Кавалеры стояли молча и неподвижно около костров, пока костры, обгорев, не стали разваливаться, и тогда они с тою же торжественностию и тем же порядком возвратились во дворец, где в залах, по которым они проходили, были расставлены кавалергарды.
Рано утром в самый день праздника император произвел парад войскам, собравшимся в Павловске, затем в дворцовой церкви отслужена была обедня. Все ожидали каких-нибудь дальнейших торжеств, но они были отменены, не было даже парадного обеда. Государь смотрел пасмурно, и нетрудно было догадаться, что он был чем-то недоволен или сильно озабочен.
Наступил тихий летний вечер, пробили зорю, и позаморившиеся вчерашним походом и сегодняшним парадом солдаты, покончив слишком нелегкую в ту пору чистку амуниции и оружия, собирались уже отдохнуть на привале, как вдруг раздалась тревога, забили барабаны и завизжали рожки. Офицеры и солдаты опрометью кинулись по своим местам. Метавшиеся из стороны в сторону адъютанты объявили приказ государя, чтобы находившиеся в Павловске войска через полчаса выступили в поход по направлению к Петергофу. Все встрепенулись, засуетились, забегали, и приказ государя был исполнен в точности без малейшего промедления. Длинной вереницей потянулись из Павловска по большой дороге пехота, кавалерия и артиллерия, и среди конского топота и грохота двигавшихся орудий слышались громкие крики командиров, старавшихся поддержать в своих частях стройность тогдашней военной выправки во всех ее мелочах.
– Слышь, как орет господин Прокопов, – сказал один служивый шедшему с ним облокоть товарищу, показывая на кричавшего во все горло пехотного офицера, – видно, желает, чтобы царь снова его голос заслышал и опять явил бы ему свою милость.
– А разве с ним что-нибудь такое было?.. Я здесь человек новый и ничего еще о господине Прокопове не слыхивал, – проговорил солдатик.
– А вот поди же ты, братец мой, какое счастье людям ни с того ни с другого бывает. Правда и то, что он уж больно отважен, не у всякого такой бесстрашности хватит, а все-таки как ни на есть, а нужно счастье, а то всю жизнь прострадаешь.
– А что же с ним случилось? – с любопытством спросил новичок.
– Да вот что. Как бывает государь в Гатчине летнею порою, то, откушав, он после обеда садится в кресла на балконе, да и любит вздремнуть здесь часик-другой, как и все мы, грешные. Славно эдак ему в прохладке спится!.. А как сядет он в кресла, то такая тишь наступит, словно все замрет. Кругом всего дворца караульных расставят, чтобы никто близко ко дворцу ни подойти, ни подъехать не смел; издали еще мы каждому машем, хоть бы и самый первый генерал был: не езди, мол, и не ходи – царь почивает! Ничто не стукнет, не брякнет, пчела зажужжит у дворца, так и ту слышно будет. Вот этак мы в тишине и стоим, еле дух переводим, как вдруг кто-то гаркнет: «слу…у…шай!», да, я тебе скажу, гаркнет так, как мы никогда и не слыхивали! Все мы так и обмерли. Ну, быть беде, а на караульном офицере и лица не стало: побледнел, сердечный, словно покойник, да и недаром. Выбежал со всех ног из дворца царский адъютант и требует его к государю.
«Кто смел крикнуть «слу…у…шай!», – спросил государь у офицера, да спросил, я тебе скажу, так, что лучше бы и не спрашивал.
– Эх, ведь, поди, какая беда вышла! – с выражением испуга на лице проговорил молодой солдатик.
«Не знаю, ваше императорское величество!» – со страху ни жив ни мертв, прошамкал его благородие.
«Как не знаешь? Да на что же ты в караульные офицеры поставлен!.. – крикнул царь. – Ступай и в сей же час отыщи мне виновного…»
Пошли допросы, перерасспросы, а виновного налицо нет как нет. Офицерик наш в слезы, да и говорит:
«Братцы, голубчики, отцы родимые, товарищи задушевные, не погубите меня!.. Возьми кто-нибудь вину на себя, как у государя от сердца гнев отляжет – всю правду ему скажу, а теперь виновного представить нужно». Жаль нам стало господина офицера, хороший был барин… да что же нам делать-то, на всех ужас напал превеликий; все стоим да и молчим, а в ту пору в карауле был меж рядовых вот этот самый ныне господин Прокопов; он по породе из кутейников, хотел было пойти в дьяконы, глотка-то у него здоровая-прездоровая, да сильно запил; его в солдаты и сдали. Парень, я тебе, был куда выносливый: ни розги, ни палки, ни фухтеля донять его не могли; бывало, ведь как его отлупят, а он, смотришь, и не поморщится, словно только из жаркой бани на свежий воздух вышел. Выступил он вперед и говорит:
«Да что, ваше благородие, долго толковать? Жаль мне вас больно стало: возьму вину на себя».
Мы все так и примерли, а офицер-то целовать его бросился… Повел молодца наверх к государю. Ну, думаем мы, пропадшая душа.
«Это ты крикнул: «слу…у…шай!» – спросил царь.
«Я, ваше величество!» – не моргнув глазом ответил Прокопов.
«А зачем?»
«Да вздумалось мне вдруг к ночной караульной службе около вашего императорского величества готовиться. Все сразу забылось – словно кто память отшиб, такая охота ни с того ни с чего взяла…» – говорит он это, да и прощенья не просит.
Государь ухмыльнулся.
«Ну, а крикни при мне…»
Как рявкнул он, так я тебе скажу, что тут было: кто присел на пол, а кто заткнул уши.
«Молодец!.. Экой у тебя славный голосище! В унтера его и выдать ему сто рублев за усердие к службе», – назначил царь.
Вот какое царское решение вышло. Как пришел Прокопов к нам в кордегардию, так мы ни ушам, ни глазам не верим и дивимся только, что живым вернулся. Разумеется, после того начальство в уважение его взяло: «Мало того, говорит, что отважный сам по себе, да и командира своего от неминучей беды собою заслонил, значит – хороший человек». Стали ему усердствовать, парень он грамотный – и попал в офицеры. Государь его и теперь помнит и иной раз как увидит, так повелит его прокричать «слушай!» и за голосище всегда хвалит.
– Чудно, больно чудно, – проговорил, покачивая головою, солдатик, – а кто ж заправски-то кричал?
– А вот поди же ты, ведь такой шальной нашелся – пажик, по фамилии Яхонтов. Знаешь, внизу во дворце живут барышни, что при государыне служат, фрелины называются. Ведь он словно с ума от них сошел, о государе-то вовсе забыл, вздумал их попугать, подкрался под их окошко да вдруг и крикнул. Ну, благо все подобру-поздорову кончилось.
– А что, Савельич, это за народ давече из-за дворца повыходил, монахи, что ли, какие?..
– Да кто их знает! Видел я, что промеж их и заправские архиереи были. Слыхал, что «лыцарями» прозываются, от местов их, что ли, отставили, да царя их в полон недруги взяли, так вот наш-то их под свою руку принял… Чудны что-то больно… Ничего, братец ты мой, нынче в толк не возьмешь. Иной раз послушаешь, что господа офицеры промеж себя загуторят, так сейчас и отойдешь, от беды бы быть только подальше… Не нашего, брат, ума дело…
Только что проговорил эти слова Савельич, как между солдатами началось какое-то беспокойное движение.
– Едет, едет! – сперва закричали, а потом шепотом заговорили они. Более смелые из них обернулись назад. В полумраке летней ночи, сгущавшейся в лесной просеке, чернелись вдали на дороге два всадника, и по посадке одного из них привычный зоркий глаз мог легко признать, что к войскам подъезжал император. Действительно, это был он, в сопровождении графа Кутайсова. Кто перекрестился, кто вздохнул, кто в каком-то отчаянии замотал головою, как будто ожидая беды.
Все встрепенулись, подтянулись, выровнялись и смолкли. Слышались только дружно и мерно отбиваемые шаги солдат, в совершенстве наученных ходить в ногу, да порою то здесь, то там раздавалось нетерпеливое ржанье коня, принужденного всадником идти не по своей воле.
Подъезжал к войску государь скорою рысью; обогнав голову колонны, он остановился на дороге и, пропустив мимо себя войска, повернул назад в Павловск, не сказав никому ни слова. У всех словно полегчало на сердце, но не скоро оправились и начальники и солдаты от внезапного испуга. Все шли, соблюдая строгий порядок и только по временам боязливо посматривали вслед медленно уезжавшему государю. В глубокой задумчивости, не вступая в разговор со своим спутником, возвращался он домой; на пути он приостанавливал несколько раз своего коня и внимательно прислушивался к гулу отдалявшегося от него войска…
XXII
С лишком неделю в сельце Гнездиловке, усадьбе помещика Степана Степановича Рышкина, с нетерпением ожидали привоза почты из соседнего уездного города, куда отправился за получением ее нарочный. Промедления почты вообще тогда были очень часты, так как по почтовому управлению порядки велись очень плохо, а на этот раз, за наступившею распутицею, почта опоздала более обыкновенного. Между тем для Степана Степановича минуты ожидания были страшно томительны. Он был человек и любопытный и болтливый; для него всегда приятно было узнать первому что-нибудь важное из газет или из писем и потом рассказывать не без некоторых, впрочем, прикрас своим деревенским соседям. Степан Степанович любил подзаняться и политикою, а теперь именно была такая пора, что потолковать было о чем: в народе начали ходить слухи о скорой войне и о разных распоряжениях, клонившихся к походу войск, но против кого начнут войну – это никому не было известно. Нетерпение помещика-политикана усиливалось еще более потому, что к нему в усадьбу собрались гости, которых он любил попотчевать не только снедями и питиями, но и своими разговорами и рассуждениями, казавшимися ему самому и глубокомысленными, и поучительными. В ожидании привоза почты гости-помещики с их хозяином принялись судить и рядить о том и о другом по прежним устарелым известиям с добавкою собственных измышлений, причем их в особенности занимал первый дошедший уже до них манифест государя о Мальтийском ордене, но никто пока не мог домыслиться, о чем, собственно, в этом манифесте шло дело. Несколько раз все они вкупе перечитывали этот торжественный государственный акт, но никак не могли уразуметь, что именно требуется от русского дворянства и при чем оно здесь будет. Толковали, толковали между собою на разные лады, но в конце концов оказывалось, что ровно до ничего добраться не смогут. Во время этих жарких разговоров на пороге помещичьего кабинета показался дворецкий с кипою писем и пакетов в руках.
– Ермил, сударь, почту привез из города, – сказал он, подавая часть принесенного Степану Степановичу. – Это – вам, в это – их милости барыне.
С выражением жадности на лице выхватил Рышкин письма и пакеты из рук дворецкого и, быстро сорвав печать с одного конверта, принялся читать про себя письмо от дяди его жены, занимавшего в Петербурге по служебной части довольно высокое место. Едва Степан Степанович прочитал несколько строк, как краска удовольствия разлилась по его полному и добродушному лицу.
– От кого это письмо к тебе? – спросил Табунов, самый близкий приятель Рышкина.
– От дядюшки Федора Алексеича.
По исполнении всего этого приниматель показывал посвящаемому вервие, бич, колье, гвоздь, столб и крест, упоминая, какое значение имели эти предметы при страданиях Христовых, и внушал, что обо всем этом он должен вспоминать сколь возможно чаще, и в заключение клал принимаемому вервие на шею, говоря, что это ярмо неволи, которое он должен носить с полною покорностью. Затем рыцари приступали к новициату, облекали его в орденское одеяние при пении псалмов, и каждый троекратно целовал его в губы, как своего нового собрата.
Императору Павлу должна была нравиться подобная рыцарская обрядность, так как он и при пожаловании им голштинского ордена св. Анны из своих рук всегда соблюдал существенный рыцарский обряд; получивший орден становился на колени перед императором, который три раза ударял его по плечу своею обнаженною шпагою.
В 1800 году появилась напечатанная в С. – Петербурге «в императорской» типографии книга под следующим заглавием: «Уложение священного воинского ордена святого Иоанна Иерусалимского, вновь сочиненное по повелению священного генерального капитула, собранного в 1776 году, под началием его преимущественного высочества великого магистра, брата Емануила де-Рогана. В Мальте 1782 года напечатанное, ныне же, по высочайшему его императорского величества Павла Петровича повелению, с языков итальянского, латинского и французского на российский переведенное». Книга эта, кроме постановлений, изданных орденским капитулом, и указов, данных великими магистрами, содержит в себе папские буллы и жалованные ордену папами грамоты. Вся эта книга проникнута беспредельною преданностию к святейшему престолу и римско-католической церкви. Преданность эта является вообще отличительной чертою книги, в особенности же в молитвах, в ней приводимых. Рыцари молились за папу, кардиналов и прелатов. Все это должно было удивлять читателя, знавшего, что главою ордена был русский император. С своей стороны, переводчики, как надобно предполагать, хотели смягчить странность таких отношений иноверного государя к папе тем, что слово «католический» заменили словом «кафолический», как будто подразумевая восточную церковь, но при такой уловке вся несообразность выступала еще ярче. Самое предисловие к подобной книге поражало странностью. Упомянув о том, что император Павел I принял сан великого магистра, трое переводчиков этой книги, состоявших в ведомстве иностранной коллегии, обращались к императору с следующими пожеланиями: «буди в обладателях царств болий, яко же Иоанн Креститель, защитник сего ордена. Крестом Предтечи побеждай, сокрушай, низлагай, поражай всех супостатов, измождай плоти их, да дух спасается и буди им страшен паче всех царей земных». Между тем в самой книге все желаемые переводчиками победы, сокрушения, низложения, поражения, измождения и устрашения относились исключительно к торжеству и благоденствию католичества, и, как на венец всех рыцарских добродетелей, указывалось в книге на готовность членов ордена положить душу за други своя, сиречь католиков, т. е. собственно католиков – последователей римской, а не какой-либо другой христианской церкви.
Появление этой книги возбудило тревогу и опасения среди русского духовенства…
XXI
Стоял невыносимо жаркий июньский день, и сильно пекло солнце с ярко-голубого неба, по которому не пробегало ни облачка в то время, когда по дороге от Петербурга к Павловску медленно двигался какой-то странный поезд. Открывал его всадник в черном полукафтанье, поверх которого был надет красный суконный супервест, наподобие рыцарских лат, а сверху была наброшена черная мантия. На груди всадника виднелся большой черный круг с изображением на нем белого осьмиконечного креста. Всадник этот держал в руках серебряный маршальский жезл. Голова его была покрыта небольшим бархатным беретом, над которым развевались черные, красные и белые страусовые перья. За этим всадником следовал конный литаврщик в серебряных латах и в серебряном шишаке с черным волосяным гребнем, а за ним несколько трубачей, одетых так же, как и он, и почти безумолчно наигрывавших марш, напоминавший по своему мотиву торжественный церковный гимн. За трубачами следовала придворная вызолоченная с зеркальными стеклами карета. В ней на первом месте сидел с непокрытою напудренною головою какой-то важный господин, одетый в черную суконную мантию. На малиновой бархатной подушке с золотыми кистями, положенной на его коленах, он держал большую серебряную коробку. Напротив него на переднем месте в карете сидели двое других, одетых так же, как он, в черные мантии с белыми крестами на плече. Карета была запряжена шестеркою прекрасных в богатой позолоченной упряжке коней, которых вели под уздцы пудреные в треугольных шляпах лакеи, в красных ливреях с золотыми галунами. В другой такой же карете сидели поезжане, одетые также в черные мантии; из них занимавший первое место держал на коленях положенный на подушке меч в золотых ножнах и с золотою рукояткой; а в третьей такой же карете, ехавшей на первом месте, вез на подушке высокую корону, состоявшую из нескольких золотых суженных кверху под крестом золотых полос, осыпанных драгоценными камнями. За этой каретой следовала блиставшая позолотой четырехместная коляска. В ней сидел господин в черной мантии и в таком же берете, какой был на голове у всадника, ехавшего впереди поезда. Он держал в руках большое на черном древке красное знамя с белым осьмиконечным крестом. За коляской следовало несколько карет, в которых сидели одни только мужчины, одетые в черные мантии. Отряд кавалергардов в блестящих серебряных латах и таких же шишаках замыкал поезд. Его беспрестанно обгоняли кареты, которые спешно катили в Павловск и в которых все поезжане были одеты или в черные мантии, или в красные супервесты.
Павловск, недавно основанный великим князем Павлом Петровичем, считался имением супруги его великой княгини Марии Федоровны и был ее любимым местопребыванием. Павловск, в котором хозяйкою была императрица Мария Федоровна, резко отличался от суровой Гатчины. В Павловске вместо казарм, манежей и кордегардии был устроен розовый павильон наподобие павильона, существовавшего в Трианоне. В павловском парке были и искусственные развалины, и швейцарские хижины, и мельница с фермою, заведенною по образцу тирольских ферм. Расположение для некоторой части садов, а также устройство больших террас были заимствованы из Италии; большая аллея, шедшая от дворца, напоминала аллею, бывшую в Фонтенбло. Все это было далеко от той однообразной, скроенной на прусский лад внешности, какою отличалась Гатчина, где беспрестанно слышались барабаны, рожки и командные возгласы, тогда как Павловск каждый вечер оживлялся концертами, балами, спектаклями и увеселительными поездками с звонким и веселым смехом молоденьких женщин.
Сделавшись императором, Павел I проводил, по обыкновению, некоторую часть летнего времени и в этой новой загородной резиденции, как бы в гостях у своей супруги, а теперь туда из Петербурга, накануне Иванова дня, торжественно везли, по повелению государя, хранившиеся в бриллиантовой комнате Зимнего дворца регалии великого магистра Мальтийского ордена, так как на этот раз в Павловске должно было происходить обычное у мальтийских рыцарей празднование памяти Иоанна Крестителя, покровителя ордена. Туда же на празднество должны были приехать и все жившие в Петербурге кавалеры, а их было уже немало, так как не проходило почти ни одного дня, чтобы император не жаловал новых кавалеров и командоров. В Павловск предписано было также собираться для парада гвардейским полкам. Вследствие этого пустынная в обыкновенное время дорога между столицею и Павловском была теперь чрезвычайно оживлена. Густая пыль стояла над нею, и задыхавшиеся от жары в каретах и в своих не летних нарядах кавалеры были крайне недовольны изнурительною поездкою, опасаясь вдобавок к этому, что они какою-нибудь малейшею оплошностию в соблюдении всех орденских порядков и обрядов навлекут на себя, чего доброго, грозный гнев великого магистра. Каждый из них с затаенным в душе беспокойством думал только о том, чтобы поскорее и счастливо отбыть предстоящее торжество и затем благополучно возвратиться восвояси. Встречавшиеся по дороге с поездом проезжие и прохожие почтительно снимали перед ним шапки и в недоумении смотрели ему вслед, не зная, что такое происходит перед ними.
Когда поезд стал приближаться к Павловску, собравшиеся в тамошнем дворце кавалеры вышли к нему навстречу попарно и по назначенному заранее между ними распределению приняли привезенные мальтийские регалии: государственную печать с изображением великого магистра Павла Петровича, находившуюся в серебряной коробке, меч, называвшийся «кинжалом веры», корону и знамя. Построенные на площади перед дворцом полки отдали регалиям великого магистра воинскую честь, подобавшую по тогдашним артикулам коронованным особам, и затем регалии при бое барабанов и при звуках музыки были торжественно отнесены в главную дворцовую залу.
Что же будет здесь делаться? В чем же будет состоять праздник? – спрашивал каждый, смотря на шедшие перед дворцом загадочные приготовления. На находящуюся перед дворцом площадь приехало несколько возов с дровами, хворостом и ельником, и из этих материалов рабочие стали складывать, по указанию одного из членов орденского капитула, большие костры. Костры были вышиною аршина в два, а в длину и ширину имели полтора аршина. Поверх их были положены венки из цветов, а бока их были убраны гирляндами из ельника. Таких костров было приготовлено девять. В некотором от них расстоянии разбили палатку из полотна с черными, белыми и красными полосами. Около пяти часов вечера приведены были на дворцовую площадь гвардейские полки, которые и выстроились по трем сторонам площади. В этом строю особенно бросались в глаза тогдашние гусары в так называвшихся «барсах». На плечах у гусаров вместо ментиков были накинуты барсовые шкуры головою вниз, подбитые красным сукном с серебряным галуном и такою же застежкою, состоявшею из круглого серебряного медальона с вензелем императора и сдерживавшею на груди гусара одну из лап барса с его хвостом. Гусарская сбруя была черная, отделанная серебряными бляхами. Несмотря на множество собранных здесь людей, на площади царила мертвая тишина в ожидании какого-то необыкновенного зрелища. Ровно в семь часов вечера все мальтийские кавалеры, прибывшие в Павловск, явились на площадь и, став попарно, вошли во дворец. Спустя несколько времени они в том же порядке стали выходить оттуда с главного подъезда, причем младшие кавалеры несли в руках зажженные факелы, а старшие несли их незажженными. В числе старших кавалеров были и духовные лица, и между ними первое место занимал архиепископ Амвросий, исправлявший при великом магистре должность «призрителя бедных». Торжественным и медленным шагом выступили на площадь мальтийские рыцари в беретах с перьями, в красных супервестах с накинутыми поверх их черными мантиями; такие же мантии, но без супервестов и беретов были надеты и на духовных особ. В замке рыцарей в одежде великого магистра с короною на голове шествовал император, держа в руках незажженный факел. Отступая несколько шагов от него, шли его «оруженосцы», с одной стороны граф Иван Павлович Кутайсов, а с другой – князь Владимир Петрович Долгоруков, шеф кавалергардского корпуса, с обнаженным палашом. За этой процессиею показалась императрица с ее семейством в сопровождении многочисленной и блестящей свиты. Она вошла в приготовленную для нее на площади палатку, чтобы смотреть оттуда на долженствовавшую происходить церемонию.
В глубоком молчании, с благоговейным выражением на лицах двигались по площади мальтийские кавалеры. Исполняя установившийся в ордене святого Иоанна Иерусалимского обычай – праздновать канун Иванова дня, они, идя по два в ряд, обошли все девять костров по три раза. Солдатики с удивлением посматривали на эту невиданную еще ими «экзерцицию». После троекратного обхода костров император, великий князь Александр Павлович и граф Салтыков зажгли у младших кавалеров свои факелы и потом начали зажигать ими разложенные на площади костры, или так называемые «жертвенники», причем им помогали младшие кавалеры, обступившие со всех сторон костры. От загоревшегося ельника поднялись клубы черного дыма, но, когда дым рассеялся, костры начали гореть ярким пламенем. Кавалеры стояли молча и неподвижно около костров, пока костры, обгорев, не стали разваливаться, и тогда они с тою же торжественностию и тем же порядком возвратились во дворец, где в залах, по которым они проходили, были расставлены кавалергарды.
Рано утром в самый день праздника император произвел парад войскам, собравшимся в Павловске, затем в дворцовой церкви отслужена была обедня. Все ожидали каких-нибудь дальнейших торжеств, но они были отменены, не было даже парадного обеда. Государь смотрел пасмурно, и нетрудно было догадаться, что он был чем-то недоволен или сильно озабочен.
Наступил тихий летний вечер, пробили зорю, и позаморившиеся вчерашним походом и сегодняшним парадом солдаты, покончив слишком нелегкую в ту пору чистку амуниции и оружия, собирались уже отдохнуть на привале, как вдруг раздалась тревога, забили барабаны и завизжали рожки. Офицеры и солдаты опрометью кинулись по своим местам. Метавшиеся из стороны в сторону адъютанты объявили приказ государя, чтобы находившиеся в Павловске войска через полчаса выступили в поход по направлению к Петергофу. Все встрепенулись, засуетились, забегали, и приказ государя был исполнен в точности без малейшего промедления. Длинной вереницей потянулись из Павловска по большой дороге пехота, кавалерия и артиллерия, и среди конского топота и грохота двигавшихся орудий слышались громкие крики командиров, старавшихся поддержать в своих частях стройность тогдашней военной выправки во всех ее мелочах.
– Слышь, как орет господин Прокопов, – сказал один служивый шедшему с ним облокоть товарищу, показывая на кричавшего во все горло пехотного офицера, – видно, желает, чтобы царь снова его голос заслышал и опять явил бы ему свою милость.
– А разве с ним что-нибудь такое было?.. Я здесь человек новый и ничего еще о господине Прокопове не слыхивал, – проговорил солдатик.
– А вот поди же ты, братец мой, какое счастье людям ни с того ни с другого бывает. Правда и то, что он уж больно отважен, не у всякого такой бесстрашности хватит, а все-таки как ни на есть, а нужно счастье, а то всю жизнь прострадаешь.
– А что же с ним случилось? – с любопытством спросил новичок.
– Да вот что. Как бывает государь в Гатчине летнею порою, то, откушав, он после обеда садится в кресла на балконе, да и любит вздремнуть здесь часик-другой, как и все мы, грешные. Славно эдак ему в прохладке спится!.. А как сядет он в кресла, то такая тишь наступит, словно все замрет. Кругом всего дворца караульных расставят, чтобы никто близко ко дворцу ни подойти, ни подъехать не смел; издали еще мы каждому машем, хоть бы и самый первый генерал был: не езди, мол, и не ходи – царь почивает! Ничто не стукнет, не брякнет, пчела зажужжит у дворца, так и ту слышно будет. Вот этак мы в тишине и стоим, еле дух переводим, как вдруг кто-то гаркнет: «слу…у…шай!», да, я тебе скажу, гаркнет так, как мы никогда и не слыхивали! Все мы так и обмерли. Ну, быть беде, а на караульном офицере и лица не стало: побледнел, сердечный, словно покойник, да и недаром. Выбежал со всех ног из дворца царский адъютант и требует его к государю.
«Кто смел крикнуть «слу…у…шай!», – спросил государь у офицера, да спросил, я тебе скажу, так, что лучше бы и не спрашивал.
– Эх, ведь, поди, какая беда вышла! – с выражением испуга на лице проговорил молодой солдатик.
«Не знаю, ваше императорское величество!» – со страху ни жив ни мертв, прошамкал его благородие.
«Как не знаешь? Да на что же ты в караульные офицеры поставлен!.. – крикнул царь. – Ступай и в сей же час отыщи мне виновного…»
Пошли допросы, перерасспросы, а виновного налицо нет как нет. Офицерик наш в слезы, да и говорит:
«Братцы, голубчики, отцы родимые, товарищи задушевные, не погубите меня!.. Возьми кто-нибудь вину на себя, как у государя от сердца гнев отляжет – всю правду ему скажу, а теперь виновного представить нужно». Жаль нам стало господина офицера, хороший был барин… да что же нам делать-то, на всех ужас напал превеликий; все стоим да и молчим, а в ту пору в карауле был меж рядовых вот этот самый ныне господин Прокопов; он по породе из кутейников, хотел было пойти в дьяконы, глотка-то у него здоровая-прездоровая, да сильно запил; его в солдаты и сдали. Парень, я тебе, был куда выносливый: ни розги, ни палки, ни фухтеля донять его не могли; бывало, ведь как его отлупят, а он, смотришь, и не поморщится, словно только из жаркой бани на свежий воздух вышел. Выступил он вперед и говорит:
«Да что, ваше благородие, долго толковать? Жаль мне вас больно стало: возьму вину на себя».
Мы все так и примерли, а офицер-то целовать его бросился… Повел молодца наверх к государю. Ну, думаем мы, пропадшая душа.
«Это ты крикнул: «слу…у…шай!» – спросил царь.
«Я, ваше величество!» – не моргнув глазом ответил Прокопов.
«А зачем?»
«Да вздумалось мне вдруг к ночной караульной службе около вашего императорского величества готовиться. Все сразу забылось – словно кто память отшиб, такая охота ни с того ни с чего взяла…» – говорит он это, да и прощенья не просит.
Государь ухмыльнулся.
«Ну, а крикни при мне…»
Как рявкнул он, так я тебе скажу, что тут было: кто присел на пол, а кто заткнул уши.
«Молодец!.. Экой у тебя славный голосище! В унтера его и выдать ему сто рублев за усердие к службе», – назначил царь.
Вот какое царское решение вышло. Как пришел Прокопов к нам в кордегардию, так мы ни ушам, ни глазам не верим и дивимся только, что живым вернулся. Разумеется, после того начальство в уважение его взяло: «Мало того, говорит, что отважный сам по себе, да и командира своего от неминучей беды собою заслонил, значит – хороший человек». Стали ему усердствовать, парень он грамотный – и попал в офицеры. Государь его и теперь помнит и иной раз как увидит, так повелит его прокричать «слушай!» и за голосище всегда хвалит.
– Чудно, больно чудно, – проговорил, покачивая головою, солдатик, – а кто ж заправски-то кричал?
– А вот поди же ты, ведь такой шальной нашелся – пажик, по фамилии Яхонтов. Знаешь, внизу во дворце живут барышни, что при государыне служат, фрелины называются. Ведь он словно с ума от них сошел, о государе-то вовсе забыл, вздумал их попугать, подкрался под их окошко да вдруг и крикнул. Ну, благо все подобру-поздорову кончилось.
– А что, Савельич, это за народ давече из-за дворца повыходил, монахи, что ли, какие?..
– Да кто их знает! Видел я, что промеж их и заправские архиереи были. Слыхал, что «лыцарями» прозываются, от местов их, что ли, отставили, да царя их в полон недруги взяли, так вот наш-то их под свою руку принял… Чудны что-то больно… Ничего, братец ты мой, нынче в толк не возьмешь. Иной раз послушаешь, что господа офицеры промеж себя загуторят, так сейчас и отойдешь, от беды бы быть только подальше… Не нашего, брат, ума дело…
Только что проговорил эти слова Савельич, как между солдатами началось какое-то беспокойное движение.
– Едет, едет! – сперва закричали, а потом шепотом заговорили они. Более смелые из них обернулись назад. В полумраке летней ночи, сгущавшейся в лесной просеке, чернелись вдали на дороге два всадника, и по посадке одного из них привычный зоркий глаз мог легко признать, что к войскам подъезжал император. Действительно, это был он, в сопровождении графа Кутайсова. Кто перекрестился, кто вздохнул, кто в каком-то отчаянии замотал головою, как будто ожидая беды.
Все встрепенулись, подтянулись, выровнялись и смолкли. Слышались только дружно и мерно отбиваемые шаги солдат, в совершенстве наученных ходить в ногу, да порою то здесь, то там раздавалось нетерпеливое ржанье коня, принужденного всадником идти не по своей воле.
Подъезжал к войску государь скорою рысью; обогнав голову колонны, он остановился на дороге и, пропустив мимо себя войска, повернул назад в Павловск, не сказав никому ни слова. У всех словно полегчало на сердце, но не скоро оправились и начальники и солдаты от внезапного испуга. Все шли, соблюдая строгий порядок и только по временам боязливо посматривали вслед медленно уезжавшему государю. В глубокой задумчивости, не вступая в разговор со своим спутником, возвращался он домой; на пути он приостанавливал несколько раз своего коня и внимательно прислушивался к гулу отдалявшегося от него войска…
XXII
С лишком неделю в сельце Гнездиловке, усадьбе помещика Степана Степановича Рышкина, с нетерпением ожидали привоза почты из соседнего уездного города, куда отправился за получением ее нарочный. Промедления почты вообще тогда были очень часты, так как по почтовому управлению порядки велись очень плохо, а на этот раз, за наступившею распутицею, почта опоздала более обыкновенного. Между тем для Степана Степановича минуты ожидания были страшно томительны. Он был человек и любопытный и болтливый; для него всегда приятно было узнать первому что-нибудь важное из газет или из писем и потом рассказывать не без некоторых, впрочем, прикрас своим деревенским соседям. Степан Степанович любил подзаняться и политикою, а теперь именно была такая пора, что потолковать было о чем: в народе начали ходить слухи о скорой войне и о разных распоряжениях, клонившихся к походу войск, но против кого начнут войну – это никому не было известно. Нетерпение помещика-политикана усиливалось еще более потому, что к нему в усадьбу собрались гости, которых он любил попотчевать не только снедями и питиями, но и своими разговорами и рассуждениями, казавшимися ему самому и глубокомысленными, и поучительными. В ожидании привоза почты гости-помещики с их хозяином принялись судить и рядить о том и о другом по прежним устарелым известиям с добавкою собственных измышлений, причем их в особенности занимал первый дошедший уже до них манифест государя о Мальтийском ордене, но никто пока не мог домыслиться, о чем, собственно, в этом манифесте шло дело. Несколько раз все они вкупе перечитывали этот торжественный государственный акт, но никак не могли уразуметь, что именно требуется от русского дворянства и при чем оно здесь будет. Толковали, толковали между собою на разные лады, но в конце концов оказывалось, что ровно до ничего добраться не смогут. Во время этих жарких разговоров на пороге помещичьего кабинета показался дворецкий с кипою писем и пакетов в руках.
– Ермил, сударь, почту привез из города, – сказал он, подавая часть принесенного Степану Степановичу. – Это – вам, в это – их милости барыне.
С выражением жадности на лице выхватил Рышкин письма и пакеты из рук дворецкого и, быстро сорвав печать с одного конверта, принялся читать про себя письмо от дяди его жены, занимавшего в Петербурге по служебной части довольно высокое место. Едва Степан Степанович прочитал несколько строк, как краска удовольствия разлилась по его полному и добродушному лицу.
– От кого это письмо к тебе? – спросил Табунов, самый близкий приятель Рышкина.
– От дядюшки Федора Алексеича.