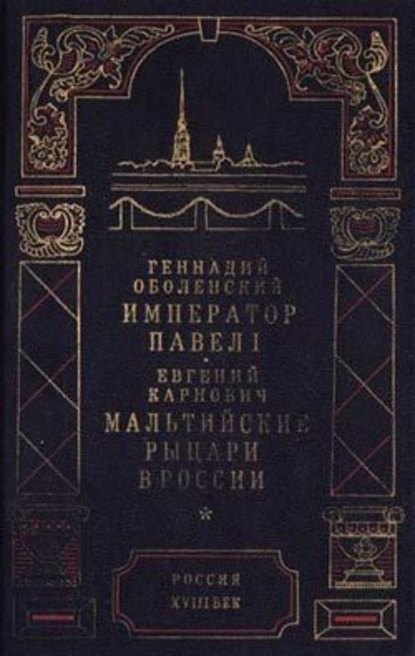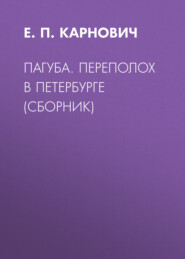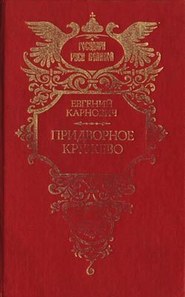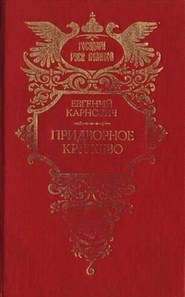По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мальтийские рыцари в России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, должно быть, в нем немало наилюбопытнейших вещей. В Петербурге он – человек большой, и ему многое заранее должно быть известно. Что ж нового он сообщает? – спросил Табунов.
– Приглашает меня быть командором знаменитого Мальтийского ордена, – с самодовольным видом, выпячивая вперед свое кругленькое брюшко, проговорил Рышкин, – надобно скорее показать это письмо Катерине Александровне; она этому порадуется; ей все желается, чтобы я важною персоною стал.
– Вот как!.. В командоры, сие то же, что в командиры зовут, должно быть – звание высокое; да что же ты там, Степан Степаныч, станешь делать?
– не без насмешливой зависти проговорил Лапуткин, один из гостей и соседей Рышкина.
– Что прикажут, то и буду делать, – не без сердца отозвался Рышкин. – Не весь же век мне у себя в усадьбе землю пахать. Благодарение Господу, от родителей хороший достаток наследовал. Захочу, так будет чем и при царском дворе показать себя – и там в грязь лицом не ударю.
– Что об этом толковать! – поддакнул один из мелкопоместных помещиков Пыхачев. – Только пожелать тебе стоит, так в люди, как выйдешь: и умом возьмешь, и деньжонки есть, да и милостивцы при дворе отыщутся.
– Дядюшка Федор Алексеич пишет мне из Петербурга вот что, – сказал Рышкин, поднося письмо поближе к глазам, и он, не слишком бойко разбирая письмо, принялся читать следующее:
«Любезнейший мой племянник, Степан Степанович! Посылаю тебе при сем копию с высочайшего его императорского величества указа об установлении в пределах Российской империи знаменитого ордена святого Иоанна Иерусалимского. Из сего указа ты усмотреть сможешь, в чем оное заведение состоит, и полагаю я, что ты поспешишь воспользоваться теми почестями и преимуществами, кои тебе, как российскому дворянину, по сему ордену приобрести можно. Благодарение твоему покойному родителю, от него ты получил такой наследственный достаток, что, согласно изложенных в указе правил, можешь учредить и для себя самого, и для одного из твоих сыновей родовое командорство, что, несомненно, к чести и увеличению достоинства вашей благородной фамилии господ Рышкиных послужить возможет. Его императорское величество учреждение таковых командорств с особым знаком монаршего благоволения приемлет и на учреждение оных всемилостивейшее и всевысочайшее свое внимание обращать соизволит. Потщись же об устроении фамильного командорства; хлопоты по сему важному делу принять я на себя могу, но для избежания всяких затруднительных оказий удобнее было бы приехать тебе самому в Санкт-Петербург, тем паче, что, быть может, всеавгустейший монарх пожелает тебя лицезреть, узнав о похвальном твоем намерении, российского дворянина достойном. Подготовь только благовременно все требуемые по оному делу доказательства твоего благородства. Как командор, т. е. как один из старших мальтийских кавалеров, или все равно рыцарей, ты будешь носить на шее большой белый финифтевый крест на широкой ленте с изображением золотых лилий между крыльями оного. Регалия сия весьма красива и в Санкт-Петербурге почитается ныне важнее всяких крестов и звезд. Кроме сего, предоставится тебе ношение красного супервеста, который есть нечто вроде женской кофты без рукавов, а поверх оного полагается черная суконная мантия с белым крестом на плече и при оной мантии круглополая шляпа с разноцветными перьями, или же малая, называемая беретом. Сие одеяние, яко почетное рыцарское, и при дворе, и во всей столице паче всякой модной одежды почитается. Высылаю тебе при сем и копию с той записки, в которой начертание гистории Мальтийского ордена имеется. Записка сия редкостная, и с немалым трудом добыть мне оную удалось, и хотя в ней ничего, по разумению моему, предосудительного и недозволенного в отношении правительства не встречается, но во всяком случае, обращайся с нею осторожнее, дабы чрез сие каких-либо замешательств и досадительств не вышло. Слышал я также, что преотличная сего ордена на французском языке гистория имеется, в коей все в наипространнейшем виде и изящнейшем штилем изложено, и написана оная неким аббатом Вертотом, но за давностию ее выпущения в свет и за ее стоимостию оная нигде ныне в продаже не обращается. Впрочем, и из прилагаемой при сем записки как цель и дух того рыцарства, к коему ты, любезнейший мой племянник, принадлежать ныне можешь, так равномерно и все изящнейшие добродетели сего знаменитого учреждения в достаточной полноте усмотришь».
Письмо оканчивалось сообщением известий о родных и знакомых и обычными в то время родственными пожеланиями с присовокуплением к ним почтений и поклонов для раздачи по принадлежности разным высокопочтеннейшим или любезнейшим персонам.
В приписке к письму значилось: «позабыл написать тебе, что все мальтийские кавалеры, или рыцари, к высочайшему императорскому двору свободный вход имеют и во всех торжествах и церемониальных случаях в полном своем облачении обретаться могут».
Степан Степанович не верил возможности такого счастья: для него, отбывшего военную службу только в ранге сержанта гвардейского Семеновского полка, попасть прямо в такой почет при царском дворе казалось неестественною мечтою, и он, озабоченный предложением дяди, быстро забегал по комнате, обдумывая благодарственное письмо к своему родственнику и не обращая внимания на своих гостей, которые, и в свою очередь, были немало заинтересованы этою новостью.
– Ну что ж, командором будешь, что ли? Да распечатывай поскорее пакет; в нем, должно быть, и есть царский указ, и мы увидим, наконец, что от российского дворянства в оном случае требуется, – заговорил Лапуткин.
Степан Степаныч словно опомнился и, распечатав пакет, достал оттуда печатные указы. Гости сели в кружок около хозяина, который принялся за чтение указов. Из них оказалось, что государь, независимо от того великого приорства Мальтийского ордена, которое существовало уже в польских областях, учредил еще особое великое приорство российское, в которое могли вступать дворяне «греческого закона». На содержание этого приорства он повелел отпускать ежегодно из государственного казначейства по 216 000 рублей. «Новое сие заведение», говорилось в указе, должно было состоять из 98 командорств. Из них два командорства приносили шесть тысяч рублей ежегодного дохода их владельцам, четыре командорства – по четыре тысячи рублей, шесть – по три тысячи, девять – по две тысячи, шестнадцать – по полторы тысячи и шестьдесят – по тысяче рублей.
– Но в эти командорства нам, господа, никогда не попасть, – с печальною насмешкою проговорил Табунов. – А куда как хорошо было бы получать по шести тысяч в год!
– И тысячкой удовлетвориться можно было бы, – проговорил, облизываясь, Лапуткин.
Далее из указа стало известно, что владельцы командорств обязаны были вносить в казначейство так называемые «респонсии», т. е. по 20 проц. с ежегодного дохода, получаемого ими с пожалованных командорств; что первые командоры должны быть назначены по непосредственному усмотрению самого императора; но что впоследствии командорства будут жалуемы по старшинству вступления в орден, причем, однако, никто не может владеть одновременно двумя командорствами. Право на командорство предоставлялось тем, кто сделал четыре каравана на эскадрах, ордену принадлежащих, или в армиях, или на эскадрах российских, причем шесть месяцев кампании считается за один караван.
– Ну, господа, все это не по вашей части: мы ни в каких походах не бывали по стольку времени, да и по морям, кажись, не плавали. Читай, Степан Степанович дальше, не подыщется ли что-нибудь и для нас, грешных? – сказал Пыхачев.
Степан Степанович, ходивший в поход при Екатерине только под шведа, ненадолгое время, да и то лишь верст за двадцать от Петербурга, несколько опешил, узнав, что он своею службою не удовлетворяет требованиям, заявленным в царском указе. Но он повеселел, когда прочел другой указ, в котором было сказано, что «всякий дворянин, облеченный кавалерскими знаками знаменитого ордена святого Иоанна Иерусалимского, пользоваться будет достоинством и преимуществами, сопряженными с офицерскими рангами, не имея, однако, ни назначаемого чина, ни старшинства. Не имеющий же высшего чина при вступлении в службу принимается прапорщиком».
– Значит, что, в силу оного указа, не только никаких походов и плаваний, но даже и никакого офицерского ранга не требуется, – проговорил Рышкин, – коли зауряд в прапорщиках состоять можно?
– Должно быть, что так, – отозвались его собеседники, и они вполне убедились в этом предположении, когда Степан Степанович прочитал третий указ, начинавшийся словами: «Всякий дворянин имеет право домогаться чести быть принятым в орден святого Иоанна Иерусалимского». Из того же указа оказывалось, что в ордене существуют две присяги: одна в малолетстве до пятнадцати лет, а другая – в совершенном возрасте; что в орден принимаются дворяне для доставления ему защитников и воинов, а так как члены его до пятнадцати лет не могут оказывать ему военной услуги, то с них при приеме в орден взимается вдвое против совершеннолетних, т. е. по 2400 рублей, тогда как с совершеннолетних берется только 1200 рублей. Далее в указе говорилось, что так как орден св. Иоанна Иерусалимского – военный и дворянский, то желающий вступить в него должен доказать, что происходит от предков, приобревших дворянство военными заслугами; что деды его и прочие предки были дворяне и что их благородное происхождение существует не менее ста пятидесяти лет. Кроме того, желающий вступить в орден должен предоставить удостоверение, что он «благородного поведения, беспорочных нравов и к военным должностям способен». Принятие желающего вступить в орден должно происходить по баллатировке. Сверх того, в силу этого же указа, дворянам, представившим требуемые в указе доказательства о происхождении, дозволялось учреждать родовые командорства, определив для того имения с ежегодным доходом не менее как в 3000 рублей и платя с этого дохода соответственную «респонсию» в орденскую казну.
Это последнее право как нельзя более по душе Степану Степановичу, и между помещиками начались толки о новом рыцарском ордене. Толки эти доказывали, однако, что и после прочтения всех указов представители российского дворянства все-таки не имели ясного понятия, для чего учреждается орден и что будут делать его кавалеры и его командоры.
Еще сильнее разгорелось в Рышкине желание сделаться кавалером Мальтийского ордена, когда через несколько дней после получения Степаном Степановичем письма от дяди приехавший из Петербурга его сосед по усадьбе стал подробно рассказывать о том почете, каким пользуются у государя и петербургских вельмож мальтийские рыцари.
От этого приезжего помещика Рышкин между прочим узнал, что, как кажется, Павел Петрович хочет совсем отменить Георгиевский и Владимирский ордена, учрежденные покойною государынею для награды за заслуги военные и гражданские, что он никому не жалует их и намерен оба эти ордена, считавшиеся столь важными, заменить мальтийским крестом. Воображение честолюбивого сержанта разыгрывалось все живее и живее. Ему представлялись теперь: милостивый прием государя, любезности и даже заискивания у него со стороны царедворцев и та зависть, которую он возбудит в своих деревенских соседях, когда по возвращении из Петербурга явится отличенный почетом, невиданным еще в этом месте.
Живо собрался Степан Степанович в губернский город, чтобы выправить там необходимые доказательства своего «стопятидесятилетнего благородства». Но при этом его постигло горькое разочарование: оказалось, что по родословной росписи Рышкиных древность их фамилии восходила только до 1650 года, когда их предок-родоначальник, боярский сын Кузьма Рышкин, будучи на государевой службе, сидел в какой-то засеке в ожидании нашествия крымцев и был за это «верстан в диких полях поместным окладом». Степан Степанович был не только опечален, но и поражен этим прискорбным открытием.
– Недостает двух лет, – печально бормотал он, рассчитывая и мысленно, и по пальцам, и на бумаге древность своего рода.
Степан Степанович кидался во все присутственные губернские и уездные места с просьбою отыскать документ, который доказывал бы начало благородства Рышкиных за полтораста лет. Он обещал за это приказным хорошую денежную подачку, но все его просьбы и хлопоты приказных были тщетны; с 1650 года благородное происхождение Рышкиных оставалось покрыто мраком неизвестности. Не добившись решительно ничего и сильно расстроенный испытанною неудачею, Рышкин возвратился в свою усадьбу и в нетерпеливом ожидании истечения двух недостававших годов уклонялся от всякого разговора о Мальтийском ордене. На все вопросы о том, когда же он будет командором, Рышкин резко и отрывисто отвечал:
– Погодите, разве можно скоро устроить столь важное дело, – а между тем честолюбивые мечты о командорстве не давали ему покоя ни днем, ни ночью.
XXIII
Далеко и громко разносился по Волге в праздничный день утренний звон колоколов Николо-Бабаевского монастыря. Обитель эта не принадлежала, да и ныне не принадлежит, к числу известных по всей России монастырей, но тем не менее, находясь на людном водном пути, а также в семи верстах от Костромы и невдалеке от Ярославля, она издавна привлекала к себе богомольцев. С некоторого же времени наплыв их туда заметно увеличился против прежнего, особенно начали наезжать в Бабаевский монастырь помещицы и купчихи. По окрестным местам все шире и шире стала расходиться молва, что в этом монастыре проживает какой-то богоугодный монах, отец Авель, получивший от Господа дар прорицания[3 - Личность историческая. – Прим. авт.]. Принялись в народе рассказывать, что Авель словно по книге читает прошлую жизнь каждого, угадывает его сокровенные помыслы и предрекает каждому не только все то, что случится с ним в жизни, но и предсказывает ему день смерти, а такое предсказание казалось чрезвычайно важным, так как оно давало возможность грешным людям подготовиться заблаговременно к христианской, непостыдной, мирной и безгрешной кончине и к доброму ответу на страшном судилище Христовом.
Как с этою, так еще и с другою, особою целью пробирался теперь в Бабаевский монастырь на паре своих лошадок углицкий купец Влас Повитухин, немало принявший на душу грехов по торговой части. Порядком побаивался он смертного часа и, узнав о даре прорицания отца Авеля, отправился к нему, чтобы услышать его правдивые пророчества, но еще более хотел он поговорить с отцом Авелем о другом, смущавшем его обстоятельстве. Не посчастливилось, однако, купчине в его поездке: верстах в десяти от монастыря подломилась ось под его грузной повозкой, которую, связанную и скрепленную кое-как веревками, медленно тащили к монастырю усталые лошадки. Повитухин не добрался еще до обители, как на монастырской колокольне ударили уже к «достойной». Купчина и его спутник, старик-приказчик, сняли картузы и начали набожно креститься.
– Вишь ведь, беда-то какая приключилась с нами, – заговорил хозяин. – Богу-то мы, видно, с тобой, Василий Иваныч, не угодили – к обедне запоздали. Вот теперь и оставайся в монастыре до завтра, да и отстой обедню, потому что уехать, не отстоявши обедни, недостойно; а там, смотришь, день-то и пропадет. Напасть это для торгового человека, да и только! – ворчал Повитухин.
– Не гневи, Влас Петрович, своим ропотом Господа Бога и его святого угодника, – заметил наставительно приказчик. – Эка беда, что один день потеряешь! Господь вознаградит тебя за твое усердие сторицею…
– Так-то так, да все-таки неладно – будет задержка по торговле: чего доброго, на один день запоздаешь, а глядь, на товар цены или прикинут, или поубавят…
Когда роптавший купчина и ободрявший его приказчик подъехали к святым воротам, обедня уже кончилась, и народ стал валить из монастыря. Губернская и уездная знать рассаживалась в свои старинные кареты, рыдваны и колымаги, а простой люд окружал лари торговцев съестными припасами и пробирался гурьбою в стоявшую около монастырской стены избу, где производился «царский торг», в ознаменование чего при избе торчал длинный шест с наткнутым на конце его веником из ветвей ели раструбом вверх. Шум, гам и песни неслись из этого веселого притона, где проворные целовальники едва успевали удовлетворять требованиям разгулявшихся богомольцев.
Оставив повозку и лошадей на попечение приказчика у святых ворот, купчина вошел за монастырскую ограду и стал приглядываться, выжидая, у кого поудобнее было бы навести нужные ему справки.
– Скажи, преподобный отче, – начал он, сняв с головы картуз и подходя под благословение к шедшему мимо его чрез монастырский двор монаху, – как бы мне свидеться с отцом Авелем?..
– А почто тебе он?.. – сурово спросил монах, преподав наскоро свое благословение купчине, поцеловавшему у инока руку.
Повитухин замялся, а монах пристально стал смотреть ему в глаза, выжидая его ответа.
– Да ведь тебе известно, преподобный отче… – забормотал Повитухин.
– Отца Авеля у нас уже нет, – отрывисто проговорил монах, – нешто не слыхал, что он теперь в Питере и в великой чести у государя Павла Петровича?
– Ничего не знаю: я ведь не тутошный… – пробормотал Повитухин.
– То-то, не тутошный! Мало вас здесь шляется, прости Господи!.. – резко брякнул монах, взглянув подозрительно на купчину и, предположив в нем забравшегося в монастырь разведчика или сыщика, хотел идти далее своей дорогой.
– Я – Влас Петров Повитухин, – заговорил вдогонку монаху оторопевший купчина, – я не тутошный, я – углицкий купец, в Костроме у меня есть приятель большой руки Семен Максимыч Грибушкин.
– Нешто тебе Семен Максимыч – приятель? – вдруг приветливым голосом отозвался вернувшийся в Повитухину монах.
– По одной торговле дела делаем и ведем их дружно.
– Ну, это – другая статья. Давно бы так сказал. Да и для чего же ты хотел видеть Авеля? – уже ласково спросил отец Афанасий.
– Да насчет снов: совсем измучили меня, окаянного, – тихо проговорил Повитухин.
– Да ты, милый человек, не запиваешь ли?.. – спросил Афанасий.
– Как не запивать, – самодовольно ухмыляясь, отвечал Повитухин, – всяко бывает; да дело-то в том, что, почитай, больше месяца капли хмельного в рот не беру, а ведь поди же, преподобный отче, все те же самые сны являются.
– Да что ж тебе снится? – спросил монах, придавая лицу своему выражение глубокомыслия.
– Приглашает меня быть командором знаменитого Мальтийского ордена, – с самодовольным видом, выпячивая вперед свое кругленькое брюшко, проговорил Рышкин, – надобно скорее показать это письмо Катерине Александровне; она этому порадуется; ей все желается, чтобы я важною персоною стал.
– Вот как!.. В командоры, сие то же, что в командиры зовут, должно быть – звание высокое; да что же ты там, Степан Степаныч, станешь делать?
– не без насмешливой зависти проговорил Лапуткин, один из гостей и соседей Рышкина.
– Что прикажут, то и буду делать, – не без сердца отозвался Рышкин. – Не весь же век мне у себя в усадьбе землю пахать. Благодарение Господу, от родителей хороший достаток наследовал. Захочу, так будет чем и при царском дворе показать себя – и там в грязь лицом не ударю.
– Что об этом толковать! – поддакнул один из мелкопоместных помещиков Пыхачев. – Только пожелать тебе стоит, так в люди, как выйдешь: и умом возьмешь, и деньжонки есть, да и милостивцы при дворе отыщутся.
– Дядюшка Федор Алексеич пишет мне из Петербурга вот что, – сказал Рышкин, поднося письмо поближе к глазам, и он, не слишком бойко разбирая письмо, принялся читать следующее:
«Любезнейший мой племянник, Степан Степанович! Посылаю тебе при сем копию с высочайшего его императорского величества указа об установлении в пределах Российской империи знаменитого ордена святого Иоанна Иерусалимского. Из сего указа ты усмотреть сможешь, в чем оное заведение состоит, и полагаю я, что ты поспешишь воспользоваться теми почестями и преимуществами, кои тебе, как российскому дворянину, по сему ордену приобрести можно. Благодарение твоему покойному родителю, от него ты получил такой наследственный достаток, что, согласно изложенных в указе правил, можешь учредить и для себя самого, и для одного из твоих сыновей родовое командорство, что, несомненно, к чести и увеличению достоинства вашей благородной фамилии господ Рышкиных послужить возможет. Его императорское величество учреждение таковых командорств с особым знаком монаршего благоволения приемлет и на учреждение оных всемилостивейшее и всевысочайшее свое внимание обращать соизволит. Потщись же об устроении фамильного командорства; хлопоты по сему важному делу принять я на себя могу, но для избежания всяких затруднительных оказий удобнее было бы приехать тебе самому в Санкт-Петербург, тем паче, что, быть может, всеавгустейший монарх пожелает тебя лицезреть, узнав о похвальном твоем намерении, российского дворянина достойном. Подготовь только благовременно все требуемые по оному делу доказательства твоего благородства. Как командор, т. е. как один из старших мальтийских кавалеров, или все равно рыцарей, ты будешь носить на шее большой белый финифтевый крест на широкой ленте с изображением золотых лилий между крыльями оного. Регалия сия весьма красива и в Санкт-Петербурге почитается ныне важнее всяких крестов и звезд. Кроме сего, предоставится тебе ношение красного супервеста, который есть нечто вроде женской кофты без рукавов, а поверх оного полагается черная суконная мантия с белым крестом на плече и при оной мантии круглополая шляпа с разноцветными перьями, или же малая, называемая беретом. Сие одеяние, яко почетное рыцарское, и при дворе, и во всей столице паче всякой модной одежды почитается. Высылаю тебе при сем и копию с той записки, в которой начертание гистории Мальтийского ордена имеется. Записка сия редкостная, и с немалым трудом добыть мне оную удалось, и хотя в ней ничего, по разумению моему, предосудительного и недозволенного в отношении правительства не встречается, но во всяком случае, обращайся с нею осторожнее, дабы чрез сие каких-либо замешательств и досадительств не вышло. Слышал я также, что преотличная сего ордена на французском языке гистория имеется, в коей все в наипространнейшем виде и изящнейшем штилем изложено, и написана оная неким аббатом Вертотом, но за давностию ее выпущения в свет и за ее стоимостию оная нигде ныне в продаже не обращается. Впрочем, и из прилагаемой при сем записки как цель и дух того рыцарства, к коему ты, любезнейший мой племянник, принадлежать ныне можешь, так равномерно и все изящнейшие добродетели сего знаменитого учреждения в достаточной полноте усмотришь».
Письмо оканчивалось сообщением известий о родных и знакомых и обычными в то время родственными пожеланиями с присовокуплением к ним почтений и поклонов для раздачи по принадлежности разным высокопочтеннейшим или любезнейшим персонам.
В приписке к письму значилось: «позабыл написать тебе, что все мальтийские кавалеры, или рыцари, к высочайшему императорскому двору свободный вход имеют и во всех торжествах и церемониальных случаях в полном своем облачении обретаться могут».
Степан Степанович не верил возможности такого счастья: для него, отбывшего военную службу только в ранге сержанта гвардейского Семеновского полка, попасть прямо в такой почет при царском дворе казалось неестественною мечтою, и он, озабоченный предложением дяди, быстро забегал по комнате, обдумывая благодарственное письмо к своему родственнику и не обращая внимания на своих гостей, которые, и в свою очередь, были немало заинтересованы этою новостью.
– Ну что ж, командором будешь, что ли? Да распечатывай поскорее пакет; в нем, должно быть, и есть царский указ, и мы увидим, наконец, что от российского дворянства в оном случае требуется, – заговорил Лапуткин.
Степан Степаныч словно опомнился и, распечатав пакет, достал оттуда печатные указы. Гости сели в кружок около хозяина, который принялся за чтение указов. Из них оказалось, что государь, независимо от того великого приорства Мальтийского ордена, которое существовало уже в польских областях, учредил еще особое великое приорство российское, в которое могли вступать дворяне «греческого закона». На содержание этого приорства он повелел отпускать ежегодно из государственного казначейства по 216 000 рублей. «Новое сие заведение», говорилось в указе, должно было состоять из 98 командорств. Из них два командорства приносили шесть тысяч рублей ежегодного дохода их владельцам, четыре командорства – по четыре тысячи рублей, шесть – по три тысячи, девять – по две тысячи, шестнадцать – по полторы тысячи и шестьдесят – по тысяче рублей.
– Но в эти командорства нам, господа, никогда не попасть, – с печальною насмешкою проговорил Табунов. – А куда как хорошо было бы получать по шести тысяч в год!
– И тысячкой удовлетвориться можно было бы, – проговорил, облизываясь, Лапуткин.
Далее из указа стало известно, что владельцы командорств обязаны были вносить в казначейство так называемые «респонсии», т. е. по 20 проц. с ежегодного дохода, получаемого ими с пожалованных командорств; что первые командоры должны быть назначены по непосредственному усмотрению самого императора; но что впоследствии командорства будут жалуемы по старшинству вступления в орден, причем, однако, никто не может владеть одновременно двумя командорствами. Право на командорство предоставлялось тем, кто сделал четыре каравана на эскадрах, ордену принадлежащих, или в армиях, или на эскадрах российских, причем шесть месяцев кампании считается за один караван.
– Ну, господа, все это не по вашей части: мы ни в каких походах не бывали по стольку времени, да и по морям, кажись, не плавали. Читай, Степан Степанович дальше, не подыщется ли что-нибудь и для нас, грешных? – сказал Пыхачев.
Степан Степанович, ходивший в поход при Екатерине только под шведа, ненадолгое время, да и то лишь верст за двадцать от Петербурга, несколько опешил, узнав, что он своею службою не удовлетворяет требованиям, заявленным в царском указе. Но он повеселел, когда прочел другой указ, в котором было сказано, что «всякий дворянин, облеченный кавалерскими знаками знаменитого ордена святого Иоанна Иерусалимского, пользоваться будет достоинством и преимуществами, сопряженными с офицерскими рангами, не имея, однако, ни назначаемого чина, ни старшинства. Не имеющий же высшего чина при вступлении в службу принимается прапорщиком».
– Значит, что, в силу оного указа, не только никаких походов и плаваний, но даже и никакого офицерского ранга не требуется, – проговорил Рышкин, – коли зауряд в прапорщиках состоять можно?
– Должно быть, что так, – отозвались его собеседники, и они вполне убедились в этом предположении, когда Степан Степанович прочитал третий указ, начинавшийся словами: «Всякий дворянин имеет право домогаться чести быть принятым в орден святого Иоанна Иерусалимского». Из того же указа оказывалось, что в ордене существуют две присяги: одна в малолетстве до пятнадцати лет, а другая – в совершенном возрасте; что в орден принимаются дворяне для доставления ему защитников и воинов, а так как члены его до пятнадцати лет не могут оказывать ему военной услуги, то с них при приеме в орден взимается вдвое против совершеннолетних, т. е. по 2400 рублей, тогда как с совершеннолетних берется только 1200 рублей. Далее в указе говорилось, что так как орден св. Иоанна Иерусалимского – военный и дворянский, то желающий вступить в него должен доказать, что происходит от предков, приобревших дворянство военными заслугами; что деды его и прочие предки были дворяне и что их благородное происхождение существует не менее ста пятидесяти лет. Кроме того, желающий вступить в орден должен предоставить удостоверение, что он «благородного поведения, беспорочных нравов и к военным должностям способен». Принятие желающего вступить в орден должно происходить по баллатировке. Сверх того, в силу этого же указа, дворянам, представившим требуемые в указе доказательства о происхождении, дозволялось учреждать родовые командорства, определив для того имения с ежегодным доходом не менее как в 3000 рублей и платя с этого дохода соответственную «респонсию» в орденскую казну.
Это последнее право как нельзя более по душе Степану Степановичу, и между помещиками начались толки о новом рыцарском ордене. Толки эти доказывали, однако, что и после прочтения всех указов представители российского дворянства все-таки не имели ясного понятия, для чего учреждается орден и что будут делать его кавалеры и его командоры.
Еще сильнее разгорелось в Рышкине желание сделаться кавалером Мальтийского ордена, когда через несколько дней после получения Степаном Степановичем письма от дяди приехавший из Петербурга его сосед по усадьбе стал подробно рассказывать о том почете, каким пользуются у государя и петербургских вельмож мальтийские рыцари.
От этого приезжего помещика Рышкин между прочим узнал, что, как кажется, Павел Петрович хочет совсем отменить Георгиевский и Владимирский ордена, учрежденные покойною государынею для награды за заслуги военные и гражданские, что он никому не жалует их и намерен оба эти ордена, считавшиеся столь важными, заменить мальтийским крестом. Воображение честолюбивого сержанта разыгрывалось все живее и живее. Ему представлялись теперь: милостивый прием государя, любезности и даже заискивания у него со стороны царедворцев и та зависть, которую он возбудит в своих деревенских соседях, когда по возвращении из Петербурга явится отличенный почетом, невиданным еще в этом месте.
Живо собрался Степан Степанович в губернский город, чтобы выправить там необходимые доказательства своего «стопятидесятилетнего благородства». Но при этом его постигло горькое разочарование: оказалось, что по родословной росписи Рышкиных древность их фамилии восходила только до 1650 года, когда их предок-родоначальник, боярский сын Кузьма Рышкин, будучи на государевой службе, сидел в какой-то засеке в ожидании нашествия крымцев и был за это «верстан в диких полях поместным окладом». Степан Степанович был не только опечален, но и поражен этим прискорбным открытием.
– Недостает двух лет, – печально бормотал он, рассчитывая и мысленно, и по пальцам, и на бумаге древность своего рода.
Степан Степанович кидался во все присутственные губернские и уездные места с просьбою отыскать документ, который доказывал бы начало благородства Рышкиных за полтораста лет. Он обещал за это приказным хорошую денежную подачку, но все его просьбы и хлопоты приказных были тщетны; с 1650 года благородное происхождение Рышкиных оставалось покрыто мраком неизвестности. Не добившись решительно ничего и сильно расстроенный испытанною неудачею, Рышкин возвратился в свою усадьбу и в нетерпеливом ожидании истечения двух недостававших годов уклонялся от всякого разговора о Мальтийском ордене. На все вопросы о том, когда же он будет командором, Рышкин резко и отрывисто отвечал:
– Погодите, разве можно скоро устроить столь важное дело, – а между тем честолюбивые мечты о командорстве не давали ему покоя ни днем, ни ночью.
XXIII
Далеко и громко разносился по Волге в праздничный день утренний звон колоколов Николо-Бабаевского монастыря. Обитель эта не принадлежала, да и ныне не принадлежит, к числу известных по всей России монастырей, но тем не менее, находясь на людном водном пути, а также в семи верстах от Костромы и невдалеке от Ярославля, она издавна привлекала к себе богомольцев. С некоторого же времени наплыв их туда заметно увеличился против прежнего, особенно начали наезжать в Бабаевский монастырь помещицы и купчихи. По окрестным местам все шире и шире стала расходиться молва, что в этом монастыре проживает какой-то богоугодный монах, отец Авель, получивший от Господа дар прорицания[3 - Личность историческая. – Прим. авт.]. Принялись в народе рассказывать, что Авель словно по книге читает прошлую жизнь каждого, угадывает его сокровенные помыслы и предрекает каждому не только все то, что случится с ним в жизни, но и предсказывает ему день смерти, а такое предсказание казалось чрезвычайно важным, так как оно давало возможность грешным людям подготовиться заблаговременно к христианской, непостыдной, мирной и безгрешной кончине и к доброму ответу на страшном судилище Христовом.
Как с этою, так еще и с другою, особою целью пробирался теперь в Бабаевский монастырь на паре своих лошадок углицкий купец Влас Повитухин, немало принявший на душу грехов по торговой части. Порядком побаивался он смертного часа и, узнав о даре прорицания отца Авеля, отправился к нему, чтобы услышать его правдивые пророчества, но еще более хотел он поговорить с отцом Авелем о другом, смущавшем его обстоятельстве. Не посчастливилось, однако, купчине в его поездке: верстах в десяти от монастыря подломилась ось под его грузной повозкой, которую, связанную и скрепленную кое-как веревками, медленно тащили к монастырю усталые лошадки. Повитухин не добрался еще до обители, как на монастырской колокольне ударили уже к «достойной». Купчина и его спутник, старик-приказчик, сняли картузы и начали набожно креститься.
– Вишь ведь, беда-то какая приключилась с нами, – заговорил хозяин. – Богу-то мы, видно, с тобой, Василий Иваныч, не угодили – к обедне запоздали. Вот теперь и оставайся в монастыре до завтра, да и отстой обедню, потому что уехать, не отстоявши обедни, недостойно; а там, смотришь, день-то и пропадет. Напасть это для торгового человека, да и только! – ворчал Повитухин.
– Не гневи, Влас Петрович, своим ропотом Господа Бога и его святого угодника, – заметил наставительно приказчик. – Эка беда, что один день потеряешь! Господь вознаградит тебя за твое усердие сторицею…
– Так-то так, да все-таки неладно – будет задержка по торговле: чего доброго, на один день запоздаешь, а глядь, на товар цены или прикинут, или поубавят…
Когда роптавший купчина и ободрявший его приказчик подъехали к святым воротам, обедня уже кончилась, и народ стал валить из монастыря. Губернская и уездная знать рассаживалась в свои старинные кареты, рыдваны и колымаги, а простой люд окружал лари торговцев съестными припасами и пробирался гурьбою в стоявшую около монастырской стены избу, где производился «царский торг», в ознаменование чего при избе торчал длинный шест с наткнутым на конце его веником из ветвей ели раструбом вверх. Шум, гам и песни неслись из этого веселого притона, где проворные целовальники едва успевали удовлетворять требованиям разгулявшихся богомольцев.
Оставив повозку и лошадей на попечение приказчика у святых ворот, купчина вошел за монастырскую ограду и стал приглядываться, выжидая, у кого поудобнее было бы навести нужные ему справки.
– Скажи, преподобный отче, – начал он, сняв с головы картуз и подходя под благословение к шедшему мимо его чрез монастырский двор монаху, – как бы мне свидеться с отцом Авелем?..
– А почто тебе он?.. – сурово спросил монах, преподав наскоро свое благословение купчине, поцеловавшему у инока руку.
Повитухин замялся, а монах пристально стал смотреть ему в глаза, выжидая его ответа.
– Да ведь тебе известно, преподобный отче… – забормотал Повитухин.
– Отца Авеля у нас уже нет, – отрывисто проговорил монах, – нешто не слыхал, что он теперь в Питере и в великой чести у государя Павла Петровича?
– Ничего не знаю: я ведь не тутошный… – пробормотал Повитухин.
– То-то, не тутошный! Мало вас здесь шляется, прости Господи!.. – резко брякнул монах, взглянув подозрительно на купчину и, предположив в нем забравшегося в монастырь разведчика или сыщика, хотел идти далее своей дорогой.
– Я – Влас Петров Повитухин, – заговорил вдогонку монаху оторопевший купчина, – я не тутошный, я – углицкий купец, в Костроме у меня есть приятель большой руки Семен Максимыч Грибушкин.
– Нешто тебе Семен Максимыч – приятель? – вдруг приветливым голосом отозвался вернувшийся в Повитухину монах.
– По одной торговле дела делаем и ведем их дружно.
– Ну, это – другая статья. Давно бы так сказал. Да и для чего же ты хотел видеть Авеля? – уже ласково спросил отец Афанасий.
– Да насчет снов: совсем измучили меня, окаянного, – тихо проговорил Повитухин.
– Да ты, милый человек, не запиваешь ли?.. – спросил Афанасий.
– Как не запивать, – самодовольно ухмыляясь, отвечал Повитухин, – всяко бывает; да дело-то в том, что, почитай, больше месяца капли хмельного в рот не беру, а ведь поди же, преподобный отче, все те же самые сны являются.
– Да что ж тебе снится? – спросил монах, придавая лицу своему выражение глубокомыслия.