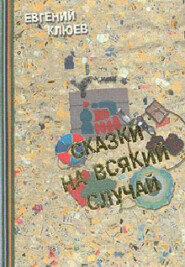По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зелёная земля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
и немедленным конфузом
я за это заплачу,
и пустым черновиком,
и грядущим чёрным веком,
и вечерней птицы криком
я за это заплачу,
и белеющим флажком…
а когда уж будет нечем -
жизнью, смертью или прочим
задушевным пустяком.
* * *
Весёлый рой ночных букашек,
луны высокий абажур:
что ж, мой японский карандашик,
твой час теперь – иди, дежурь!
Паси крючки и закорючки,
чей лёгкий лаконичный строй
громоздкой и не снился ручке -
ни стержневой, ни перьевой;
блюди на узеньких дорогах,
пока верна тебе строка,
свой одинокий иероглиф -
прирученного паучка.
Но ты, не начиная вахты,
каким сомненьем обуян,
всё кружишь над страницей?
Ах, ты
опять выпестываешь план
произведения простого,
на языке своём сухом:
два полуночных полуслова,
зачёркнутых одним штрихом!
* * *
Дай Бог, чтоб не был твой отвергнут дар
тем или той, кого… – не в этом дело, -
тогда твой дар становится: удар -
лети назад, стрела… летите, стрелы!
Даритель глуп, а одарённый слеп,
и дар напрасен, ибо не к рукам он:
лежавший на твоей ладони хлеб
в одну секунду превратился в камень.
А радость постояла и ушла,
забыв сказать куда… такая малость:
всего-то лишь что вздрогнула душа,
но вздрогнула – и только: не сломалась.
ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР
А Париж начинался за словом «Париж»:
чуть пройдёшь – и направо, всего-то и дела!
И тогда открывалась бескрайность предела -
так бывает… но, видимо, всё-таки лишь