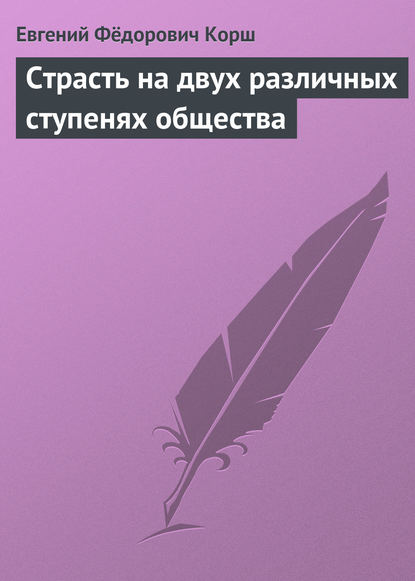По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страсть на двух различных ступенях общества
Автор
Год написания книги
1834
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Евгений Фёдорович Корш
«Я обедал у Гревилля: у него хорошо обедают. Мы много пили и много врали. Все вина в бутылках хозяина и все предметы разговора в головах гостей были исчерпаны, когда мы встали из за стола. Я разстался с ним позже других: Г-жа Гревилль очаровательная женщина!..»
Евгений Корш
Страсть на двух различных ступенях общества
[Повесть, которую сообщаем нашим читателям под этим заглавием, заимствована из ряда превосходных статей, украшающих один из лучших Английских журналов и прославившихся в нем под фантастическим названием Asmodeus at Large, «Асмодей на воле.» Глубокая и неподражаемая философия домашней жизни, основанная на знании человеческаго сердца в самых тайных, самых семейственных его изгибах, есть отличительная черта Английских романистов и повествователей. Она в высокой степени господствует и в этой повести, носящей притом на себе отпечаток великаго таланта.]
Я обедал у Гревилля: у него хорошо обедают. Мы много пили и много врали. Все вина в бутылках хозяина и все предметы разговора в головах гостей были исчерпаны, когда мы встали из за стола. Я разстался с ним позже других: Г-жа Гревилль очаровательная женщина!..
– О друг мой! сказал я, идучи от Гревилля под руку с моим товарищем: какая прекрасная ночь! Кто скажет, чтоб в большом городе меньше было Поэзии, нежели в пустынях полей и вод. Посмотри на Лондон! Безмолвие этого огромнаго рынка промышленности, наслаждения и страстей; таинственность, носящаяся над каждым домом так тихо и непроницаемо; быль, и часто романическая, – во внутренности; неясные человеческие образы, мелькающие в них по временам; а если, миновав лучшия части города, пойдешь к смрадным жилищам грубаго и беднаго человека, шум, гвал, дикое ликованье отчаянных сердец, мрачная, ужасная занимательность, принадлежащая злодейству! A там, высоко где нибудь, в окне, видишь одинокий огонек, который ни исчезает, ни светит во мрак! Как часто останавливался я и глядел на такой огонек, теряясь в заключениях! Освещает ли он глубокое наслаждение ученаго, отверзтую книгу и поблекшее чело, или юношеское честолюбивое стремление к науке, этому ложному другу, питающему болезнь и раннюю смерть в груди? Не свидетель ли он безсонницы какого нибудь женскаго сердца, трепещущаго от приближения преступной соперницы, или ожидающаго, цепенея от ужаса, скоро ли послышатся медленные, тяжелые шаги несчастнаго, который только что из гнусных вертепов игры, шаги и супруга той женщины быть может, предмета ранней любви ея? Не больше ли в этом Поэзии, нежели в пустынях, обильных только безумным, животным бытием? Есть ли в лесах и в воде что нибудь подобное роману сердца человеческаго?… И какое тут раздолье для предприимчивости – этой жизни нашего гражданскаго бытия! Какое разнообразие, какия встречи…. Ну, право, старинные рыцари не знали половины тех приключений, которыя могут случиться с молодым и смелым волокитою в обширном городе. Не правда ли, друг мой? Отвечай!
– Нечего сказать: ты говоришь правду. Но если ты такой охотник до приключений, зачем же их не ищешь? Смотри: вот, на крыльце, которое от нас направо, мелькает полоса чего-то белаго: это наверное женщина… Вот тебе приключение!
– Спасибо за совет. Уж не пропущу случая. Дождись меня здесь; а если не скоро ворочусь, так прощай!..
Разгоряченный вином и ободренный возбудительным действием ночнаго воздуха, я в самом деле был готов на всякое приключение: быстро скользнул на крыльце, подмеченное моим товарищем, и пришел к полуотворенной двери. Это был один из тех неогромных домов, которыми отличаются небольшия улицы Мейферской части. Лампа горела насупротив светло и ровно: белое явление исчезло. Полагаясь на свое счастие, я порхнул на крыльце, и потом в корридор. Везде мрак и тень.
– Это вы? пробормотал кто-то в темноте.
– Я, я: ктож другой? отвечал я шепотом, чуть дыша.
– Так пожалуйте за мною, сказал прежний голос, и дверь тихо заперлась.
Зачем же я пришел? подумал я. Нужды нет! Что нибудь да выйдет из этого… Меня легонько держали за руку такие мягкие, нежные пальчики, что страшное какое-то ощущение пробегало по ней до самаго плеча, может-быть и дальше. Я следовал за проводником, который шел легкою походкой, и скоро мы начали всходить по лестнице. Миновали первую площадку. Слава Богу! есть надежда, что эта госпожа не работница. Я терпеть не могу этого класса красавиц! У меня волос дыбом от швей и золотошвеек. Но рука ея?… Нет! эта ручка не для утюга! На второй площадке мы остановились. Проводница моя отворила дверь, и… и… Не кончить ли здесь? Право, я так думаю. Нет! Стану продолжать. Вот я уже и в комнате, и не один. Ах, зачем я не один с моего проводницею! Я с тремя другими девушками, которыя все сидят вокруг стола, и все моложе двадцати лет. Две восковыя свечи озаряли комнату: это была хорошенькая, но не блестящая, уборная. Я осмотрелся, и раскланялся с учтивейшею важностию. Девицы немножко взвизгнули.
– Анна! Анна! кого ты сюда привела?
Анна стояла, как вкопаная, и глядела на меня, будто на краснаго беса в Фрейшюце, и я глядел на нее. Она была, кажется, лет двадцати пяти, степенно, но хорошо одета, роста небольшаго, сложения нежнаго, и немножко рябовата. Но такие черные глазки! – и эти глазки скоро заблистали огнем!
– Кто вы, сударь? Как вы смеете?…
– И! полно браниться, сделай милость! Моя ли вина, что я здесь, пригожая Аннушка? Ты видишь, что я ничего не могу вам сделать. Вас четверо: и что одна лишняя рыбка в целом озере?
Помилуйте, сударь!
– Милостивый Государь!
– Это уже слишком!
– Я подниму весь дом!
– Подите вон!
– Убирайтесь!
– За кого вы нас принимаете?
– Извините: об этом я вас хотел спросить! За кого вы меня приняли?
– Разве Г. Габриель говорил вам… начала моя проводница, которая, разсмотрев меня хорошенько и увидев, что мне менее тридцати лет, и что я одет не по-воровски, стала понемногу смягчаться после перваго порыва.
Габриель! Габриель! О мой ангел-хранитель! подумал я, тотчас разгадав причину этой суматохи.
– Точно так! сказал я вслух. Г. Габриель говорил мне, что вам угодно поворожить, и будучи сам отозван, прислал сюда, вместо себя, искуснейшаго ученика своего. О, Г. Габриель великий человек! Прошу садиться, сударыни, пера и чернил, сделайте милость! В котором часу изволили родиться, сударыня?… Позвольте мне сесть на этот стул.
Кому в Лондоне не известно, что Габриель знаменитый ворожея, в большой моде на Вест-Энде, в западном конце города? С ним советовались все и всегда: он ворожил и мне. Он предсказал мне, что у меня будет семеро детей, за которых благодарю его, как следует. Я уверен, что его предсказание сбудется: стоит только жениться. Он мне приятель, и вам также, – за ваши денежки.
Девицы посмотрели друг на дружку, улыбка показалась на лиц Анны и распространилась как зараза, – превратилась даже в маленький хохот, и через несколько минут мы стали большими друзьями. К счастию, таинства ворожбы несколько были мне известны: в Хиромантии я сведущ хоть куда, а что касается до пророчества о потомстве, я так же хорошо, как. и Г. Габриель, могу предсказать детей всякой молодой девушке.
Мы подружились, как нельзя лучше. Девушки были молоды и веселы, невинны, а как их было четыре, то и не робки. Я считал черты на руках их, рисовал странныя фигуры из Эвклида, и, с помощию «Ослинаго моста» предсказал Анне, что мужем ея будет старший сын какого нибудь Лорда. Подали бутылку краснаго вина и несколько пирожков, – о, как мы были счастливы, разговорчивы, веселы! Я благословлял судьбу моего приятеля, и пробыл там до часа за полночь. Я узнал, что три молодыя девицы были дочери хозяина этого дома, а после некоторых отговорок сказали мне и его имя: оно принадлежало человеку хорошей фамилии, который женился на актрисе, и пришел в затруднительныя обстоятельства. Он не мог ни трудиться, ни просить, но мог жить своим умом: он играл, – выиграл, – вошел в долю с одним известным игорным домом, и сделал себе порядочное состояние, без особеннаго унижения себя в глазах публики. Жена его давно умерла. Она оставила ему трех дочерей. Я часто слыхал, что оне очень милы, но отец довольно хорошо умел прятать их от любителей красоты, держа в заперти. Теперь я увидел их: точно, оне были веселы и невинны; плохое воспитание, недостаток материнскаго надзора и примеры не слишком благонравнаго родства сделали их склонными к шалостям и приключениям, именно такими, которыя могли пригласить к себе стараго Габриеля, и простить ошибке, заманившей к ним, вместо его, астролога помоложе. Но четвертая дева! Теперь, теперь о ней. Вообразите девушку лет семнадцати, лицем моложе, видом зрелее своего возраста; волосы ея темны, мягки, шелковисты и причесаны по-Христиански, то есть, ни по-язычески, на манер Греческих богинь, ни по-жидовски, а с пробором и двумя легкими колечками по вискам; лоб ея бел и прозрачен, – прямыя брови, длинныя ресницы, глаза истинно голубые, – не того холоднаго сераго цвета, который идет за голубой у незнающих, но роскошнаго, яснаго, бархатнаго, – какими бы создал их сам Рафаэль в мечте о голубом цвете; нос не особенно прекрасный (я, с своей стороны, довольствуюсь в женщинах второстепенными носами), но увлекательный и на месте; ротик такой свежий и молодой, что вы можете назвать его подобным хоть тому, из котораго, по словам волшебной сказки, падали нежнейшие цветы; зубки белые и мелкие, с легкими промежутками, что, на мой вкус, не дурно, хотя физиономисты называют эту черту обманчивою; прелестныя руки, атласная кожа, ямочки – и смех, будто серебро. Вот изображение Юлии Л**, и я влюбился в нее по уши. Она мало говорила, а когда и заводила речь, то робко смотрела в сторону, очаровательно смеялась и безпрестанно краснела. Все это было упоительно до чрезвычайности. Я был очень благодарен моему товарищу за то, что он навел меня на такой клад, и когда, в час за полночи Анна провожала меня с лестницы и все оне обещали мне радушный прием на другой день, я думал, что мне опять восемнадцать лет. Ах, счастливый возраст! Какия у меня были тогда надежды, какое сердце! Могу ли снова полюбить другую?… Конечно, нет! Очень хорошо: так я могу видаться с Юлией без всякаго опасения.
На следующее утро мой вчерашний товарищ был у меня за завтраком. Я дружески тряс его за руку, – только что не целовал ее. От моих восторгов, уста его искривлялись самою тлетворною улыбкою.
– Воздержись, любезный друг! говорил он. Что ты затеваешь? хочешь погрузиться в эту любовь?
Любовь?…. погрузиться?…. Что это! Я иду к Юлии.
– Умываю руки от последствий.
– Ты их предвидишь, что ли?
– На этот вопрос нет ответа; но разве каждый, в ком есть капля здраваго смысла, не видит, чем такия глупости непременно должны оканчиваться? Добро! вспомни старую басню о горшках, глиняном и золотом, плывших по реке: глиняный так чванился своим другом, а лишь только течением снесло их вместе поплотнее, он разбился в дребезги.
– Что это за выходка, Джон? Какое соотношение между золотым и глиняным горшками и Юлией?
– В любви все женщины похожи на глиняные горшки. Хочешь ли ты разбить этот горшок своим столкновением?….
Предостерегательный тон моего приятеля сделал было во мне некоторое впечатление, но оно скоро миновало. Я пошел в известный дом, был принят, и опять видел Юлию, она еще милее днем, нежели вечером; в ней такая свежесть, такая чистота; юность ея прозрачна, будто ткань из света, и вся еще блестит росою детства. Мне хотелось бы, чтоб она побольше говорила: ея молчание бременит меня всею тягостию моих чувствований; однако ж глаза ея не так скромны, как уста, и с их помощию мы разговариваем самым приятным образом. И так я влюблен, как нельзя более. Я давно предчувствовал, что этот приятный случай меня ожидает, но, кажется, я несу свой жребий с надлежащею твердостью, хотя, надобно признаться, он имеет свои невыгоды: при любви все прочия наслаждения становятся пошлыми; игра перестает быть упоительна, вино теряет свою силу, товарищи надоедают, в клубе с ума сойдешь от скуки. Надобно любви иметь свои прелести, чтоб вознаграждать за все те удовольствия, которых она лишает, – и я не дошел еще до самой усладительной эпохи в этой истории, – до переписки! Когда станешь получать письма, тогда обновишься жизнию, эфир разольется по жилам. Какое сладостное торжество, вынудить у пера все те выражения, которыя потом должны подтвердиться изустно, не смотря ни на какую застенчивость! Какими новыми предметами наполнен день, какая новая возбудительность таится во времени! Через два часа я об ней услышу! – и, произнося это, в каком ожидании, с какими надеждами, с каким страхом, трепетанием нервов, живешь до тех пор! Но, увы! чем оканчиваются все эти восторги? Горем в случае неуспеха, пресыщением в случае удачи. Без сомнения, чрезмерная любовь ложный расчет. Я согласен с Г. Миллем: нам надлежало б иметь иное воспитание. Но как, по несчастию, я воспитан на старинный лад, то опасаюсь, что мне уже не исправиться. Когда сбудется со мною предсказание стараго Габриеля, когда у меня будет семеро детей, я стану воспитать их по Г. Миллю. Они у меня выростут на политической экономии страстей, и никогда иначе не влюбятся, как расчитав до последней точности, во что им это обойдется! Между тем я отвезу этот гераний к Юлии.
История моей страсти становится важнее и дельнее обыкновеннаго. Но извольте ограничить свое любопытство одними подлунными приключениями: сверхестественнаго уже нет в Европе; – разве согласитесь с тем, что иногда приходит мне в голову: что нет ничего столь дивнаго или чуждаго нашей земной обыкновенной природе, как дух, который животворит и преображает нас в то время, когда мы любим.