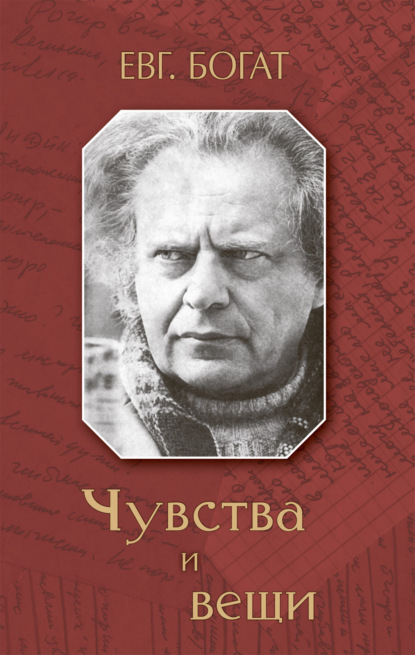По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чувства и вещи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне показалось, что он нарочно уводит меня от сути моего интереса к нему, от существа моих сомнений, потому что эта – в фотоальбоме – область его жизни обладает цельностью и ясностью, которых нет в той, занимающей меня несравненно больше. Пока Жигалко рассказывал о стройках и дорогах, я опять перебирал бумаги на столе – их, кажется, и не убирали.
В тот день мы не говорили ни о Чайковском, ни о его даре, но, когда я уходил, он опять наклонился, порылся в потаенной части шкафа и вытащил оттуда дощечку, пейзаж – весенняя береза, облака.
– Один из самых моих первых, – улыбнулся, – двенадцати лет писал это, или даже десяти, уже не помню точно. Тоже мое, – показал на пейзаж рядом с эскизом Репина, – и вот… – Помолчал и, погладив переплет альбома, тихо закончил. – строил, писал…
Он замолчал, и я довершил:
– Строили, писали и собирали картины…
– Собирал? – резко посерьезнел он. – Да. Это было как болезнь.
– Болезнь? – удивился я.
Он утвердительно наклонил голову.
Конечно, я понимал, что собирательство занимало в его судьбе несравненно большее место, чем это виделось ему сейчас в сегодняшнем нашем общении, но было ясно мне и то, что он не лукавил: ведь ландшафт жизни, как и ландшафт местности, может выглядеть по-разному в зависимости от точки зрения. С сегодняшней точки зрения собирательство отдалилось, и это, я догадывался, объяснялось не возрастом его, когда страсти уже угасают (коллекционерство – единственная, может быть, страсть, увеличивающаяся с годами, становящаяся иногда совершенно нестерпимой, переходящая в старости в подлинное сумасшествие, в клиническое безумие), нет, тут было что-то иное: изменилась, видимо, сама структура души, и это, несомненно, имело самое непосредственное отношение к тем двум моим первоначальным вопросам-сомнениям – к истории коллекции и к истории дара.
Я называю мучившие меня мысли сомнениями, потому что с самого начала не верил не то что в абсолютную чистоту – нравственную – первой и второй историй, нет, подобных сомнений я старался себе не позволять, но не верил в легкость, в отдающую восторженной репортерской строкой возвышенность мотивов, когда человек отрывает от себя самое дорогое, чему посвятил жизнь. Философы давно поняли, что победа над собой – самая трудная из побед… Это драма, в которой судья и подсудимый выступают в одном лице.
Мои сомнения оставались неразрешенными, но начали вырисовываться характер и судьба Жигалко, и в этом было обещание ответов.
Да, собирательство картин было господствующей в его жизни страстью. С того самого часа, когда он, побуждаемый естественной любовью к живописи (не только студент-путеец, но и юный художник), купил в лавке на Кузнецком мосту за бесценок картину, оказавшуюся эскизом Репина, беспокойство души, ревность, жажда обладания, которыми были отмечены во все века все коллекционеры, стали его обычным состоянием.
В то далекое первое десятилетие века на развалах бойко шла дешевая распродажа картин, и юный Жигалко рылся, рылся, покупал на последние деньги, ограничивал себя в одежде и даже в еде. Чутье художника и интуиция коллекционера, становившиеся все более тонкими и безошибочными с годами, сообщали его выбору изумительную точность. Он уносил самое ценное – неказистая с виду, захватанная руками, покрытая пылью дощечка или порванный холст оказывались этюдами Репина, Левитана, Поленова… Он подружился с хозяевами развалов, с коллекционерами, подружился с талантливыми молодыми художниками, дарил им собственные работы, и они тоже в ответ дарили (многое из того, что тогда подарили они, потом, через десятилетия, вызывало зависть музеев).
Да извинят меня честные собиратели, которых большинство, но «лучшее» время для коллекционера – время больших социальных потрясений, войн, разрух, когда вещи резко, парадоксально меняют цену: море Айвазовского стоит дешевле ржаного ломтя, а солнце Италии на картинах Брюллова – глотка молока… К честным коллекционерам, подобным Жигалко, это, повторяю, не имеет непосредственного отношения, но бывает, что по странной воле судеб и у них потом оседают эти отмеченные человеческим горем ценности, миновав ряд нечестных рук…
К середине двадцатых годов Жигалко обладал одной из интереснейших в нашей стране коллекций. Полотна с почетным титлом «из личного собрания А.С.Жигалко» участвовали в союзных выставках, посвященных Репину, Айвазовскому, Левитану, – честь для коллекционера большая.
Одна из трех комнат его квартиры в старом московском доме была заполнена полотнами, и надо было поддерживать определенную температуру, ухаживать за ними. А страсть коллекционера – одна из самых мощных и загадочных человеческих страстей – не только не остывала, но делалась более мучительной.
И тут началась реконструкция Москвы. Жигалко лазил по развалинам, по чердакам обреченных на слом домов и находил в тяжкой рухляди то, что может понять и оценить лишь опытный коллекционер. Это было хорошее для его коллекции время; комната стала похожа на запасник большого музея. Стояли, лежали, теснились полотна, точно ждали чего-то. Чего?
А Жигалко тащил и тащил сюда новое, бесценное, и уже тяжело ему стало совмещать работу инженера с коллекционерством и уходом за картинами, и он пошел в школу учителем рисования и был, видимо, отличным учителем, сам художник, некогда близкий к Архипову.
Коллекция Жигалко состояла из четырех тысяч полотен… Это было его сокровище, смысл и дело его жизни. Четыре тысячи полотен в доме – его радость, его страсть, его собственность. Он заглядывал в нее то и дело, часто ночами, вытаскивал какое-нибудь полотно, отвечающее его воспоминаниям, душевному состоянию, мыслям, рассматривал и точно осязал ткань собственной жизни. Однажды его поразила мысль о том, что жизнь, казавшаяся такой разнообразной, исполненной поисков, новизны, волнений, эта с дорогами, ручьями, лесами и запахом угля и сена жизнь уместилась в одну небольшую комнату в старом обветшалом доме. Мир съежился. И в съежившемся мире вызревал постепенно вопрос: зачем, во имя чего жил?
И стало сильнее и сильнее тянуть его в город, где он родился, бегал мальчишкой в реальное, где фотограф торжественно запечатлел на самой заре века большую рабочую семью, положив начало семейному альбому. В этом городе был хороший музей, и Жигалко написал туда, что хочет передать собранные в течение десятилетий картины, только чтобы ему оставаться рядом, при этих бесконечно дорогих ему полотнах до конца дней… Письмо это вызвало восторг, потому что в музее достаточно хорошо была известна ценность коллекции Жигалко. К нему тотчас же выехал сотрудник, который в ознаменование завязавшихся между двумя сторонами добрых отношений отобрал несколько полотен, наиболее замечательных, уехал с ними и написал Жигалко потом, что они уже выставлены и музейные работники так же, как и посетители, восторгаются широтой его души.
А Жигалко ждал, потому что хотел передать не несколько полотен, а коллекцию полностью, ибо была она для него чем-то неразрушимо цельным, и передать ее с самим собой, ибо себя не мог он от этой коллекции отделить. Шли месяцы; музей молчал. Жигалко написал опять, ему ответили уже суше, без тени былой восторженности, чтобы он набрался терпения, потому что организационно решить его дело нелегко. Потом сообщили, что это и вовсе не удается, поэтому от его дара вынуждены отказаться. Картины честно вернули, хотя и не полностью, что-то оставили у себя. Жигалко не возражал, ведь это был город его детства.
Теперь его мысли были заняты одним: найти город, которому можно было бы передать коллекцию хотя бы и без себя, но полностью и непременно для постоянной экспозиции. Ему показалось, что он действительно был нескромен, навязывал собственную персону, в силу весьма пожилого возраста достаточно обременительную.
И Жигалко начал думать, советоваться, искать. Он понимал: это должен быть молодой город, город с большим будущим, чья судьба лишь начинает складываться. В этой судьбе его галерея (а он мечтал именно о галерее) может стать особым событием (как Третьяковка, думалось порой нескромно, в судьбе Москвы). После долгих раздумий был выбран один из молодых городов, известный обилием научно-исследовательских институтов: лучшего места на земле для новой картинной галереи, конечно, не найти! Жигалко написал, что хочет подарить молодому городу науки две тысячи ценных картин русских и советских художников.
Ответ был получен немедленно: высылайте! И Александр Семенович погрузил картины в контейнеры (заплатил по тридцать девять рублей за контейнер).
Сообщения о «патриотическом шаге» Жигалко появились в местной печати. А когда в Доме ученых открылась выставка части подаренных картин, местная газета поместила большой фоторепортаж с фотографиями, где мелькали в восторженном тексте имена Кипренского, Сурикова, Коровина… Заканчивался репортаж «Подарок любителям живописи» строкой о том, что «решено создать в научном городке постоянную картинную галерею».
Жигалко, разумеется, был на открытии выставки, да и сама экспозиция составлялась при его деятельном участии. И хотя это была только выставка, а не картинная галерея, ему казалось, что великий замысел исполнился. Он помолодел, носился с утра до вечера по залам, изучал освещение, перемещал картины, наблюдал радостно за посетителями, обдумывал оптимальные варианты соседства полотен. Он переживал великие дни: видные, известные стране и миру ученые, сами коллекционеры, подолгу беседовали с ним; он взволнованно обсуждал возможное авторство анонимных картин и старался не думать о том, что долгие десятилетия то, что сейчас его окружает, покоилось в тесно набитой комнате…
Потом он уехал – дома оставались еще две тысячи, надо было решить их судьбу. Он уехал с уверенностью, что половина коллекции устроена надежно, ничего, что пока в Доме ученых выставлена лишь часть ее, рождение галереи – дело не одного дня, нужна серьезная оргработа, надо набраться терпения…
А через некоторое время получил из этого города, от любителя живописи, с которым успел подружиться, опечалившее его письмо. Картины со стен сняли. Жигалко написал, и ему ответили, чтобы не волновался, картины опять вернут. А местные печать и радио замолчали, и никто не заговаривал больше о постоянно действующей картинной галерее. Жигалко, теряя терпение (особенно возмутило его известие, что картины лежат на железнодорожном складе), послал резкое письмо, его уведомили холодно и четко, что картины помещены в запасники библиотеки Дома ученых. А в этих запасниках Жигалко бывал тогда, в незабываемые дни торжеств – там душно, для картин нехорошо. «Да, – думал он вечерами, – выставка – это мимолетная радость, однодневное торжество, а картинная галерея – будни, штаты, сметы, реконструкция, ремонты. А у них наука, большие дела, до меня ли…»
И тут Жигалко в состоянии духа, как думается мне, несколько раздражительном – сердясь более на себя самого, – утратив надежду на рождение постоянной галереи, сохраняющей навечно в чудесной цельности собранные им сокровища, начал раздаривать полотна. Несколько этюдов Левитана он подарил Дому-музею П.И.Чайковского в Клину. И волей судьбы этот нечаянный подарок решил участь его сокровища. Одна из сотрудниц дома-музея, будучи на родине композитора, рассказала в молодом городе Чайковском о том, что живет в Москве старый-старый коллекционер, который хочет подарить великолепное собрание картин и не может найти кому… Люди, которым сотрудница об этом рассказала, разумеется, не поверили (да я и сам бы, услышав, не поверил), подумали: легенда; и вот пошла легенда гулять по городу, дошла до горкома партии и горисполкома; и вызвали туда директора местного малюсенького краеведческого музея Николая Петровича Кузьмина, попросили его написать в Москву Жигалко, а если надо, то и поехать к нему.
А когда в Чайковском удостоверились, что за легендой стоит реальность – четыре тысячи полотен, – местная общественность повела дело настолько целеустремленно и энергично, что теперь уже не Жигалко наступал, а его самого осаждали: «Берем, устроим музей, это наше, наше!» Сообщения сыпались на него без перерыва: нашли двести сорок квадратных метров… решили, мало… нашли девятьсот квадратных метров, началась реконструкция… строителей выделил Воткинскгэсстрой… текстильный комбинат готовит портьеры… Весь город строит музей! И в этих сообщениях не было восторженного пустословия: город действительно строил, точнее, перестраивал старый дом, создавая «нашу Третьяковку».
Новую картинную галерею Чайковский открыл в день рождения Александра Семеновича Жигалко – ему исполнилось восемьдесят четыре года. Его поздравили пятьдесят тысяч человек. День его рождения праздновал весь город.
Было это в феврале; в залах местной «Третьяковки» выставили две тысячи полотен. Остальные две тысячи оставались пока в научном городе. Александр Семенович собрал все душевные силы и написал письмо о расторжении дарственной, ибо не выполнено основное ее условие: «показ картин народу». В этом письме он сообщил о рождении постоянной галереи в Чайковском: «Мое сокровище нашло родной дом». В июле Жигалко получил ответ: «Мы готовы вернуть Вам Ваш дар». Брюллов, Репин, Левитан поехали в последний раз – в город Чайковский.
И опять я сижу в его комнате (он переехал недавно в новый дом, а тот, где десятилетия хранились четыре тысячи полотен, пошел на слом), сижу за столом, заваленным бумагами, по-прежнему листаю их, перечитываю.
Александру Семеновичу все еще нездоровится, изредка обмениваемся замечаниями, а все больше думаем. Я думаю о том, что Жигалко совершил нечто удивительное, завершившее собой его жизненный путь, путь к истине. Уже на излете жизни он осуществил ту великую переоценку ценностей, которая сообщила его бытию высший смысл.
Все помыслы его сейчас в Чайковском. О былых мытарствах он говорит полушутливо:
– Нетерпелив я был. Надо было подождать, попросить, поклониться, задобрить, а я резкие письма писал.
– Задобрить? – удивляюсь. – Ведь вы же дарите?
– Ну и что ж, что дарю. Бывают подарки и обременительные.
– Но вот же Чайковский не нужно было задабривать.
– Чайковский, – улыбается. – Чудо…
В разговоре со мной один из коллекционеров назвал Жигалко Дон-Кихотом. В душевном «зерне» и внешнем облике его действительно есть что-то подкупающе-явственное от «рыцаря печального образа». Жигалко сухопар, высок, часто поверх собеседника рассматривает что-то, как будто видимое ему одному. Его медлительность, даже некоторая заторможенность, порой резко обламывается порывистым жестом, быстрым ритмом речи, как у человека, который мешкал перед дорогой и, решившись наконец, не идет, а бежит по ней.
Я опять оглядываю стены комнаты, на которых висит то неотрывное, что он себе из четырех тысяч оставил. И, угадав мои мысли, Жигалко говорит:
– А Николая Петровича Кузьмина вы не осуждайте за то, что он в том письме потребовал и это, последнее… Он удивительный человек, ему сесть в поезд… – И, понизив голос: – Я беспокоюсь, уж не собственные ли деньги он мне посылает, ведь получаю из Чайковского почти ежемесячно шестьдесят.
Страсть собирать уступила в этой жизни иной, высокой страсти – отдавать. Наступило ясное понимание того, что собирательство без венчающего действия – от себя – бессмысленно. И в этом урок жизни, о которой я пишу. Наверное, высокое желание отдавать нельзя называть страстью именно в силу этого высокого понимания, ибо давным-давно отмечено, что страсть – стремление, не повинующееся разуму; потребность же одаривать мир и людей глубоко разумна, ее питает мудрая мысль о единстве «общины» и личности, человека и мироздания.
Петрарка писал в одном из сонетов о горечи «позднего меда»; это относится не только к любви, но и к меду поздней мудрости. И не от этой ли горечи та самая ирония, которая была не полностью понята мной, но явственно ощущалась в первой беседе с Жигалко. Почувствовав однажды иронию жизни, он, несравненно поумнев, сумел обратить ее на себя.
Особенность этого характера и этой судьбы в том, что его дар людям оказался и выявлением собственного дара: человек понял, что, «зарывая в землю» картины, он, в сущности, зарывал и себя, зарывал талант.
Жить и умереть
После опубликования истории о коллекции Кириллова я получил письмо из небольшого города от бухгалтера Лидии Петровны Кучеровой.
«…Мне и моим товарищам хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе коллекции Кириллова, убитого собственным сыном. В чьих руках она сегодня, кого радуют эти бесценные вещи?.. Когда у нас читали и обсуждали Ваш очерк, кто-то напомнил о том, что несколько лет назад Вы же, кажется, писали об одном старом коллекционере, который подарил небольшому городу несколько тысяч картин. Хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе и этой коллекции. Если нам не изменяет память, была открыта целая картинная галерея, “местная Третьяковка”?..»
То, о чем рассказано будет ниже, можно рассматривать как развернутый ответ читателям, которые делились мыслями о высших целях собирательства – этой (по выражению автора одного из писем) «загадочнейшей страсти, заставляющей порой и нравственного человека совершать безнравственные поступки».