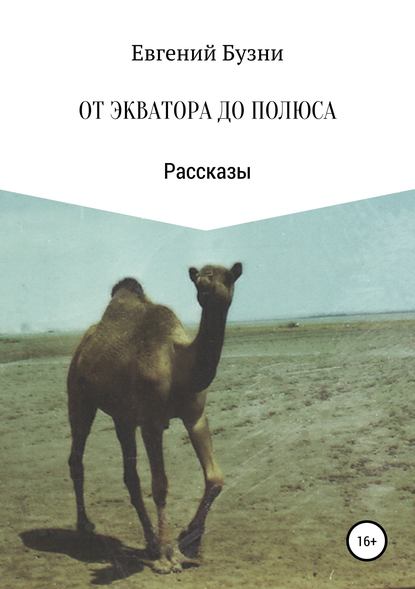По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От экватора до полюса. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот оно что, – подумал я, – как же я сразу не сообразил, что мать проводит с нею репетиции всегда сначала без музыки, вот как сейчас, отбивая ритм ладонью на траве?
Манджула танцует. Выпад на правое колено, на левое, вращение. Темп всё ускоряется. Вдруг – ах, какая досада! – диадема с головы смесилась на лоб. Чувствую, что танцующая девушка заметила. Она слегка приподняла голову и продолжает танцевать. Нельзя останавливаться, как нельзя прерывать песню, обрывать стих, не закончить сказку. Всегда появится чувство неудовлетворённости, неполноты радости от искусства, которым живёшь.
Площадка для танца невелика, значительно меньше сцены, но как умело девушка использует каждый её кусочек: шаг вправо – поклон, шаг влево – разворот. Знаю, как часто говорят танцоры: «Уберите всё со сцены», «Нам не хватит места», «На такой площадке я не помещусь» и, откровенно говоря, далеко не всегда это бывает оправдано, часто в этом больше фанаберии, требования большего внимания к себе.
Манджула ничего не сказала, а просто мысленно рассчитала движения и ни разу не сбилась. Белыми бабочками порхают, падая под ноги, цветы, срывающиеся с косы во время резких движений. На фоне зелёных деревьев они напоминают снежинки, неожиданно попавшие в лето.
Манджула приседает, поднимается, наклоняется в разные стороны. И руки. Как много они значат! Они готовы обнять, ударить, просят, отталкивают. Руки живут своей жизнью. По ним можно узнать всё, даже не глядя в лицо танцовщицы. Но без него всё же нет танца Бхарата. Оно улыбается, плачет, кричит, помогает рукам, слышит музыку и дышит ею. Здесь нет мелочей. Каждое движение – мысль. И кажется таким естественным смотреть индийский танец под лучами индостанского солнца среди зелени деревьев и трав, под щебетанье птиц и равномерные звуки женского голоса: та-ти-ти-та-та, сливающийся с танцем в единое целое, прекрасное, каждый раз новое и неповторимое.
У меня в кинокамере кончается плёнка. Но и танец подошёл к своему финалу. Манджула замирает в последнем движении, сложив ладони перед грудью. «Намасте», то есть «До свиданья» – говорят они нам. Кто-то аплодирует, кто-то благодарит по-английски. Манджула подходит к матери, сконфуженно показывая на лоб и поправляя соскользнувшее украшение. Мы окружаем их, дарим сувениры, благодарим.
– Манджула, – прошу я, – расскажи, пожалуйста, немного об индийском классическом танце. В чём его сложность и почему его приходится долго изучать?
Несколько секунд девушка как бы собиралась с мыслями, а потом начала рассказывать:
– В древности индийский классический танец был частью богослужения и исполнялся только образованными девушками, которые пользовались большим уважением, так как они танцевали в храмах. К танцовщицам предъявлялись очень высокие требования. Они должны были быть молодыми, не очень полными и не очень худыми, не высокими и не низкими, с красивыми лицами, большими глазами, обаятельными улыбками и лёгкими, ловкими, уверенными движениями. Кроме того, танцовщицу не допускали к исполнению танца, пока она не изучит сто восемь положений рук и ног и тридцать две комбинации этих положений. Но и это ещё не всё. Танцовщица должна уметь петь, щёлкать пальцами и быть очень музыкальной, так как, например, гремящие браслеты на ногах должны звучать в такт музыке в строго определённые моменты, что тоже очень сложно.
В этот день мы долго не расставались с нашими гостями. Манджула переодела костюм и показала обрядовый танец «Пикок», то есть танец павлина. Это было весёлое интересное представление, в котором птица с огромным, красиво распущенным хвостом (в костюме используются настоящие павлиньи перья) старается привлечь внимание самки павлина. Согнувшись, словно превратившись в настоящую птицу и забыв о людях, Манджула то подпрыгивала на обеих ногах, то важно расхаживала, красуясь и разворачивая перья. Мы весело смеялись, а она жила своей жизнью в птичьем царстве, в совершенно другом мире, но жила для нас. Она танцевала.
Раздарив за день всем, кому нужно, максимум своего тепла, солнце Индии уходит за океан. Но жизнь в стране ещё долго не затихает. И то ли на сцене клуба перед сотнями зрителей, то ли в классной комнате или у себя дома Манджула танцует и танцует классические и народные танцы Бхарата, замечательные танцы Индии в такт которым постоянно звучит мелодичный певучий голос матери Манджулы:
– Та-ти-ти-та-та, та-ти-ти-та-та, та-та-та.
Урок дипломатии
Мы договорились с Велайтеном, что я зайду за ним, когда отправлюсь на эксгаустерное отделение. Перекидываю через плечо ремень кинокамеры, поправляю на груди фотоаппарат, надеваю каску и выхожу из кабинета в длинный коридор нашей конторы, или как мы называем её по-английски «офис». Дверь моего попутчика почти напротив. Заглядываю в его маленькую комнатушку, где едва умещается один стол и пара стульев. Широкие лопасти потолочного вентилятора лениво гонят тёплый воздух, создавая слабую иллюзию прохлады. Кондиционер зональному инженеру по штату не полагается. Здесь, на строительстве коксохимического комплекса, дорогостоящее устройство, охлаждающее воздух, разрешено иметь только ответственному за строительство комплекса, находящемуся в ранге заместителя главного инженера строительства всего металлургического комбината в Бокаро Тэ Эс Гиллу и его главному помощнику, старшему инженеру Эм Пи Варме.
– Мистер Велайтен, – зову я.
– О, Вы уже идёте?
Велайтена чаще всего называют по фамилии, которая не очень распространена, по крайней мере, здесь, на заводе, где работают около ста тысяч человек. Он относительно молод. Ему не более тридцати пяти. Увидев меня, Велайтен широко улыбается и поднимается из-за стола. Он мне кажется всегда несколько растерянным, каким-то несобранным, говорит по-английски быстро и не всегда четко, как бы спотыкаясь. Если его не сразу понимают, он с досадой вздыхает и начинает повторять свою мысль или же смеётся и говорит:
– Ладно, поговорим об этом в следующий раз. Мне нравится его улыбка и сам характер – весёлый, добродушный.
Как обычно, на столе у Велайтена я не увидел никаких бумаг. Это меня всегда удивляет. Рядом, в комнатах, где расположились советские эксперты, всюду можно увидеть стопки и папки с чертежами, инструкциями, графиками. В кабинетах индийских инженеров столы, как правило, чисты от документации, будто они существуют только для приёма чая, которым разбавляют и сложную деловую беседу, и лёгкий разговор. Только в столе у Вармы, пожалуй, находятся все основные чертежи.
У наших специалистов в ящиках столов можно найти великое множество инструментов и запасных деталей, с которыми они ходят на строительную площадку. Тут и измерительные приборы, тестеры, электропробники и всевозможные гаечные ключи, отвёртки, напильники – чего только не увидишь, что требуется им на месте для выполнения немедленного ремонта.
Индийский порядок совсем другой. Однажды по неопытности я зачем-то попросил на минутку отвёртку у тогда ещё не знакомого мне индийского инженера. Кажется, перегорела пробка на линии нашего кондинционера, и я хотел сам открыть щиток предохранителей. Меня направляли из кабинета в кабинет, пока я не попал к зональному инженеру-электрику. Тот написал записку и послал с нею мальчика на строительную площадку или склад, откуда минут через пятнадцать принесли уже ненужный инструмент, так как я успел найти его в комнате наших инженеров.
Когда я спросил однажды у Велайтена, почему у него не лежат чертежи объекта, за который он отвечает, тот ответил, смеясь:
– А зачем? Я всегда могу найти их у вас. Но затем, посерьёзнев, добавил:
– Я шучу, мистер Бузни. У нас тоже есть чертежи у проектантов, и, если надо, они их привозят.
Сейчас, выходя из кабинета, Велайтен одобрительно смотрит на мою съёмочную аппаратуру, легонько хлопает меня по плечу и говорит:
– О кей! Вы полностью готовы, значит, сегодня обязательно пустим эксгаустер.
Из коридора, который хоть и освещен лампами дневного света, но всё же кажется несколько тёмным, выход на открытый воздух напоминает ныряние в другую среду. Глаза буквально заливает потоками яркого солнечного света, заставляя их щуриться первое мгновение, а тело охватывает жаром, словно со всех сторон разожгли костры, и деться от них просто некуда. Однако слой воздуха порой перемещается, создавая впечатление лёгкого дуновения ветерка, и это смягчает тяжёлое ощущение.
Нам нужно пройти метров четыреста. Расстояние отнюдь не кажется коротким. Потревоженная нашим приближением, небольшая, почти сливающаяся с дорожной пылью змейка быстро скрывается под обломками железных конструкций, валяющихся на обочине дороги.
Я не успеваю поймать её в объектив кинокамеры, зато вижу коров, медленно шагающих в сторону коксовых батарей, и нажимаю кнопку спуска. Аппарат стрекочет, а корова с остроугольным тощим горбом на спине и длинными, изогнутыми внутрь рогами на голове как бы специально для меня наклоняет голову вниз, большими губами захватывает кусок картонной коробки и начинает жевать. У меня такое впечатление, что здешние коровы являют собой особый заводской тип и потому едят всякий хлам, включая мешки из-под цемента и даже рубероид.
Велайтен обходит меня сзади, боясь перекрыть объект съёмки, и напоминает, что пуск назначен на одиннадцать часов, осталось десять минут. Опускаю камеру и ускоряю шаг. Повернув направо, проходим мимо высоких объёмистых баков – хранилищ смолоперегонного цеха, откуда всегда несётся неприятный запах. Справа высятся узкие башни электрофильтров, напоминающие собой сложенные гармошки. Здесь тоже видны растёкшиеся лужи смолы. Немного впереди роют котлован для закладки фундамента второй очереди сернокислотного цеха.
Не могу удержаться и опять поднимаю кинокамеру к плечу. Перевожу трансфокатор на крупный план, и прямо на меня выходят друг за другом из котлована женщины, придерживающие на голове одной или двумя руками тяжёлые корзины с землёй. Перейдя дорогу, они, не наклоняя свои стройные тела, ловко переворачивают ношу, высыпая землю в отведённое место, и возвращаются за новой порцией груза. Заметив меня с нацеленными на них аппаратами, женщины переговариваются между собой, отводя глаза в сторону, смущённо улыбаются и поправляют съезжающие с плеч сари, стараясь сделать это лёгким незаметным движением руки.
Но вот и эксгаустерное отделение. На втором этаже невысокого здания, опутанного со всех сторон сетью труб, расположен большой машинный зал. В нём, будто тяжёлые бегемоты на арене цирка, разместились ровным рядом пять мощных электромоторов; три уже действуют, наполняя воздух равномерным гулом, четвёртый собираемся пустить сегодня, а пятый на очереди.
Эти эксгаустеры предназначены для перемещения огромных количеств коксового и доменного газа на коксовые батареи, агломерационную фабрику, в доменные цеха и другие подразделения крупнейшего в Индии металлургического комбината. Словом, их значение огромно. А если учесть, что каждый такой двигатель, спрятанный под массивным кожухом, таит в себе силу в восемьсот киловатт, способную в случае: неуправляемости разнести всё здание, то становится понятным волнение, которое охватывает инженеров и рабочих при запуске нового агрегата.
Какое-то магнетическое напряжение передаётся каждому при входе в зал, когда видишь озабоченные лица советских экспертов в окружении их контрпартнёров и снующих в разные стороны индийских рабочих, выполняющих последние поручения, что-то подкручивающих, проверяющих, несущих инструменты, приборы.
Я вижу нашего Дмитрия Ивановича Андреева у корпуса четвёртого эксгаустера. Его коренастая крепкая несколько сутуловатая фигура всё время в движении. Он здесь главный, и, откровенно говоря, от него зависит всё: сумеет ли предусмотреть возможные неполадки, четко, последовательно дать соответствующие команды, своевременно заметить по звуку сбой, если вдруг случится.
Помню, как во время пуска предыдущего агрегата произошёл такой случай. Сначала была пробная прокрутка, то есть после полной сборки машины, когда всё уже закрыли и завинтили, должны были включить эксгаустер всего на одну минуту для проверки работы по всем параметрам. Тут и за температурой следят каждую секунду, и давление измеряют, проверяют смазку и систему охлаждения. Достаточно несколько лишних секунд поработать двигателю без подачи масла или с перегревом, и он навсегда может выйти из строя, не начав своей рабочей жизни.
Но вот все на местах. За каждым прибором следят несколько пар глаз – нельзя пропустить ни малейшего отклонения. Дмитрий Иванович берёт слуховой аппарат, состоящий из длинного металлического стержня, прикрепленного к небольшой жестяной подушечке. Её он прикладывает к уху, а другой, свободный конец стержня упирает в корпус пока ещё не ожившей машины. Так он может слышать малейший шорох внутри, и как врачу понятно биение сердца, ему будет легко определить, ровно ли начал работать агрегат, не мешает ли ему что.
Кто-то из индийских коллег тоже взял такой стержень и приложился им с другой стороны корпуса. Он ещё не умел распознавать звуки, но хотел научиться.
Дмитрий Иванович машет рукой, и тут же звучит команда понятная и русским специалистам, и индийским контрпартнёрам:
– Старт!
Синяя кнопка пуска, наконец, нажата. Могучая установка, словно пробудившийся от спячки зверь, начинает набирать обороты, готовясь к бешеной гонке. В этот миг все замерли, затаив дыхание в трепетном ожидании какого-то чуда. Однако в тот момент ему не суждено было быть. Нарастающий рёв двигателя вдруг перекрыл резкий повелительный, немного охрипший от волнения голос Дмитрия Ивановича:
– Стоп! Стоп! Стоп!
Первые мгновения после пуска рука всегда находится возле красной кнопки «стоп», и потому остановка происходит в ту же секунду, как подана команда.
Как только машинный зверь утихомирился, внимание всех обратилось на главного распорядителя ситуации. А он уже быстро отдавал команды рабочим, мешая русские слова с английскими, но главное, показывая жестами, что нужно взять ключи, отверну т ь болты и снять кожух. На вопрос, что случилось, ответил мрачно: Не знаю, но слышал, кажется, посторонний звук. Слово «кажется» никому не понравилось. Остановить махину – дело не шуточное. Это потеря как минимум одного дня. Ведь теперь, если всё нормально, тем не менее надо разбирать машину, протирать детали, смазывать их и снова собирать. Таков порядок. Но в этот раз осторожность оказалась не напрасной. Чуткий слух не подвёл мастера.
Когда сняли кожух, под ним обнаружили несколько обломков электродов и один почти целый. Я взглянул на Дмитрия Ивановича. Обычно доброе лицо его было неузнаваемо злым. Он стиснул зубы, и под щеками забегали желваки. Схватив куски электродов, он поднял их в руке над головой и готов был крушить любого, кто положил их туда. Внутренние силы заставляли вылить гнев на первого попавшегося, но сознание того, что многие окружавшие его не понимали, в чём дело, да и вовсе не были виноваты, пересилило, и он, заикаясь от волнения, сказал:
– Ну, кто это сделал? Ведь раскрутись эксгаустер сильнее, и сумасшедшей тягой подняло бы эти электроды. Тогда они, пулей пробили бы обшивку, и всё разнесло бы к чертям.
Левой рукой он стёр градом льющийся пот, вызванный, по-моему, в этот раз не жарой, к которой все привыкли.
Позже долго разбирались в причинах случившегося. Приезжала даже местная служба безопасности. Однако сошлись на том, что в предыдущий день не успели до конца дня закрыть все люки, и кто-то из сварщиков выбросил туда по недопониманию остатки валявшихся поблизости электродов.
Что ж, могло быть и так. Ведь рабочим здесь только становятся, и многое им ещё непонятно.
Сейчас обстановка возле четвёртого эксгаустера из напряжённой переходит в накалённую. Собрались почти все. Вижу Тэ Эс Гилла, Эм Пи Варму и представителей эксплуатации, окруживших Дмитрия Ивановича и слушающих, как он что-то им горячо доказывает, размахивая руками. К ним уже торопится на помощь начальник комплекса по советской стороне Владимир Григорьевич Кузовков.