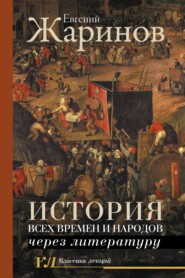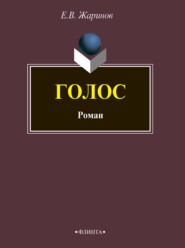По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лекции о литературе. Диалог эпох
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Известно, что в эпоху Средневековья было распространено учение о дьявольском созвучии, запрещенном во всех церквях Европы. Это дьявольское созвучие и есть воплощенные три грации на картине Боттичелли. Монахи записывали музыку с помощью цифр. Записывали ее, располагая эти цифры на разных строчках. Этот манускрипт хранится в монастыре Савонароллы Сан-Марко. Поражает графическое совпадение музыкально-цифровой записи с фрагментом «Танцующие грации» на картине «Весна» Боттичелли. К тому же в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые зрительные центры. При этом абсолютно неважно, какой формат имеет картина – горизонтальный или вертикальный. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Это и есть так называемое золотое сечение.
В изначальном смысле и согласно каноническому определению это ?????? ???? ?????? ?????? – деление отрезка в крайнем и среднем отношении. В словесной формулировке целое относится к большей части как большая часть к меньшей, и речь здесь идет уже не только об отрезках, а о произвольных величинах, не обязательно геометрической природы. Впрочем, судя по некоторым источникам, золотое сечение понимается не только как некое геометрическое построение или определенная пропорция, а гораздо шире.
Помимо канонического отрезка и прямоугольника с соответствующим отношением сторон наиболее известной фигурой, двумерным символом золотого сечения вправе может считаться пентаграмма (пентальфа, пентагерон), обычно понимаемая как пятиугольная звезда, вписанная в правильный пятиугольник, которую понимают еще как ловушку для демонов и которая была символом многих тайных обществ. Весьма популярна и золотая логарифмическая спираль – с постоянным углом 73° между радиусом-вектором и касательной к кривой. Среди других узнаваемых золотых фигур укажем на прямоугольные и равнобедренные треугольники нескольких типов, эллипсы и ромбы, образуемые соединением золотых треугольников. Список трехмерных золотых тел всегда начинается со знаменитых еще со времен Платона, позже «Начал» Евклида додекаэдра и икосаэдра – двух из пяти платоновых тел, то есть многогранников, составленных из однотипных правильных многоугольников. Интересна и пространственная логарифмическая спираль, трехмерный аналог своего двумерного прототипа.
А теперь мы подходим к рассмотрению центрального элемента теории золотого сечения – константы ? (фи). Существует несколько взаимосвязанных и формально равноправных, но содержательно различных и эвристически неравнозначных определений этого числа. Не будем здесь углубляться в излишние подробности. В цифровом отношении это таинственное число выглядит следующим образом:
? = 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 77203…
В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому сечению среди ученых и художников в связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре. Сам Леонардо да Винчи говорил: «Пусть никто, не будучи математиком, не дерзнет читать мои труды». В это время появилась книга монаха Луки Пачоли. По мнению современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилом, величайшим математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем. К тому же он изобрел основу основ финансового бизнеса, двойную бухгалтерию, без которой немыслимо было процветание дома Медичи. Лука Пачоли был учеником художника Пьеро делла Франчески, написавшего две книги, одна из которых называлась «О перспективе в живописи». Его считают творцом начертательной геометрии. Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого сечения. Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом делении.
Вновь «открыто» золотое сечение было в середине XIX в. В 1855 г. немецкий исследователь профессор Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические исследования». Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно он разработал пропорции Аполлона Бельведерского. Подверглись исследованию греческие вазы, архитектурные сооружения различных эпох, растения, животные, птичьи яйца, музыкальные тона, стихотворные размеры. Цейзинг дал определение золотому сечению, показал, как оно выражается в отрезках прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были получены, Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который можно продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону. В конце XIX – начале XX в. появилось немало исключительно формалистических теорий о применении золотого сечения в произведениях искусства и архитектуры. С развитием дизайна и технической эстетики действие закона золотого сечения распространилось на конструирование машин, мебели и т. д. Мы буквально окружены этой геометрико-цифровой закономерностью вплоть до размеров и форм наших кредитных карт, которыми мы расплачиваемся во всех уголках мира, включенных во всеобщую банковскую систему. Но именно о такой глобальной власти денег, денег дома Медичи, и мечтали финансисты эпохи Возрождения. А между тем золотое сечение берет свои корни еще в философии Пифагора, а затем и Платона, древнего мыслителя, в честь которого и была создана на вилле Кареджи знаменитая академия и так называемая платоновская семья. Еще мыслители древности и деятели Платоновской академии к своему несказанному удивлению открыли для себя, что все, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось занять место в пространстве и сохранить себя, имело отношение к золотому сечению и числу ? (фи). Это стремление находит осуществление в основном в двух вариантах – рост вверх или расстилание по поверхности земли и закручивание по спирали. Раковина закручена по спирали. Спирали очень распространены в природе. Форма спирально завитой раковины привлекла внимание Архимеда. Он изучал ее и вывел уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, называется его именем. Увеличение ее шага всегда равномерно. В настоящее время спираль Архимеда широко применяется в технике.
Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. Спираль увидели в расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах и т. д. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке (филотаксис), семян подсолнечника, шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон золотого сечения. Паук плетет паутину спиралеобразно. Спиралью закручивается ураган. Молекула ДНК закручена двойной спиралью. Спираль называли еще «кривой жизни». И в растительном, и в животном мире настойчиво пробивается формообразующая тенденция природы – симметрия относительно направления роста и движения. Здесь золотое сечение проявляется в пропорциях частей перпендикулярно к направлению роста. Природа осуществила деление на симметричные части и золотые пропорции. В частях проявляется повторение строения целого. Даже галактики в космосе предстают перед нами в виде спирали.
И здесь мы опять упираемся в деятельность Платоновской академии, расположенной на вилле в Кареджи и основанной еще Козимо эль Веккьо. Теоретической основой финансового благополучия семьи являлась теория двойной бухгалтерии Луки Пачоли, правда, и до этого гения Медичи умели вести счет своим активам и имели при себе некую черную книгу, куда записывали все, что касалось их финансовой деятельности. Поговаривают даже, что знаменитый Пачоли был тривиальным плагиатором и присвоил себе чужое открытие. Об этом откровенно заявлял такой авторитет, как Вазари. Но, как бы там ни было, а теория двойной бухгалтерии навечно связана с именем Луки Пачоли, или Фра Луки из Богро, как его начали называть, когда он принял монашеский сан. Поначалу этот будущий монах даже и не собирался становиться известным математиком, а тем более изобретателем двойной бухгалтерии. Он собирался быть живописцем и проходил выучку в мастерской художника Пьеро делла Франческа. Но занятия живописью как-то не задались, и Лука увлекся математикой, благо тогда, в соответствии со всеобщим влиянием идей Платона, именно эту науку считали основной в области любого пластического искусства. Ведь это была эпоха безраздельной власти линейной перспективы, а линейная перспектива – это, прежде всего, явление геометрическое, а уж затем эстетическое. А я бы сказал, что через математику эта самая пресловутая перспектива очень сильно связана и с теорией финансов.
Вдохновляло Пачоли стремление показать универсальный характер математических знаний, математики как «всеобщей закономерности», которую можно применить ко всем вещам. Это убеждение фра Луки основывалось на философии Платона, его учении о математике как некоем опосредующем звене между миром идей и материей, а также на неоплатонизме Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола, проникнутом пифагорейскими и каббалистическими представлениями о роли числа. Как мы видим, это обстоятельство необычайно связывало в духовном и идейном смысле создателя теории двойной бухгалтерии с так называемой платоновской семьей. Пачоли был хорошо знаком с математическими идеями Платона по его «Тимею». По примеру пифагорейцев Платон полагал, «что четыре или пять стихий состоят из правильных тел». Он представлял себе, что однородная, составляющая тело мира материя, сгущаясь известным образом в небольшие, невидимые тетраэдры, образует стихию огня, а в гексаэдры – стихию земли… Между этими крайними телами помещались затем в виде связующих звеньев икосаэдр и октаэдр, причем первый получил форму стихии воды, а второй форму стихии воздуха. Пятое из правильных тел, додекаэдр, представляло, по мнению пифагорейцев, эфир и символизировало у Платона упорядоченную форму мирового целого. Переход одной стихии в другую изображался в виде преобразования правильных тел друг в друга. Таким образом платоновская физика сливалась со стереометрией. И у Пачоли, разделявшего эти пифагорейски-платоновские представления, стереометрия оказывалась главным звеном его математических изысканий.
Античные идеи легли в основу учения о пропорции, которому Пачоли уделял особое внимание. В «Сумме» он отмечал: философы «хорошо знали, что без учения о пропорции невозможно познание природы; действительно, всякое наше исследование направлено на то, чтобы установить отношение вещей друг к другу». Пачоли была близка высказанная в «Тимее» мысль Платона, что с пропорциями мы имеем дело «не только в области чисел и измерений, но и в музыке, в географии, в определении времени, в статике и динамике, во всех, следовательно, искусствах и науках». На точном знании пропорций покоится линейная и воздушная перспектива, равно как и правдивое изображение человеческого тела.
Известна дружба Леонардо да Винчи и математика Луки Пачоли, завязавшаяся во время их службы у миланского герцога Лодовико Моро в 1496–1499 гг. Сведения об их творческом сотрудничестве сохранились в трудах Луки Пачоли, в частности в его сочинении «О божественной пропорции», а также в недавно опубликованной рукописи «О возможностях чисел» («De viribus quantitatis»). Несколько упоминаний о Пачоли содержат записи Леонардо. Они важны для понимания роли известного математика в совершенствовании математических знаний Леонардо, не получившего, как известно, систематического образования. В Милане Пачоли начал работу над сочинением «О божественной пропорции», в которой речь шла и о линейной перспективе, чем были одержимы все художники Возрождения. Иллюстрации к ней сделал сам Леонардо, так что вполне возможно предположить, что он консультировал да Винчи по проблемам геометрии, во всяком случае, поддерживал его интерес к этой области математики. Впрочем, Леонардо да Винчи еще в молодости, во Флоренции, занимали проблемы перспективы, связанные с геометрией. Увлекала Леонардо и теория пропорций, овладеть которой он считал важной задачей для себя как художника. Размышлял он и о теоретической стороне пропорциональности. В пропорции он видел основу числовой гармонии, присущей мирозданию, и полагал, что она составляет суть «не только числа и размера, но также звуков, веса, времени и места, любой существующей в мире силы». Леонардо считал необходимым органическое соединение эксперимента с его математическим осмыслением – в этом он был пионером современного естествознания. Математика, по Леонардо, главная наука, способная придать результатам эксперимента достоверность.
Особый интерес Пачоли проявлял к архитектурным пропорциям: в возведенной Брунеллески церкви Сан-Лоренцо во Флоренции он видел наиболее совершенный пример правильного применения пропорции в современном ему зодчестве. Это место неслучайно стало местом захоронения всех Медичи…
О чем же говорят нам все эти упомянутые нами факты? Прежде всего о том, что, унаследовав языческий античный гедонизм, западный мир, начиная чуть ли не с XII века, впал, если можно так выразиться, в «прельщение» миром земным. Это «прельщение» выразилось в возрождении античной линейной перспективы в живописи и во всем искусстве эпохи Возрождения, эпохи, которая была во многом инициирована банкирским домом Медичи, которые поставили перед собой грандиозную задачу по программированию всей средневековой цивилизации Запада. Если применить здесь язык программирования, то можно сказать, что Медичи, начиная с Козимо Старого и продолжая деятельностью Лоренцо Великолепного, сознательно произвели «перезагрузку», вернув Европу в гедонистическое язычество античной эпохи. И немалую роль здесь сыграло именно учение о линейной перспективе, о золотом сечении и о числе Фибоначчи. Обратная же перспектива русской иконы никак не «перепрограммировалась». Икона оставалась очень традиционной и ортодоксальной. Ее величественное молчание, как и молчание всей древнерусской литературы, было наполнено огромным скрытым смыслом, смыслом не земным, а горним, не сиюминутным, а непреходящим. На древнерусскую литературу можно смотреть как на некий реликт, если исходить из традиции Запада, как на некое безличностное молчаливое молчание, так и застрявшее где-то в далеких темных временах. Но это будет взгляд, продиктованный исключительно европоцентризмом, в то время как мир необычайно разнообразен. Однако именно это молчание, именно эта аскетичность и ортодоксальность во многом определят все своеобразие такого бесспорного классика мировой литературы, как Ф. М. Достоевский, о чем будет сказано несколько ниже.
Глава II
Пушкин и наследие средневекового рыцарского эпоса и итальянского Ренессанса
Русская литература еще в XVIII веке, то есть задолго до Пушкина, обращается не только к античной традиции, например, Горация («Памятник» Ломоносова и Державина, творчество Хераскова и Сумарокова), но и к стихии рыцарского эпоса, рыцарского романа и в связи с этим итальянского Ренессанса. Так, Пушкин еще лицеистом усвоил сложившееся в восемнадцатом веке мнение, что лучшими героическими поэмами у «древних» народов являются «Илиада» и «Энеида», а у «новых» – «Освобожденный Иерусалим» Тассо и «Генриада» Вольтера. Имена четырех великих эпиков перечислены в стихотворении «Городок» (1815 г.):
На полке за Вольтером
Вергилий, Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
По мнению В. В. Сиповского, «еще в родительском доме начал он сочинять подражания Мольеру и Вольтеру. Но особенно увлекала его «легкая поэзия» французов с ее жизнерадостными настроениями, веселым, не всегда приличным содержанием. Обладая с детства феноменальной памятью, Пушкин «выучил наизусть» всю эту литературу – оттого так сильны были ее влияния на первых опытах его своеобразного творчества».[6 - Сиповский В. В. История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1. С. 25.]
По меткому замечанию Ю. М. Лотмана, уже в середине XVIII века произошло серьезное изменение во взглядах русских интеллектуалов, до этого в большей степени ориентированных на православие. Современник Вольтера и читатель Гельвеция русский человек середины восемнадцатого столетия с улыбкой превосходства отвернулся от отцовских верований: «Взамен он получил сомнения или отчаяние. Но зато он приобрел и огромную свободу. Он как бы вырос до гигантских размеров и оказался один на один, лицом к лицу с вечностью».[7 - См.: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). Искусство – СПб, 1994. С. 151.]
В какой-то степени это может объяснить, почему в домашней библиотеке отца Пушкина оказалось так много вольных поэм Вольтера и, в частности, его знаменитая «Орлеанская девственница», написанная в жанре ирои-комической поэмы и под непосредственным влиянием Ариосто и его «Неистового Роланда».
Но почему именно жанр ирои-комической поэмы приобрел такую популярность в век Просвещения? Почему поэты и мыслители начали относиться с нескрываемой иронией к героическому и даже сакральному прошлому? На наш взгляд, все объясняется тем, что в век разума интеллектуалы Европы открыли для себя некий ящик Пандоры, ведь, разум – это не только свет, но и сомнения. Однако до кризиса рациональности было еще очень далеко, и Мишель Фуко напишет свою знаменитую «Историю безумия в классическую эпоху» лишь в далеком двадцатом столетии. Европа же в это время буквально упивалась еще не до конца раскрытыми возможностями рацио. Наука находилась еще в зачаточном состоянии, ньютоно-картезианская парадигма воспринималась как догма, и человеческий Разум, его почти божественная сила, казалось, не знали себе равных и готовы были преодолеть и осветить любую тьму:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Вот тут и настала пора вспомнить о таком великом ернике, как Лудовико Ариосто, которого современники, кстати сказать, считали сумасшедшим, опираясь в качестве доказательства в основном на его великую поэму «Неистовый Роланд» с ее безумными перипетиями, бесконечными отступлениями от главной темы повествования и сбивчивым ритмом, больше похожим на речь безумца, а не на размеренные фразы классического ритора. Это обращение к Ариосто как к образцу для подражания самим Вольтером свидетельствует, на наш взгляд, о том, что разум и Просвещение в целом не обошлись без диалектических противоречий, когда в тени рацио, как змий в раю, скрывалось и веселенькое безумие. Или, выражаясь словами того же М. Фуко, «безумие ушло из чувственно воспринимаемого мира, укрывшись в тайном царстве всеобщего разума».[8 - Фуко М. История безумия в Классическую эпоху. Университетская книга, 1997. С. 98.]
Но сначала все-таки был Вольтер, а не Ариосто, Вольтер, кумир юного Пушкина, которому он пытался подражать в своих ранних сомнительных поэмах еще в лицее («Бова», «Монах», скандальная сказка «Царь Никита и сорок его дочерей» и, конечно же, «Гавриилиада»), видно, в юношеском запале стараясь удивить своих сверстников собственным свободомыслием. Типичное проявление подросткового нигилизма, только в отличие от современной ситуации, ситуации смерти книжной цивилизации в эпоху компьютерных технологий, подросток пушкинской поры был, наоборот, перенасыщен плодами этой самой книжной цивилизации, он жил, что называется, «приизлиху насытившись сладости книжной». Жил, сызмальства «себе присвоив ум чужой». И поэтому подростковый нигилизм Пушкина – это явление большой культуры, а не какой-нибудь там современной тусовки полуграмотных отроков. Этот подростковый нигилизм лицеиста начала девятнадцатого века соревнуется в своих первых поэтических опытах с самым известным циником столетия, с Вольтером. Это не то же самое, что подражать какому-нибудь эстрадному фрику современности, кумиру всех, кто находится в пубертатном периоде своей непутевой жизни.
Возьмем, к примеру, поэму юного Пушкина «Монах». Источники творческого воображения, создававшего «Монаха», как установили пушкинисты, сводятся к трем группам впечатлений. Первая группа дана чтением и изучением литературных образцов (те же скабрезные поэмы Вольтера и традиция французского либертинажа); вторая – созерцанием картин, которые Пушкин видел на стенах дворцовых покоев, и гравюр, которыми была так богата французская книга XVIII века, и, наконец, третья возникла из непосредственных возбуждений реальной действительности. Несколько слов о действительности, питавшей эротику 13–14-летнего мальчика, воспитанника закрытого учебного заведения, которое казалось ему монастырем. Источником ее были сцены домашнего театра графа Варфоломея Васильевича Толстого. Тынянов в своем знаменитом романе «Пушкин» прекрасно описал этот первый опыт чувственной любви поэта. Каждый может лишний раз перечитать замечательные строки романа.
Сюжет поэмы «Бова», который принято относить лишь к русскому фольклорному сказанию, рассказанному няней поэта Ариной Родионовной еще в детстве Пушкина, на самом деле является не чем иным, как «бродячим сюжетом», то есть общенародным фольклорным текстом. Повесть является аналогом средневекового французского романа о подвигах рыцаря Бово д’Антона, известного также с XVI века в лубочных итальянских изданиях поэтических и прозаических произведений. Старейший вариант французского романа, дошедший до наших дней, – «Бэв из Антона», датируемый первой половиной XIII века, написан на англо-нормандском диалекте. Наряду с русской повестью о Бове аналогичные произведения были созданы и на многих других европейских языках. Из всех рыцарских и авантюрных произведений, бытовавших на Руси в допетровское время, повесть о Бове пользовалась наибольшим успехом. Известно около 100 рукописей и около 200 лубочных изданий, последние из которых выходили даже после революции в 1918 году. Образ Бове был очень популярен в фольклоре.
«Гавриилиада» написана 22-летним Пушкиным в апреле 1821 года в Кишиневе. Исследователи связывали сюжет «Гавриилиады» с поэмой «Война старых и новых богов» Эвариста Парни, поэта, высоко ценимого Пушкиным; возможна также связь с одним эпизодом «Сказки о Золотом петухе» Ф. М. Клингера. В самой же интриге, связанной с Девой Марией, явно проступают мотивы, взятые непосредственно из Вольтера и его «Орлеанской девственницы», в которой вся трагедия столетней войны цинично рассматривается как борьба за обладание Жанной д‘Арк. Сказка же Клингера потом напрямую будет практически пересказана Пушкиным стихами под тем же названием, а «Гавриилиада» в дальнейшем доставит поэту немало хлопот в связи с ее атеистическим содержанием. Поэт откажется от нее по причине изменившихся взглядов на религию, но в молодости фривольная французская поэзия будет безраздельно владеть умом молодого гения.
«Орлеанская девственница» (фр. La Pucelle d‘Orlеans) – сатирическая пародийная поэма Вольтера, где события жизни национальной героини (тогда еще не канонизированной святой) Жанны д’Арк представлены в сниженно-комическом ключе, столь же иронически показаны французские рыцари и церковь. Изданная анонимно «Девственница» стала одним из самых популярных неподцензурных произведений Вольтера, она получила известность и за пределами Франции как образец скептически-иронического «вольнодумства» XVIII в. «Орлеанская девственница» в молодости была одной из любимых книг Пушкина, он подражал ей в «Руслане и Людмиле», начал ее перевод, а впоследствии посвятил «преступной поэме» свое последнее произведение. Незадолго до дуэли с Дантесом в январе 1837 г. Пушкин работал над статьей «Последний из свойственников Иоанны д’Арк», предназначавшейся для журнала «Современник». Статье было суждено стать его последним произведением. Это мистификация («пастиш»), стилизованная под перевод переписки Вольтера с вымышленным «господином Дюлисом» (фамилия от национальной лилии Франции – Флер-де-лис), якобы потомком брата Жанны д’Арк, которому Карл VII действительно даровал дворянство и фамилию дю Лис. Увидев скабрезную поэму о сестре своего пращура, «добрый дворянин, мало занимавшийся литературою» Дюлис вызывает Вольтера на дуэль (следы размышлений Пушкина о своей собственной ситуации). Знаменитый же писатель уходит от ответственности, сказавшись больным и заверяя, что никогда «Девственницы» не писал (исследователи видят отзвук истории с «Гавриилиадой»). В конце Пушкин вкладывает в уста «английскому журналисту» такую оценку творения Вольтера: «Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня. Он как римский палач присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. <…> Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества; и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д’Ольбаха и M-me Joffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримулья. Жалкий век! Жалкий народ».
Очень важное, на наш взгляд, заявление, которое свидетельствует, какие кардинальные изменения произошли во внутреннем мире великого поэта. От слепого юношеского подражания своему кумиру в начале жизни до горького признания разрушительной силы его цинизма, или кинизма. Но Вольтер в данном случае нам будет интересен тем, что во многом именно через него молодой Пушкин и смог рассмотреть и проникнуться очарованием поэзии Ариосто как представителя позднего итальянского Возрождения, с одной стороны, а с другой – прекрасного продолжателя и интерпретатора общеевропейского рыцарского средневекового эпоса. Так, через слепое юношеское подражание главному цинику Европы Вольтеру во многом благодаря Пушкину в русскую литературу девятнадцатого века буквально ворвалась стихия литературного прошлого западного мира, того самого прошлого, без которого не было бы нашего национального самобытного романа «Евгений Онегин». О связи «Онегина» и «Неистового Роланда» мы поговорим немного позднее. А пока все-таки Вольтер.
Его «Девственница» написана силлабическим двенадцатисложником, однако в отличие от классического эпоса (в том числе, например, «Генриады» самого Вольтера), где рифмующие строки объединяются попарно (александрийский стих), в поэме рифмовка вольная, что придает рассказу большую естественность и непринужденность. Поэма состоит из 21 «песни» (chants). В начале (эти строки переведены Пушкиным) Вольтер иронически отрекается от Шаплена:
О ты, певец сей чудотворной девы,
Седой певец, чьи хриплые напевы,
Нестройный ум и бестолковый вкус
В былые дни бесили нежных муз,
Хотел бы ты, о стихотворец хилый,
Почтить меня скрыпицею своей,
Да не хочу. Отдай ее, мой милый,
Кому-нибудь из модных рифмачей.
Вольтер травестирует сюжет девы-воительницы, выпячивая его эротический подтекст – «под юбкою» Жанны хранится «ключ от осаждаемого Орлеана и от судеб всей Франции». Враги Франции охотятся за девственностью Жанны, не отстают от них в разврате и окружающие Жанну французские служители церкви всех уровней; она дает им отпор то при помощи кулаков, как деревенская девица, то различных уловок. На ее невинность посягает даже осел, что совсем уж выходит за рамки всякого приличия:
Трубя, красуясь, изгибая шею.
Уже подседлан он и взнуздан был,
Пленяя блеском золотых удил,
Копытом в нетерпенье землю роя,
Как лучший конь фракийского героя;
Сверкали крылья на его спине,
На них летал он часто в вышине.
Так некогда Пегас в полях небесных
Носил на крупе девять дев чудесных,
И Гиппогриф, летая на луну,
Астольфа мчал в священную страну.
Ты хочешь знать, кем был осел тот странный,
Подставивший крестец свой для Иоанны?
Об этом я потом упомяну,
Пока же я тебя предупреждаю,
Что тот осел довольно близок к раю.[9 - Вольтер. Орлеанская девственница. Политиздат Украины, 1989.]
Как мы видим, в этом отрывке Вольтер упоминает одного из главных героев поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», а знаменитый Гиппогриф в дальнейшем в русской литературе превратится в такой любимый народом образ, как конек-горбунок.