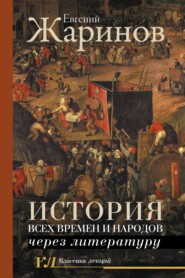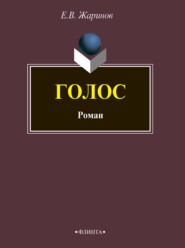По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лекции о литературе. Диалог эпох
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, полем битвы за Францию и весь христианский мир становятся, извините за откровенность, женские гениталии. Здесь, с одной стороны, возникают ассоциации с описанной борьбой за Францию вымышленного Карла Великого в поэме Ариосто, где также все будет свернуто в сторону безумной страсти и любовных утех, а с другой – мы можем вновь вспомнить хулиганскую юношескую поэму Пушкина «Гавриилиада» и его знаменитую скабрезную сказку «Царь Никита и сорок его дочерей», где именно женские гениталии, а точнее, их отсутствие становится причиной крайне неудобной политической ситуации в вымышленном царстве. Поистине можно сказать, что Вольтер, перефразируя Достоевского, буквально в душу пушкинскую «всосался».
И старик Фрейд, и его ученик Юнг – все в один голос утверждали, что именно сексуальность является одной из причин активного творческого состояния индивида. По Фрейду, сексуальное напряжение переходит в напряжение творческое, и начинается процесс замещения, или сублимации.
Зигмунд Фрейд, в соответствии с концепциями своей теории, описывал сублимацию как отклонение энергии биологических, в первую очередь сексуальных влечений от их прямой цели и перенаправление ее к социально приемлемым целям. Рассматривалась она им как исключительно «хорошая» защита, способствующая конструктивной деятельности и снятию внутреннего напряжения индивида. На данный момент сублимация обычно понимается шире – как перенаправление неприемлемых импульсов вообще, независимо от их природы. Сублимация принимает самые различные формы. Например: садистские желания можно сублимировать, занимаясь хирургией, чрезмерное влечение к сексу – искусством. Механизм сублимации трансформирует нежелательные, травмирующие и негативные переживания в различные виды конструктивной и востребованной деятельности. То, что юный Пушкин обладал повышенной сексуальностью, об этом не писал только ленивый. То, что находил ответ на свои желания во фривольной французской поэзии и прозе – это тоже хорошо известно любому пушкинисту, то, что он оставил после себя целый том эротических, откровенных стихов, знает почти каждый. Но нас в данном случае будет интересовать то, как, увлекшись циничной поэзией Вольтера, Пушкин разглядит за французским классиком контуры другого гения, и этот гений приведет его уже не к созданию «Гавриилиады» или «Царя Никиты», а сначала к «Руслану и Людмиле», а затем – к роману всей жизни – «Онегину». Вот что значит, по нашим представлениям, «всосаться» в душу гения, или нажать на спусковой крючок его сексуальной природы, вызвав к жизни из глубин подсознания самые смелые, самые неожиданные и порой парадоксальные образы. Конечно, меня здесь можно упрекнуть в том, что я слишком увлекся, слишком пытаюсь осовременить наше представление о великом русском поэте, но тогда давайте вспомним слова из «Евгения Онегина»: «Блажен, кто смолоду был молод». Это сказано Пушкиным о самом себе. В молодости он при всей своей лицеистской образованности оставался молодым, а значит, страстным, полным энергии и желаний. В молодости он еще не собирался писать «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», а жил страстями и о памятниках не думал. Не до этого было…
Согласно авторскому предисловию (под именем «Апулея Ризория Бенедиктинца», лат. risorius – «смешливый»), Вольтер начал писать «Девственницу» около 1730 г. По сведениям современников, замысел возник у него в ответ на предложение одного из знакомых лучше изложить тему созданной в середине XVII века поэмы Жана Шаплена «Девственница, или Освобожденная Франция: героическая поэма». Поэма Шаплена, наполненная пространными философскими рассуждениями, была осуждена современниками и потомками как эталон бездарного и скучного произведения. Вольтер решил спародировать Шаплена не для легальной печати, однако работа протекала медленно и в известном смысле осталась незавершенной. Ясно, что автор планировал пополнить свой текст еще новыми эпизодами, но так и не реализовал полностью свой план.
При жизни автора «Девственница» печаталась анонимно в различных странах Европы (по спискам разного качества). Первое анонимное издание вышло во Франкфурте в 1755 году; это издание, содержащее многочисленные искажения и вымышленные другим автором эротические эпизоды, возмутило Вольтера, на что он впоследствии специально указал в предисловии в поэме. Существует точка зрения, что эти фрагменты все же принадлежали Вольтеру, но он решил таким образом от них отречься, «очистив» текст. В 1756 году в Париже вышло второе подпольное анонимное издание, также с не вполне достоверным текстом. Авторизованным считается издание 1762 года в Женеве (переиздавалось неоднократно), на котором Вольтер также не указал своего имени из соображений осторожности. Кроме того, списки поэмы, относящиеся к разным редакциям, охотно распространялись самим автором среди писателей и философов, а также корреспондентов из самых высших классов общества. В предисловии от имени «Апулея Ризория» Вольтер говорит, ссылаясь на своего поклонника прусского короля Фридриха Великого: «…некая немецкая принцесса, которой дали на время рукопись только для прочтения, была так восхищена осмотрительностью, с какой автор развил столь скользкую тему, что потратила целый день и целую ночь, заставляя списывать и списывая сама наиболее назидательные места упомянутой рукописи».
Несмотря на то что в женевском издании Вольтер смягчил сатиру на духовенство, а в предисловии заметил, что его поэма уступает (в том числе и в религиозном отношении) смелости итальянских поэтов Пульчи и Ариосто и раблезианским скабрезностям, сразу же после его выхода «Орлеанская девственница» была внесена Римско-католической церковью в «Индекс запрещенных книг». На протяжении XVIII–XIX вв. в различных странах «Орлеанская девственница» также неоднократно подвергалась цензурному запрету, ее издания конфисковывались и сжигались.
Несмотря на запреты, «Орлеанская девственница» читалась в широких слоях образованной публики и была самым популярным сочинением о Жанне д’Арк.
В агитационных куплетах «Ах, где те острова…» декабристы К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев противопоставляют веселый антиклерикализм «Девственницы» мистическим настроениям последних лет царствования Александра I:
Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!
Где читают Pucelle
И летят под постель
Святцы.
Отношение Пушкина к поэме Ариосто впервые косвенно выражено в стихотворении «Городок (К
« (1815), где его любимый автор Вольтер, создатель «Орлеанской девственницы», назван внуком «Арьоста», т. е. продолжателем его поэтической традиции.
В России широкая известность поэмы наблюдается с середины XVIII в., ее образы, мотивы и сюжеты бытуют в рукописной традиции, используются без дополнительных пояснений в публицистике, и переводы отрывков из нее публикуются в журналах и сборниках. Первый русский неполный (без песен 34–46) перевод поэмы (опубликован в 1791–1793) был выполнен П. С. Молчановым (1770–1831) с французского прозаического переложения (1741) Ж.-Б. Мирабо (Mirabaud, 1675–1760) и вызвал в целом одобрительную оценку Н. М. Карамзина (Моск. журнал, 1791. Ч. 2. Июнь. С. 324). Особенно актуален становится «Неистовый Роланд» на рубеже XVIII – XIX вв. в связи с раннеромантическим оживлением интереса к европейскому средневековью и разработкой жанра национальной сказочно-богатырской (волшебно-рыцарской) поэмы. В русской критике 1810–1820-х гг. «Неистовый Роланд» предстает образцом поэмы романтического склада. В это же время ставится, но не находит решения проблема полного перевода поэмы Ариосто на русский язык октавами и размером подлинника; виднейшую роль в пропаганде творчества Ариосто играет К. Н. Батюшков.
Знакомство Пушкина с «Неистовым Роландом» могло состояться еще в детстве. Сведения об Ариосто были включены в лицейский курс истории словесности и эстетики. Но, скорее всего, молодой поэт воспринимал гения итальянского Возрождения не в подлиннике, а через опосредованное влияние вольной французской поэзии, о чем мы уже писали выше. Итальянским Пушкин овладел намного позднее и тогда же решился перевести несколько октав на русский язык, словно решив довести до конца работу своего собрата по поэтическому цеху Батюшкова, который так и умер в сумасшедшем доме в далекой Вятке, не успев сделать достойный перевод знаменитых «золотых октав». То, что Ариосто не оставлял Пушкина в течение всей его жизни, косвенно подтверждает знаменитое вступление к поздней его поэме «Домик в Коломне» (1830 г., написано в период Болдинской осени). Там есть такие строки:
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.
Здесь мы видим, что поэт упоминает именно октаву, любимейший размер Ариосто, чьи октавы и названы были золотыми. А шутливый тон повествования, отрицающий всякую чопорность и напыщенность, словно предлагает читателю вступить с автором в диалог о проблемах литературы и поэзии. Это то, что сейчас принято называть метатекстом, т. е. текстом, который комментирует сам себя. Именно метатекст, по мнению специалистов, и помогает книге, как и любому другому произведению искусства (полотна Караваджо, фильм Феллини «8 1/2», например), вступить в диалог с тем, кто этот метатекст в данный момент воспринимает. Но такое вольное комментирование самого себя, а это и есть суть метатекста, а точнее, метапрозы (литературные произведения, затрагивающие сам процесс повествования), является ничем иным, как психологической «провокацией», или приглашением читателя к диалогу с автором. В этой ситуации автор как бы снимает с себя одежду официальности и словно надевает домашние тапочки и халат, говоря читателю: «а теперь поговорим по душам».
В раннем детстве, наверное, роясь в библиотеке отца, будущий поэт вполне мог наткнуться на какую-нибудь из поэм Вольтера, на его «Девственницу», и получить первую прививку этой самой «сладости книжной», заключенной в самой манере легкого непринужденного повествования, унаследованного от великих итальянцев, когда автор словно лепечет что-то, на первый взгляд, бессвязное, а за этой необязательностью предстают потрясающие события, полные трагизма и веселья одновременно. И главное, все описываемые события пропущены через «я» самого художника. Сам автор становится не учителем или пророком, а твоим непосредственным собеседником, с которым ты «перетираешь» (простите меня за этот низкий стиль, не удержался от вольностей) вечерней порой, «что между нами названа порой меж волком и собаки». Неоднократно биографы Пушкина, включая Тынянова, указывали, каким одиноким был будущий гений русской литературы в раннем детстве. Так, может быть, это одиночество скрашивало ему общение именно с этим «сладостным стилем» итальянцев, который так великолепно перенял Вольтер, когда автор и читатель оказываются в одном положении и художественный материал предстает не как глыба каррарского мрамора, из которого высечен знаменитый Давид Микеланджело, а как воск в податливых руках мастера, и читателю дают возможность помять его в теплых ладонях. Впоследствии в критических заметках и письмах Пушкин упоминал Ариосто неизменно как одного из величайших итальянских поэтов. И если говорить о его свободном стиле повествования, минуя уже Вольтера, то авторскую манеру рассказа Ариосто можно охарактеризовать так: автор относится к описываемым им приключениям подчеркнуто иронически, выражая свою оценку как в описаниях, так и в многочисленных лирических отступлениях, которые впоследствии стали важнейшим элементом новоевропейской поэмы. Кто из нас, воспитанных в традициях старой школы еще до «славной» эпохи ЕГЭ, не писал сочинения на тему: «Роль лирических отступлений в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?» И писали мы в этих сочинениях о том, что автор затрагивает в этих отступлениях проблемы современного ему общества («Все, чем для прихоти обильной/Торгует Лондон щепетильный/И по балтическим волнам/За лес и сало возит нам»), литературы и языка («Шишков, прости/Не знаю, как перевести»), упоминает о своей личной и даже сексуальной жизни (знаменитое отступление о дамских ножках, навеянное его влюбленностью в молодую Раевскую во время южной ссылки: «Итак, я жил в Одессе пыльной»), о своих гастрономических предпочтениях («Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет»), о своих трогательных детских воспоминаниях («В те дни, когда в садах лицея/Я безмятежно расцветал»). Иными словами, именно эти многочисленные отступления от главной темы повествования: любовь Онегина и Татьяны, и позволят В. Г. Белинскому назвать роман в стихах Пушкина «энциклопедией русской жизни». Но это будет какая-то идеализированная русская жизнь. Это будет не реальная Россия, а Россия, возникшая в поэтическом воображении автора, главного творца художественного мира, некой эстетической утопии, куда творец приглашает войти своего читателя в выдуманный мир собственного воображения, заманивая этого читателя «роскошью человеческого общения», то есть простым задушевным разговором на самые разные и порой непредсказуемые темы. У этого разговора есть своя интрига, ритм авторской речи постоянно держит вас в напряжении. Вы просто не знаете, чего ожидать в следующий момент («Был вечер. Небо меркло. Воды/Струились тихо. Жук жужжал…»). И вот вы уже чувствуете жужжание этого жука в вечернем теплом воздухе на просторах природы. Как напряжено все, как таинственно! Вас интригуют не просто словами, вас интригуют интонацией. Вот оно, самое главное, наверное, что есть в пушкинском романе, – живая интонация беседы. С вами говорят, по сути дела, из могилы, говорит давно умерший поэт, но вы при этом чувствуете, как дрожит его голос, как напряжено все его творческое «я». И вы невольно заражаетесь этим творческим импульсом великой метапрозы, то есть литературы, которая отказывается от всякой условности, от всякой искусственности и становится столь же естественной, как сама жизнь, ибо жизнь наша и есть рассказ. «Что есть жизнь? – спросил как-то у самого себя римский император-философ Марк Аврелий. – Пепел, зола и еще рассказ». Рассказ и становится квинтэссенцией каждой человеческой жизни. А умение вести непринужденное повествование является проявлением не просто высшего мастерства поэта, а проявлением важной жизненной составляющей, когда чей-то рассказ в форме дружеской беседы с вами становится оправданием всей вашей собственной жизни. Главное здесь не подвести собеседника, главное – понять, о чем с вами говорят, потому что говорят за вас, за всех тех, кому говорить, то есть писать и творить, просто не дано от природы. Таким образом, простой акт чтения превращается, благодаря метаповествованию, в творческий акт, в немалой степени оправдывающий всю вашу жизнь.
Известный отечественный филолог В. Турбин в свое время на одной из лекций рассказал очень интересный случай. Во время сталинских репрессий в теплушке, в обычном столыпинском вагоне, находились сосланные интеллигенты. Иметь при себе какие-то книги было строго запрещено. Но эти люди не мыслили себя вне слова, вне рассказа, вне жизни, причем жизни подлинной. Несчастные эти тогда решили по очереди читать отрывки из романа «Евгений Онегин». Каждый знал этот текст целиком, наверное, как во времена Гомера, когда греки из уст в уста передавали героические сказания о подвигах своих предков. Поэмы Гомера были для них тем культурным кодом, который и позволял древним эллинам быть эллинами и никем другим. Нечто подобное происходило и в России. «Онегин» был тем культурным кодом, который делал русских интеллигентов чем-то особенным, отличающимся от всего остального. И вот в промерзлой теплушке, умирая от голода и холода, люди по очереди читали «Онегина». Они готовы были умереть. Большинство из них и умерло, превратившись в лагерную пыль. Но они наизусть читали «Онегина», они, по Марку Аврелию, переходили после пепла и золы в высшую ипостась своего земного существования – в ипостась рассказа. С ними через пропасть могилы беседовал сам Пушкин, интригуя в который раз их своей таинственной интонацией: «Был вечер. Небо меркло. Воды/Струились тихо. Жук жужжал…»
За всем этим внимательно наблюдал полуграмотный охранник. В конце он сказал: «Ну вы, господа троцкисты, даете!» Интересно, пробрало этого охранника или нет? Может быть, и он смог на мгновение ощутить проникновенную пушкинскую интонацию? Как знать? Как знать? Жизнь для большинства лишь пепел и зола и лишь для немногих счастливцев она еще и рассказ.
Но откуда взял Пушкин эту особую манеру повествования? Он унаследовал ее еще в далеком детстве, когда всеми покинутый, в одиночестве рыскал по книжным полкам отца и натыкался на слабое отражение Ариосто в вольтеровских вольностях. Это было подобно звуку морских волн в старой раковине: приложишь к уху – и вот ты на берегу самого океана. В этом метаповествовании, в этой свободной манере общения гений Пушкина уловил собеседника, потому что, наверное, инстинктивно понимал, что за пеплом и золой есть еще рассказ, и есть тот, кто его, рассказ, тебе рассказывает, приглашая присоединиться к увлекательной игре в творчество.
А теперь настало время быть строгими и академичными и вспомнить, что в письме к К. Ф. Рылееву от 25 января 1825 года поэт прямо указывает, что в работе над «Евгением Онегиным» в числе прочего ориентировался на стилистику «легкого и веселого» повествования, которым и отличается «Неистовый Роланд» Ариосто. Правда, среди прочего влияния на манеру повествования пушкинисты обычно указывают еще на роман в стихах «Дон Жуан» Байрона, но ведь и Байрон находился под необычайным впечатлением от все того же «Неистового Роланда». Этот факт считается абсолютно доказанным. То есть как ни верти, а мы упираемся в великого итальянца XVI века.
И действительно, в авторских отступлениях «Неистового Роланда», так же как и в «Онегине», обсуждаются вполне «серьезные» темы; так, Ариосто беседует с читателем об искусстве поэзии, критикует Итальянские войны и сводит счеты со своими завистниками и недоброжелателями. Разного рода сатирические и критические элементы рассеяны по всему тексту поэмы; в одном из наиболее знаменитых эпизодов рыцарь Астольф прилетает на гиппогрифе на Луну, чтобы разыскать потерянный разум Роланда, и встречает обитающего там апостола Иоанна. Апостол показывает ему долину, где лежит все, что потеряно людьми, в том числе красота женщин, милость государей и Константинов дар.
Не двигаясь в сторону психологического анализа, Ариосто целиком погружается в сказочность, которая составляет лишь нижнее основание романной структуры. Гегель неточен, когда он пишет, что «Ариосто восстает против сказочности рыцарских приключений». Ценой иронической интерпретации и игровой трактовки Ариосто как бы приобретает право упиваться сказочной фантастикой с ее гиперболическими преувеличениями и причудливыми образами, сложнейшими нагромождениями фабульных линий, необычайными и неожиданными поворотами в судьбах персонажей. При этом подчеркиваются гораздо больше, чем в классических куртуазных романах, наличие художественного вымысла, субъективный произвол и тонкое мастерство автора-художника, использующего эпическое предание только как глину в руках мастера. Вот она – точка совпадения шедевра Ренессанса и первого русского романа.
Но если быть до конца точным, то надо признать, что Ариосто был не первым, кто придумал такую манеру повествования. У него были серьезные предшественники, и один из них принадлежал, ни много ни мало, к ближайшему окружению знаменитого Лоренцо Великолепного, покровителя Сандро Боттичелли, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Это был поэт Пульчи, чей портрет можно найти в самом центре Флоренции в капелле Бранкаччи. Это он первый решил переиграть старый рыцарский эпос в ироничной манере. На Пульчи ссылается и Вольтер в одном из своих комментариев к «Девственнице».
И здесь нам понадобится историческая справка. Дело в том, что все началось еще в пятнадцатом веке, во Флоренции, в так называемом кружке Лоренцо Великолепного, покровителя высокого Возрождения. В этот кружок входили такие поэты, как сам Лоренцо, Полициано и Пульчи. В 1483 году именно он сочинил свою знаменитую поэму, которая и стала отправной точкой для возникновения сначала «Влюбленного Роланда» Боярдо, а затем и «Неистового Роланда» Ариосто.
Пульчи первый решил воспользоваться французскими рыцарскими сюжетами, наследием европейского Средневековья, в своей не совсем обычной поэме. Эти французские сюжеты проникли во Флоренцию через Северную Италию (Ломбардию и Венецианскую область), где они получили большое распространение благодаря сходству североитальянских диалектов с французским языком. Рыцарские поэмы кантасториев писались октавами и отличались огромными размерами. На этой основе Пульчи и создал свою знаменитую поэму «Морганте», которая состоит из 28 песен. В первых 23 поэт следует сюжету анонимной народной поэмы «Орландо» (ок. 1380 г.), представляющей итальянскую переделку «Песни о Роланде», а в последующих 5 песнях он более вольно использует поэму «Испания», повествующую о Ронсевальской битве.
Поэма названа именем второстепенного персонажа – крещенного Роландом и беззаветно преданного ему добродушного великана Морганте, обладающего колоссальной силой и не меньшим аппетитом (на обед он сжирает целого слона). Поэма неслучайно названа именем второстепенного персонажа. Это сознательный прием, подчеркивающий ведущую роль во всем произведении буффонного элемента и сравнительную несущественность ее основной рыцарской фабулы. Вот она, та вольность, которая и будет развита последователями, сначало Боярдо, а затем Ариосто.
Мы сделали этот экскурс в историю, чтобы показать, как в русской классике опосредованно отразится солнце Флоренции и Феррары, а также французский средневековый рыцарский эпос.
Но вернемся еще раз к Ариосто и его предшественнику Боярдо. Они и довели первый опыт Пульчи до совершенства, что и позволило в дальнейшем поэме «Неистовый Роланд» оказать такое мощное и неизгладимое влияние на всю новоевропейскую поэму.
Итак, в конце пятнадцатого века в Северной Италии появляется новый культурный очаг, оказавшийся весьма жизнеспособным в годы феодально-католической реакции, охватившей Италию в шестнадцатом веке. Этим культурным очагом стал небольшой город Феррара, расположенный недалеко от устья реки По, на торговом пути, ведущем из Венеции в Болонью. С давних пор Феррара была объектом притязаний Венеции и Рима, соперничавших из-за овладения ею. Маленькая Феррара успешно сопротивлялась этим посягательствам на ее независимость, главным образом вследствие искусства ее правителей герцогов Эсте, создавших здесь первый по времени принципат (в начале тринадцатого века). В отличие от большинства других итальянских тираний герцогство Феррарское культивировало феодальные традиции, имевшие реальные предпосылки в быту местного землевладельческого дворянства. Герцоги Эсте всемерно поощряли эти традиции, создавая при своем дворе настоящий культ древнего рыцарства. В итоге Феррара являлась в конце пятнадцатого века своеобразным феодальным оазисом в Северной Италии. Немало на эту ситуацию влияла и близость соседней Франции, в которой в пятнадцатом веке еще догорала средневековая Столетняя война.
Своеобразные особенности феррарской культуры со всеми присущими ей противоречиями ярко отразились в творчестве графа Маттео Боярдо (1441–1494). Он происходил из знатного феодального рода и провел всю свою жизнь при дворе феррарского герцога Эрколе Первого, занимая ряд высших административных и военных должностей. Самым выдающимся произведением Боярдо считается неоконченная рыцарская поэма «Влюбленный Роланд», первые две части которой были опубликованы в 1484 году, а незаконченная третья часть увидела свет только после смерти поэта. В своей поэме Боярдо исходил непосредственно из французских оригиналов, хорошо известных феррарской придворной знати. Но, заимствуя фабулу своей поэмы из каролингского эпоса (знаменитая «Песнь о Роланде»), Боярдо обрабатывал ее в духе романов «круглого стола», превращая грубоватых паладинов Карла Великого в изящных рыцарей, а сурового Роланда – в нежного любовника. Герои Боярдо готовы на любые подвиги и приключения в честь прекрасной дамы. Все их приключения имеют сказочный, фантастический характер. Странствующие рыцари сражаются не только друг с другом, но и с великанами и чудовищами. Волшебство и чары заменяют христианские чудеса, фигурировавшие в рыцарском эпосе; вместо ангелов судьбой героев распоряжаются феи и волшебники. Поэма Боярдо является настоящим кодексом рыцарской чести, причем враги христианства – сарацины – тоже изображены рыцарями, ищущими подвигов в честь своих дам.
Главными пружинами действия являются любовь, ревность, соперничество, женская хитрость и прочее.
Сюжет «Влюбленного Роланда» отличается большой запутанностью. В центре поэмы стоит образ Роланда, влюбленного в красавицу Анджелику, дочь Галафрона, царя китайского, которая появляется при дворе Карла Великого и вызывает там всеобщее поклонение. Одного ее слова достаточно, чтобы заставить Роланда совершить самые невероятные подвиги. Он попадает в заколдованный сад, в волшебный грот феи Морганы, он дерется с великанами и драконами. В честь Анджелики Роланд отправляется на Восток и там сражается с царем Татарии Агриканом, ведущим войну с отцом Анджелики. Роланд убивает Агрикана и освобождает от осады столицу Галафрона Альбракку. Однако все усилия Роланда тщетны: Анджелика равнодушна к нему, так как она влюблена в его двоюродного брата Ринальдо, который к ней холоден. Эти противоположные чувства Ринальдо и Анджелики вызваны тем, что они напились из волшебных источников, вода которых обладает свойством менять чувства людей. В дальнейшем Ринальдо и Анджелика еще раз испытывают действие воды волшебного источника, после чего меняются ролями: теперь Анджелика ненавидит Ринальдо, а Ринальдо любит ее.
Фабула поэмы соткана из бесчисленных приключений и подвигов, о которых Боярдо повествует с легкой иронией, подчеркивающей их неправдоподобие. При этом он постоянно прибегает к приему преувеличения, рассказывая, например, о том, как девять рыцарей обращают в бегство двухмиллионную армию, в которой имеется несколько сотен великанов ростом в тридцать футов. Зачарованными в поэме Боярдо оказываются не только рыцари, но также лошади, шлемы, мечи и т. д. Ирония Боярдо не щадит даже изображаемых им рыцарей. Так, он преувеличивает целомудрие Роланда, его робость в присутствии женщин. Равным образом Боярдо снижает образы своих героинь, в особенности Анджелики, которая в отличие от прекрасных дам куртуазных рыцарских романов изображается обольстительной кокеткой, хитрой, ветреной и изменчивой.
Таким показом образов с героев и героинь рыцарских романов Боярдо снимает идеализирующий покров. Его ирония разрушает тот идеальный рыцарский мир, который он сам же и построил. Мы находим здесь типичное выражение эпикуреизма, присущего аристократии времен Ренессанса, учащего ничего не принимать всерьез и подшучивать над собственными вкусами. Так и приходит на ум знаменитая фраза из «Евгения Онегина»: «…учил его всему шутя,/ Не докучал моралью строгой,/Слегка за шалости бранил…»
Такой эстетический подход находит также выражение в композиции поэмы Боярдо. Ее основная сюжетная линия на каждом шагу прерывается бесчисленными эпизодами, которые то развиваются параллельно, то переплетаются, то неожиданно прерываются в самый волнующий момент, а затем столь же неожиданно возвращаются. Такая манера повествования создает впечатление изящной игры воображения, отвечавшей вкусам утонченной аристократической публики. Все это очень далеко от грубоватой плебейской буффонады Пульчи, решительно взрывающей мир феодальных ценностей.
«Влюбленный Роланд» имел огромный успех и вызвал множество подражаний. Но всех этих малоискусных продолжателей влюбленного Роланда» затмил Ариосто, автор «Неистового Роланда», доведший жанр рыцарской поэмы до предельного художественного совершенства и сделавший ее целостным выражением культуры позднего итальянского Возрождения.
По мнению де Санктис, «Ариосто и Данте были знаменитостями двух культур, противоположных по своему характеру. Оба они жили на рубеже двух веков… Поэзия того и другого явилась синтезом и завершением целой эпохи. Данте завершает Средние века, Ариосто завершает Возрождение».[10 - Де Санктис. История итальянской литературы. Изд-во: Прогресс. М., 1964. С. 22.]
Самая ранняя версия (в 40 песнях) появилась в 1516 году, 2-е издание (1521) отличается лишь более тщательной стилистической отделкой, полностью опубликовано в 1532 г. «Неистовый Роланд» является продолжением (gionta) поэмы «Влюбленный Роланд» (Orlando innamorato), написанной Маттео Боярдо (опубликована посмертно в 1495 году). Состоит из 46 песен, написанных октавами; полный текст «Неистового Роланда» насчитывает 38 736 строк, что делает его одной из длиннейших поэм европейской литературы.
Поэма Ариосто построена как продолжение поэмы Боярдо. Он начинает повествование с того момента, на котором оно обрывается у Боярдо, выводит тех же персонажей в тех же положениях. Вследствие этого Ариосто не приходится знакомить читателей со своими героями. Справедливо было замечено, что для Ариосто поэма Боярдо как бы играла роль традиции, из которой эпический поэт берет своих персонажей и сюжетные мотивы.
Ариосто заимствует у Боярдо также и приемы сюжетного построения своей поэмы. Композиция «Неистового Роланда» основана на принципе неожиданных переходов от одного эпизода к другому и на переплетении нескольких линий повествования, получающих подчас необычайно причудливый, почти хаотический характер. Однако хаотичность поэмы Ариосто – мнимая. На самом деле в ней царит сознательный расчет: каждая часть, сцена, эпизод занимает строго определенное место; ни одного куска поэмы нельзя переставить на место другого, не нарушив художественной гармонии целого. Всю поэму в целом можно сравнить со сложной симфонией, которая кажется беспорядочным набором звуков только немузыкальным или невнимательным слушателям. Это тот самый принцип «свободного романа», о котором в свое время будет писать Пушкин, имея в виду «Евгения Онегина».
В сложном и многоплановом сюжете «Неистового Роланда» можно выделить три основных темы, которые сопровождаются множеством мелких вставных эпизодов.
Первая тема – традиционная, унаследованная от каролингского эпоса – война императора Карла и его паладинов с сарацинами. Эта тема внешне охватывает весь лабиринт событий, изображенных в поэме. В начале поэмы войско сарацинского царя Аграманта стоит под Парижем, угрожая столице могущественнейшего христианского государства. В конце поэмы сарацины разбиты, и христианский мир спасен. В промежутке изображено бесчисленное множество событий, участниками которых являются рыцари обоих враждебных войск. Уже один этот факт имеет немалое композиционное значение в поэме: он связывает разрозненные нити ее эпизодов. Самая тема борьбы христианского мира с мусульманским не имеет для Ариосто того принципиального значения, какое он получит впоследствии у Тассо, например. Поэтому многие эпизоды войны он трактует шутливо, иронически.
Вторую тему поэмы составляет история любви Роланда к Анджелике, являющейся причиной безумия главного героя, что и дало название всей поэме. Роланд следует по пятам за ветреной и жестокой красавицей-язычницей, становящейся яблоком раздора между христианскими рыцарями. Во время своих скитаний Анджелика встречает прекрасного сарацинского юношу Медора, тяжело раненного. Она ухаживает за ним, спасает его от смерти и влюбляется в него. Роланд, преследуя Анджелику, попадает в лес, в котором незадолго до этого Анджелика и Медор наслаждались любовью. Он видит на деревьях вензеля, начертанные влюбленными, слышит от пастуха рассказ об их любви и сходит с ума от горя и ревности. Безумие Роланда, изображенного, в согласии с традицией, самым доблестным из рыцарей Карла Великого, является как бы наказанием за безрассудную страсть к недостойной его Анджелике. Эта тема разработана Ариосто с подлинным драматизмом и местами с психологической тонкостью. Однако финальный эпизод этой истории носит комический характер: утерянный Роландом рассудок Астольфо находит на Луне, где рассудок многих людей, потерявших его на земле, хранится в склянках, на которых наклеены ярлыки с именами владельцев.
Третья тема поэмы – история любви молодого сарацинского героя Руджеро к воинственной деве Брадаманте, сестре Ринальдо. От союза Руджеро и Брадаманты должен произойти княжеский дом Эсте; поэтому Ариосто излагает их историю особенно обстоятельно. Эта тема вводит в поэму чрезвычайно обильный сверхъестественный, фантастический элемент.
И старик Фрейд, и его ученик Юнг – все в один голос утверждали, что именно сексуальность является одной из причин активного творческого состояния индивида. По Фрейду, сексуальное напряжение переходит в напряжение творческое, и начинается процесс замещения, или сублимации.
Зигмунд Фрейд, в соответствии с концепциями своей теории, описывал сублимацию как отклонение энергии биологических, в первую очередь сексуальных влечений от их прямой цели и перенаправление ее к социально приемлемым целям. Рассматривалась она им как исключительно «хорошая» защита, способствующая конструктивной деятельности и снятию внутреннего напряжения индивида. На данный момент сублимация обычно понимается шире – как перенаправление неприемлемых импульсов вообще, независимо от их природы. Сублимация принимает самые различные формы. Например: садистские желания можно сублимировать, занимаясь хирургией, чрезмерное влечение к сексу – искусством. Механизм сублимации трансформирует нежелательные, травмирующие и негативные переживания в различные виды конструктивной и востребованной деятельности. То, что юный Пушкин обладал повышенной сексуальностью, об этом не писал только ленивый. То, что находил ответ на свои желания во фривольной французской поэзии и прозе – это тоже хорошо известно любому пушкинисту, то, что он оставил после себя целый том эротических, откровенных стихов, знает почти каждый. Но нас в данном случае будет интересовать то, как, увлекшись циничной поэзией Вольтера, Пушкин разглядит за французским классиком контуры другого гения, и этот гений приведет его уже не к созданию «Гавриилиады» или «Царя Никиты», а сначала к «Руслану и Людмиле», а затем – к роману всей жизни – «Онегину». Вот что значит, по нашим представлениям, «всосаться» в душу гения, или нажать на спусковой крючок его сексуальной природы, вызвав к жизни из глубин подсознания самые смелые, самые неожиданные и порой парадоксальные образы. Конечно, меня здесь можно упрекнуть в том, что я слишком увлекся, слишком пытаюсь осовременить наше представление о великом русском поэте, но тогда давайте вспомним слова из «Евгения Онегина»: «Блажен, кто смолоду был молод». Это сказано Пушкиным о самом себе. В молодости он при всей своей лицеистской образованности оставался молодым, а значит, страстным, полным энергии и желаний. В молодости он еще не собирался писать «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», а жил страстями и о памятниках не думал. Не до этого было…
Согласно авторскому предисловию (под именем «Апулея Ризория Бенедиктинца», лат. risorius – «смешливый»), Вольтер начал писать «Девственницу» около 1730 г. По сведениям современников, замысел возник у него в ответ на предложение одного из знакомых лучше изложить тему созданной в середине XVII века поэмы Жана Шаплена «Девственница, или Освобожденная Франция: героическая поэма». Поэма Шаплена, наполненная пространными философскими рассуждениями, была осуждена современниками и потомками как эталон бездарного и скучного произведения. Вольтер решил спародировать Шаплена не для легальной печати, однако работа протекала медленно и в известном смысле осталась незавершенной. Ясно, что автор планировал пополнить свой текст еще новыми эпизодами, но так и не реализовал полностью свой план.
При жизни автора «Девственница» печаталась анонимно в различных странах Европы (по спискам разного качества). Первое анонимное издание вышло во Франкфурте в 1755 году; это издание, содержащее многочисленные искажения и вымышленные другим автором эротические эпизоды, возмутило Вольтера, на что он впоследствии специально указал в предисловии в поэме. Существует точка зрения, что эти фрагменты все же принадлежали Вольтеру, но он решил таким образом от них отречься, «очистив» текст. В 1756 году в Париже вышло второе подпольное анонимное издание, также с не вполне достоверным текстом. Авторизованным считается издание 1762 года в Женеве (переиздавалось неоднократно), на котором Вольтер также не указал своего имени из соображений осторожности. Кроме того, списки поэмы, относящиеся к разным редакциям, охотно распространялись самим автором среди писателей и философов, а также корреспондентов из самых высших классов общества. В предисловии от имени «Апулея Ризория» Вольтер говорит, ссылаясь на своего поклонника прусского короля Фридриха Великого: «…некая немецкая принцесса, которой дали на время рукопись только для прочтения, была так восхищена осмотрительностью, с какой автор развил столь скользкую тему, что потратила целый день и целую ночь, заставляя списывать и списывая сама наиболее назидательные места упомянутой рукописи».
Несмотря на то что в женевском издании Вольтер смягчил сатиру на духовенство, а в предисловии заметил, что его поэма уступает (в том числе и в религиозном отношении) смелости итальянских поэтов Пульчи и Ариосто и раблезианским скабрезностям, сразу же после его выхода «Орлеанская девственница» была внесена Римско-католической церковью в «Индекс запрещенных книг». На протяжении XVIII–XIX вв. в различных странах «Орлеанская девственница» также неоднократно подвергалась цензурному запрету, ее издания конфисковывались и сжигались.
Несмотря на запреты, «Орлеанская девственница» читалась в широких слоях образованной публики и была самым популярным сочинением о Жанне д’Арк.
В агитационных куплетах «Ах, где те острова…» декабристы К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев противопоставляют веселый антиклерикализм «Девственницы» мистическим настроениям последних лет царствования Александра I:
Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!
Где читают Pucelle
И летят под постель
Святцы.
Отношение Пушкина к поэме Ариосто впервые косвенно выражено в стихотворении «Городок (К
« (1815), где его любимый автор Вольтер, создатель «Орлеанской девственницы», назван внуком «Арьоста», т. е. продолжателем его поэтической традиции.
В России широкая известность поэмы наблюдается с середины XVIII в., ее образы, мотивы и сюжеты бытуют в рукописной традиции, используются без дополнительных пояснений в публицистике, и переводы отрывков из нее публикуются в журналах и сборниках. Первый русский неполный (без песен 34–46) перевод поэмы (опубликован в 1791–1793) был выполнен П. С. Молчановым (1770–1831) с французского прозаического переложения (1741) Ж.-Б. Мирабо (Mirabaud, 1675–1760) и вызвал в целом одобрительную оценку Н. М. Карамзина (Моск. журнал, 1791. Ч. 2. Июнь. С. 324). Особенно актуален становится «Неистовый Роланд» на рубеже XVIII – XIX вв. в связи с раннеромантическим оживлением интереса к европейскому средневековью и разработкой жанра национальной сказочно-богатырской (волшебно-рыцарской) поэмы. В русской критике 1810–1820-х гг. «Неистовый Роланд» предстает образцом поэмы романтического склада. В это же время ставится, но не находит решения проблема полного перевода поэмы Ариосто на русский язык октавами и размером подлинника; виднейшую роль в пропаганде творчества Ариосто играет К. Н. Батюшков.
Знакомство Пушкина с «Неистовым Роландом» могло состояться еще в детстве. Сведения об Ариосто были включены в лицейский курс истории словесности и эстетики. Но, скорее всего, молодой поэт воспринимал гения итальянского Возрождения не в подлиннике, а через опосредованное влияние вольной французской поэзии, о чем мы уже писали выше. Итальянским Пушкин овладел намного позднее и тогда же решился перевести несколько октав на русский язык, словно решив довести до конца работу своего собрата по поэтическому цеху Батюшкова, который так и умер в сумасшедшем доме в далекой Вятке, не успев сделать достойный перевод знаменитых «золотых октав». То, что Ариосто не оставлял Пушкина в течение всей его жизни, косвенно подтверждает знаменитое вступление к поздней его поэме «Домик в Коломне» (1830 г., написано в период Болдинской осени). Там есть такие строки:
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.
Здесь мы видим, что поэт упоминает именно октаву, любимейший размер Ариосто, чьи октавы и названы были золотыми. А шутливый тон повествования, отрицающий всякую чопорность и напыщенность, словно предлагает читателю вступить с автором в диалог о проблемах литературы и поэзии. Это то, что сейчас принято называть метатекстом, т. е. текстом, который комментирует сам себя. Именно метатекст, по мнению специалистов, и помогает книге, как и любому другому произведению искусства (полотна Караваджо, фильм Феллини «8 1/2», например), вступить в диалог с тем, кто этот метатекст в данный момент воспринимает. Но такое вольное комментирование самого себя, а это и есть суть метатекста, а точнее, метапрозы (литературные произведения, затрагивающие сам процесс повествования), является ничем иным, как психологической «провокацией», или приглашением читателя к диалогу с автором. В этой ситуации автор как бы снимает с себя одежду официальности и словно надевает домашние тапочки и халат, говоря читателю: «а теперь поговорим по душам».
В раннем детстве, наверное, роясь в библиотеке отца, будущий поэт вполне мог наткнуться на какую-нибудь из поэм Вольтера, на его «Девственницу», и получить первую прививку этой самой «сладости книжной», заключенной в самой манере легкого непринужденного повествования, унаследованного от великих итальянцев, когда автор словно лепечет что-то, на первый взгляд, бессвязное, а за этой необязательностью предстают потрясающие события, полные трагизма и веселья одновременно. И главное, все описываемые события пропущены через «я» самого художника. Сам автор становится не учителем или пророком, а твоим непосредственным собеседником, с которым ты «перетираешь» (простите меня за этот низкий стиль, не удержался от вольностей) вечерней порой, «что между нами названа порой меж волком и собаки». Неоднократно биографы Пушкина, включая Тынянова, указывали, каким одиноким был будущий гений русской литературы в раннем детстве. Так, может быть, это одиночество скрашивало ему общение именно с этим «сладостным стилем» итальянцев, который так великолепно перенял Вольтер, когда автор и читатель оказываются в одном положении и художественный материал предстает не как глыба каррарского мрамора, из которого высечен знаменитый Давид Микеланджело, а как воск в податливых руках мастера, и читателю дают возможность помять его в теплых ладонях. Впоследствии в критических заметках и письмах Пушкин упоминал Ариосто неизменно как одного из величайших итальянских поэтов. И если говорить о его свободном стиле повествования, минуя уже Вольтера, то авторскую манеру рассказа Ариосто можно охарактеризовать так: автор относится к описываемым им приключениям подчеркнуто иронически, выражая свою оценку как в описаниях, так и в многочисленных лирических отступлениях, которые впоследствии стали важнейшим элементом новоевропейской поэмы. Кто из нас, воспитанных в традициях старой школы еще до «славной» эпохи ЕГЭ, не писал сочинения на тему: «Роль лирических отступлений в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?» И писали мы в этих сочинениях о том, что автор затрагивает в этих отступлениях проблемы современного ему общества («Все, чем для прихоти обильной/Торгует Лондон щепетильный/И по балтическим волнам/За лес и сало возит нам»), литературы и языка («Шишков, прости/Не знаю, как перевести»), упоминает о своей личной и даже сексуальной жизни (знаменитое отступление о дамских ножках, навеянное его влюбленностью в молодую Раевскую во время южной ссылки: «Итак, я жил в Одессе пыльной»), о своих гастрономических предпочтениях («Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет»), о своих трогательных детских воспоминаниях («В те дни, когда в садах лицея/Я безмятежно расцветал»). Иными словами, именно эти многочисленные отступления от главной темы повествования: любовь Онегина и Татьяны, и позволят В. Г. Белинскому назвать роман в стихах Пушкина «энциклопедией русской жизни». Но это будет какая-то идеализированная русская жизнь. Это будет не реальная Россия, а Россия, возникшая в поэтическом воображении автора, главного творца художественного мира, некой эстетической утопии, куда творец приглашает войти своего читателя в выдуманный мир собственного воображения, заманивая этого читателя «роскошью человеческого общения», то есть простым задушевным разговором на самые разные и порой непредсказуемые темы. У этого разговора есть своя интрига, ритм авторской речи постоянно держит вас в напряжении. Вы просто не знаете, чего ожидать в следующий момент («Был вечер. Небо меркло. Воды/Струились тихо. Жук жужжал…»). И вот вы уже чувствуете жужжание этого жука в вечернем теплом воздухе на просторах природы. Как напряжено все, как таинственно! Вас интригуют не просто словами, вас интригуют интонацией. Вот оно, самое главное, наверное, что есть в пушкинском романе, – живая интонация беседы. С вами говорят, по сути дела, из могилы, говорит давно умерший поэт, но вы при этом чувствуете, как дрожит его голос, как напряжено все его творческое «я». И вы невольно заражаетесь этим творческим импульсом великой метапрозы, то есть литературы, которая отказывается от всякой условности, от всякой искусственности и становится столь же естественной, как сама жизнь, ибо жизнь наша и есть рассказ. «Что есть жизнь? – спросил как-то у самого себя римский император-философ Марк Аврелий. – Пепел, зола и еще рассказ». Рассказ и становится квинтэссенцией каждой человеческой жизни. А умение вести непринужденное повествование является проявлением не просто высшего мастерства поэта, а проявлением важной жизненной составляющей, когда чей-то рассказ в форме дружеской беседы с вами становится оправданием всей вашей собственной жизни. Главное здесь не подвести собеседника, главное – понять, о чем с вами говорят, потому что говорят за вас, за всех тех, кому говорить, то есть писать и творить, просто не дано от природы. Таким образом, простой акт чтения превращается, благодаря метаповествованию, в творческий акт, в немалой степени оправдывающий всю вашу жизнь.
Известный отечественный филолог В. Турбин в свое время на одной из лекций рассказал очень интересный случай. Во время сталинских репрессий в теплушке, в обычном столыпинском вагоне, находились сосланные интеллигенты. Иметь при себе какие-то книги было строго запрещено. Но эти люди не мыслили себя вне слова, вне рассказа, вне жизни, причем жизни подлинной. Несчастные эти тогда решили по очереди читать отрывки из романа «Евгений Онегин». Каждый знал этот текст целиком, наверное, как во времена Гомера, когда греки из уст в уста передавали героические сказания о подвигах своих предков. Поэмы Гомера были для них тем культурным кодом, который и позволял древним эллинам быть эллинами и никем другим. Нечто подобное происходило и в России. «Онегин» был тем культурным кодом, который делал русских интеллигентов чем-то особенным, отличающимся от всего остального. И вот в промерзлой теплушке, умирая от голода и холода, люди по очереди читали «Онегина». Они готовы были умереть. Большинство из них и умерло, превратившись в лагерную пыль. Но они наизусть читали «Онегина», они, по Марку Аврелию, переходили после пепла и золы в высшую ипостась своего земного существования – в ипостась рассказа. С ними через пропасть могилы беседовал сам Пушкин, интригуя в который раз их своей таинственной интонацией: «Был вечер. Небо меркло. Воды/Струились тихо. Жук жужжал…»
За всем этим внимательно наблюдал полуграмотный охранник. В конце он сказал: «Ну вы, господа троцкисты, даете!» Интересно, пробрало этого охранника или нет? Может быть, и он смог на мгновение ощутить проникновенную пушкинскую интонацию? Как знать? Как знать? Жизнь для большинства лишь пепел и зола и лишь для немногих счастливцев она еще и рассказ.
Но откуда взял Пушкин эту особую манеру повествования? Он унаследовал ее еще в далеком детстве, когда всеми покинутый, в одиночестве рыскал по книжным полкам отца и натыкался на слабое отражение Ариосто в вольтеровских вольностях. Это было подобно звуку морских волн в старой раковине: приложишь к уху – и вот ты на берегу самого океана. В этом метаповествовании, в этой свободной манере общения гений Пушкина уловил собеседника, потому что, наверное, инстинктивно понимал, что за пеплом и золой есть еще рассказ, и есть тот, кто его, рассказ, тебе рассказывает, приглашая присоединиться к увлекательной игре в творчество.
А теперь настало время быть строгими и академичными и вспомнить, что в письме к К. Ф. Рылееву от 25 января 1825 года поэт прямо указывает, что в работе над «Евгением Онегиным» в числе прочего ориентировался на стилистику «легкого и веселого» повествования, которым и отличается «Неистовый Роланд» Ариосто. Правда, среди прочего влияния на манеру повествования пушкинисты обычно указывают еще на роман в стихах «Дон Жуан» Байрона, но ведь и Байрон находился под необычайным впечатлением от все того же «Неистового Роланда». Этот факт считается абсолютно доказанным. То есть как ни верти, а мы упираемся в великого итальянца XVI века.
И действительно, в авторских отступлениях «Неистового Роланда», так же как и в «Онегине», обсуждаются вполне «серьезные» темы; так, Ариосто беседует с читателем об искусстве поэзии, критикует Итальянские войны и сводит счеты со своими завистниками и недоброжелателями. Разного рода сатирические и критические элементы рассеяны по всему тексту поэмы; в одном из наиболее знаменитых эпизодов рыцарь Астольф прилетает на гиппогрифе на Луну, чтобы разыскать потерянный разум Роланда, и встречает обитающего там апостола Иоанна. Апостол показывает ему долину, где лежит все, что потеряно людьми, в том числе красота женщин, милость государей и Константинов дар.
Не двигаясь в сторону психологического анализа, Ариосто целиком погружается в сказочность, которая составляет лишь нижнее основание романной структуры. Гегель неточен, когда он пишет, что «Ариосто восстает против сказочности рыцарских приключений». Ценой иронической интерпретации и игровой трактовки Ариосто как бы приобретает право упиваться сказочной фантастикой с ее гиперболическими преувеличениями и причудливыми образами, сложнейшими нагромождениями фабульных линий, необычайными и неожиданными поворотами в судьбах персонажей. При этом подчеркиваются гораздо больше, чем в классических куртуазных романах, наличие художественного вымысла, субъективный произвол и тонкое мастерство автора-художника, использующего эпическое предание только как глину в руках мастера. Вот она – точка совпадения шедевра Ренессанса и первого русского романа.
Но если быть до конца точным, то надо признать, что Ариосто был не первым, кто придумал такую манеру повествования. У него были серьезные предшественники, и один из них принадлежал, ни много ни мало, к ближайшему окружению знаменитого Лоренцо Великолепного, покровителя Сандро Боттичелли, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Это был поэт Пульчи, чей портрет можно найти в самом центре Флоренции в капелле Бранкаччи. Это он первый решил переиграть старый рыцарский эпос в ироничной манере. На Пульчи ссылается и Вольтер в одном из своих комментариев к «Девственнице».
И здесь нам понадобится историческая справка. Дело в том, что все началось еще в пятнадцатом веке, во Флоренции, в так называемом кружке Лоренцо Великолепного, покровителя высокого Возрождения. В этот кружок входили такие поэты, как сам Лоренцо, Полициано и Пульчи. В 1483 году именно он сочинил свою знаменитую поэму, которая и стала отправной точкой для возникновения сначала «Влюбленного Роланда» Боярдо, а затем и «Неистового Роланда» Ариосто.
Пульчи первый решил воспользоваться французскими рыцарскими сюжетами, наследием европейского Средневековья, в своей не совсем обычной поэме. Эти французские сюжеты проникли во Флоренцию через Северную Италию (Ломбардию и Венецианскую область), где они получили большое распространение благодаря сходству североитальянских диалектов с французским языком. Рыцарские поэмы кантасториев писались октавами и отличались огромными размерами. На этой основе Пульчи и создал свою знаменитую поэму «Морганте», которая состоит из 28 песен. В первых 23 поэт следует сюжету анонимной народной поэмы «Орландо» (ок. 1380 г.), представляющей итальянскую переделку «Песни о Роланде», а в последующих 5 песнях он более вольно использует поэму «Испания», повествующую о Ронсевальской битве.
Поэма названа именем второстепенного персонажа – крещенного Роландом и беззаветно преданного ему добродушного великана Морганте, обладающего колоссальной силой и не меньшим аппетитом (на обед он сжирает целого слона). Поэма неслучайно названа именем второстепенного персонажа. Это сознательный прием, подчеркивающий ведущую роль во всем произведении буффонного элемента и сравнительную несущественность ее основной рыцарской фабулы. Вот она, та вольность, которая и будет развита последователями, сначало Боярдо, а затем Ариосто.
Мы сделали этот экскурс в историю, чтобы показать, как в русской классике опосредованно отразится солнце Флоренции и Феррары, а также французский средневековый рыцарский эпос.
Но вернемся еще раз к Ариосто и его предшественнику Боярдо. Они и довели первый опыт Пульчи до совершенства, что и позволило в дальнейшем поэме «Неистовый Роланд» оказать такое мощное и неизгладимое влияние на всю новоевропейскую поэму.
Итак, в конце пятнадцатого века в Северной Италии появляется новый культурный очаг, оказавшийся весьма жизнеспособным в годы феодально-католической реакции, охватившей Италию в шестнадцатом веке. Этим культурным очагом стал небольшой город Феррара, расположенный недалеко от устья реки По, на торговом пути, ведущем из Венеции в Болонью. С давних пор Феррара была объектом притязаний Венеции и Рима, соперничавших из-за овладения ею. Маленькая Феррара успешно сопротивлялась этим посягательствам на ее независимость, главным образом вследствие искусства ее правителей герцогов Эсте, создавших здесь первый по времени принципат (в начале тринадцатого века). В отличие от большинства других итальянских тираний герцогство Феррарское культивировало феодальные традиции, имевшие реальные предпосылки в быту местного землевладельческого дворянства. Герцоги Эсте всемерно поощряли эти традиции, создавая при своем дворе настоящий культ древнего рыцарства. В итоге Феррара являлась в конце пятнадцатого века своеобразным феодальным оазисом в Северной Италии. Немало на эту ситуацию влияла и близость соседней Франции, в которой в пятнадцатом веке еще догорала средневековая Столетняя война.
Своеобразные особенности феррарской культуры со всеми присущими ей противоречиями ярко отразились в творчестве графа Маттео Боярдо (1441–1494). Он происходил из знатного феодального рода и провел всю свою жизнь при дворе феррарского герцога Эрколе Первого, занимая ряд высших административных и военных должностей. Самым выдающимся произведением Боярдо считается неоконченная рыцарская поэма «Влюбленный Роланд», первые две части которой были опубликованы в 1484 году, а незаконченная третья часть увидела свет только после смерти поэта. В своей поэме Боярдо исходил непосредственно из французских оригиналов, хорошо известных феррарской придворной знати. Но, заимствуя фабулу своей поэмы из каролингского эпоса (знаменитая «Песнь о Роланде»), Боярдо обрабатывал ее в духе романов «круглого стола», превращая грубоватых паладинов Карла Великого в изящных рыцарей, а сурового Роланда – в нежного любовника. Герои Боярдо готовы на любые подвиги и приключения в честь прекрасной дамы. Все их приключения имеют сказочный, фантастический характер. Странствующие рыцари сражаются не только друг с другом, но и с великанами и чудовищами. Волшебство и чары заменяют христианские чудеса, фигурировавшие в рыцарском эпосе; вместо ангелов судьбой героев распоряжаются феи и волшебники. Поэма Боярдо является настоящим кодексом рыцарской чести, причем враги христианства – сарацины – тоже изображены рыцарями, ищущими подвигов в честь своих дам.
Главными пружинами действия являются любовь, ревность, соперничество, женская хитрость и прочее.
Сюжет «Влюбленного Роланда» отличается большой запутанностью. В центре поэмы стоит образ Роланда, влюбленного в красавицу Анджелику, дочь Галафрона, царя китайского, которая появляется при дворе Карла Великого и вызывает там всеобщее поклонение. Одного ее слова достаточно, чтобы заставить Роланда совершить самые невероятные подвиги. Он попадает в заколдованный сад, в волшебный грот феи Морганы, он дерется с великанами и драконами. В честь Анджелики Роланд отправляется на Восток и там сражается с царем Татарии Агриканом, ведущим войну с отцом Анджелики. Роланд убивает Агрикана и освобождает от осады столицу Галафрона Альбракку. Однако все усилия Роланда тщетны: Анджелика равнодушна к нему, так как она влюблена в его двоюродного брата Ринальдо, который к ней холоден. Эти противоположные чувства Ринальдо и Анджелики вызваны тем, что они напились из волшебных источников, вода которых обладает свойством менять чувства людей. В дальнейшем Ринальдо и Анджелика еще раз испытывают действие воды волшебного источника, после чего меняются ролями: теперь Анджелика ненавидит Ринальдо, а Ринальдо любит ее.
Фабула поэмы соткана из бесчисленных приключений и подвигов, о которых Боярдо повествует с легкой иронией, подчеркивающей их неправдоподобие. При этом он постоянно прибегает к приему преувеличения, рассказывая, например, о том, как девять рыцарей обращают в бегство двухмиллионную армию, в которой имеется несколько сотен великанов ростом в тридцать футов. Зачарованными в поэме Боярдо оказываются не только рыцари, но также лошади, шлемы, мечи и т. д. Ирония Боярдо не щадит даже изображаемых им рыцарей. Так, он преувеличивает целомудрие Роланда, его робость в присутствии женщин. Равным образом Боярдо снижает образы своих героинь, в особенности Анджелики, которая в отличие от прекрасных дам куртуазных рыцарских романов изображается обольстительной кокеткой, хитрой, ветреной и изменчивой.
Таким показом образов с героев и героинь рыцарских романов Боярдо снимает идеализирующий покров. Его ирония разрушает тот идеальный рыцарский мир, который он сам же и построил. Мы находим здесь типичное выражение эпикуреизма, присущего аристократии времен Ренессанса, учащего ничего не принимать всерьез и подшучивать над собственными вкусами. Так и приходит на ум знаменитая фраза из «Евгения Онегина»: «…учил его всему шутя,/ Не докучал моралью строгой,/Слегка за шалости бранил…»
Такой эстетический подход находит также выражение в композиции поэмы Боярдо. Ее основная сюжетная линия на каждом шагу прерывается бесчисленными эпизодами, которые то развиваются параллельно, то переплетаются, то неожиданно прерываются в самый волнующий момент, а затем столь же неожиданно возвращаются. Такая манера повествования создает впечатление изящной игры воображения, отвечавшей вкусам утонченной аристократической публики. Все это очень далеко от грубоватой плебейской буффонады Пульчи, решительно взрывающей мир феодальных ценностей.
«Влюбленный Роланд» имел огромный успех и вызвал множество подражаний. Но всех этих малоискусных продолжателей влюбленного Роланда» затмил Ариосто, автор «Неистового Роланда», доведший жанр рыцарской поэмы до предельного художественного совершенства и сделавший ее целостным выражением культуры позднего итальянского Возрождения.
По мнению де Санктис, «Ариосто и Данте были знаменитостями двух культур, противоположных по своему характеру. Оба они жили на рубеже двух веков… Поэзия того и другого явилась синтезом и завершением целой эпохи. Данте завершает Средние века, Ариосто завершает Возрождение».[10 - Де Санктис. История итальянской литературы. Изд-во: Прогресс. М., 1964. С. 22.]
Самая ранняя версия (в 40 песнях) появилась в 1516 году, 2-е издание (1521) отличается лишь более тщательной стилистической отделкой, полностью опубликовано в 1532 г. «Неистовый Роланд» является продолжением (gionta) поэмы «Влюбленный Роланд» (Orlando innamorato), написанной Маттео Боярдо (опубликована посмертно в 1495 году). Состоит из 46 песен, написанных октавами; полный текст «Неистового Роланда» насчитывает 38 736 строк, что делает его одной из длиннейших поэм европейской литературы.
Поэма Ариосто построена как продолжение поэмы Боярдо. Он начинает повествование с того момента, на котором оно обрывается у Боярдо, выводит тех же персонажей в тех же положениях. Вследствие этого Ариосто не приходится знакомить читателей со своими героями. Справедливо было замечено, что для Ариосто поэма Боярдо как бы играла роль традиции, из которой эпический поэт берет своих персонажей и сюжетные мотивы.
Ариосто заимствует у Боярдо также и приемы сюжетного построения своей поэмы. Композиция «Неистового Роланда» основана на принципе неожиданных переходов от одного эпизода к другому и на переплетении нескольких линий повествования, получающих подчас необычайно причудливый, почти хаотический характер. Однако хаотичность поэмы Ариосто – мнимая. На самом деле в ней царит сознательный расчет: каждая часть, сцена, эпизод занимает строго определенное место; ни одного куска поэмы нельзя переставить на место другого, не нарушив художественной гармонии целого. Всю поэму в целом можно сравнить со сложной симфонией, которая кажется беспорядочным набором звуков только немузыкальным или невнимательным слушателям. Это тот самый принцип «свободного романа», о котором в свое время будет писать Пушкин, имея в виду «Евгения Онегина».
В сложном и многоплановом сюжете «Неистового Роланда» можно выделить три основных темы, которые сопровождаются множеством мелких вставных эпизодов.
Первая тема – традиционная, унаследованная от каролингского эпоса – война императора Карла и его паладинов с сарацинами. Эта тема внешне охватывает весь лабиринт событий, изображенных в поэме. В начале поэмы войско сарацинского царя Аграманта стоит под Парижем, угрожая столице могущественнейшего христианского государства. В конце поэмы сарацины разбиты, и христианский мир спасен. В промежутке изображено бесчисленное множество событий, участниками которых являются рыцари обоих враждебных войск. Уже один этот факт имеет немалое композиционное значение в поэме: он связывает разрозненные нити ее эпизодов. Самая тема борьбы христианского мира с мусульманским не имеет для Ариосто того принципиального значения, какое он получит впоследствии у Тассо, например. Поэтому многие эпизоды войны он трактует шутливо, иронически.
Вторую тему поэмы составляет история любви Роланда к Анджелике, являющейся причиной безумия главного героя, что и дало название всей поэме. Роланд следует по пятам за ветреной и жестокой красавицей-язычницей, становящейся яблоком раздора между христианскими рыцарями. Во время своих скитаний Анджелика встречает прекрасного сарацинского юношу Медора, тяжело раненного. Она ухаживает за ним, спасает его от смерти и влюбляется в него. Роланд, преследуя Анджелику, попадает в лес, в котором незадолго до этого Анджелика и Медор наслаждались любовью. Он видит на деревьях вензеля, начертанные влюбленными, слышит от пастуха рассказ об их любви и сходит с ума от горя и ревности. Безумие Роланда, изображенного, в согласии с традицией, самым доблестным из рыцарей Карла Великого, является как бы наказанием за безрассудную страсть к недостойной его Анджелике. Эта тема разработана Ариосто с подлинным драматизмом и местами с психологической тонкостью. Однако финальный эпизод этой истории носит комический характер: утерянный Роландом рассудок Астольфо находит на Луне, где рассудок многих людей, потерявших его на земле, хранится в склянках, на которых наклеены ярлыки с именами владельцев.
Третья тема поэмы – история любви молодого сарацинского героя Руджеро к воинственной деве Брадаманте, сестре Ринальдо. От союза Руджеро и Брадаманты должен произойти княжеский дом Эсте; поэтому Ариосто излагает их историю особенно обстоятельно. Эта тема вводит в поэму чрезвычайно обильный сверхъестественный, фантастический элемент.