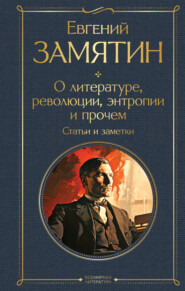По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Алатырь
Автор
Год написания книги
1914
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И конец. И молчок. Расхаживал князь, счастливый.
«Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь…» – и конец, ни слова.
Кто научил ее так – лукавому знать. Будто вот плясала перед князем, вся в черном. Вдруг откинула складки – сверкнуло на черном розово-нежно. И конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит, и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще…
Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев – и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнувшему. Ее – никогда не называл князь: Глафира, – как Иван Павлыч, а всегда говорил: она.
Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры – и вот в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе.
По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто: получи теперь князь от нее хоть слово по-русски – он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино.
Всякое эсперантское слово – теперь вдвойне сладко князю: ведь это – ее слова. В ее синих, глубочайших глазах – пленен весь мир. И равно – всем миром владеет язык эсперанто…
«…Да что – всем миром: всей Вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители – тоже, поди, эсперанто знают. А как же? Обязательно знают».
Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине, проживавшей в Сапожке у отца своего – протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз: может, и правда – Глафира пишет записки, но не надо это знать.
Вечера князь просиживал дома, а за полночь – шел гулять. Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил.
…А следом за князем, темной тенью у стен, крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно и нощно: надо узнать наверняк, что у него с Глафирой. Хоть самое… хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного – совсем невтерпеж. Глафире хоть Костя и верит – как же не верить-то, господи? – но вот Иван Павлыч говорит, что она…
Дворянин Иван Павлыч – добрейшей души человек, но есть за ним грех: медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть (над ним самим-то – больно много шутили).
В запрошлом году Иван Павлыч подъехал к Агаркову-гостинику, к градскому голове: подпали да подпали амбар агарковский старый.
– Во-от, не веришь, чудак! – улещал купца Иван Павлыч. – Страховые за амбар огромадные, новый-то амбар возведешь вдвое ширьше…
У Агаркова борода лопатой, а ума не богато: поверил Ивану Павлычу, запалил свой амбар. И самое когда это подпаливать стал, нагрянули тут, раба божия – под белые ручки да на цугундер. Дорого купцу новый амбар обошелся: куда там – страховые! А уж кто это начальство уведомил – Агарков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся искать, ну даже и он не нашел.
А то вот еще с чиновником Зюньзей случай был. Смеха для – проказник какой-то подметное письмо настрочил чиновнику Зюньзе: так, мол, и так, жена-то твоя тово… кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь? И назавтра чиновник Зюньзя выволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ – как будто бы повещен, без числа собрался: уж было потехи!
– …Да, брат Костюня, Глафирочке твоей нынче аминь! – подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивал Костю. – Нынче в четыре часа пополудни – решительное свидание… Чуда-ак, да ведь князь мне записку показывал, как же не знать-то? У алатырь-камня свидание, и оттуда – ау: самокруткой да к князю на почту, так-то-с вот.
Костя покорно плелся к алатырю-камню. В синих сумерках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег. Тихо точила тоска. Рассевшийся наполы темный алатырь – вещал беду. Навалился алатырь – сонный медведь – под себя подмял: продыхнуть невозможно.
Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя, весь замерзший, тащился на почту: там теперь, в боковушке, жил Иван Павлыч.
– Ну что, брат Костюня, никого? Эх ты, господи, стало быть, ослышался я: это завтра… Эх, я какой!
– Это вы нарочно все, Иван Павлыч.
– Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, а он на-ка: нарочно. Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлыч…
Ставил Иван Павлыч бутылку на стол. Костя пил. Едучим дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры.
Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя:
В моей груди – мечта стоит,
А милая Глафира – ко мне презрит…
Выпивши, Костя спал как убитый. Но не было покоя и во сне. Присыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон: забыл будто Костя, как его зовут, забыл – и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном охал Костя во сне, что Потифорна принималась его будить. Оно хоть и жалко – будить, но слушать стон – еще жальче.
8. Святочные происшествия
Господи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины – приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову не пришло: давно бы двести тысяч в банке лежало.
Заперся в кабинете Иван Макарыч и сел записывать, пока не забыл:
«Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит: во-первых, двенадцать долей именуемого в просторечии сапожного вару…»
Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно – и решил оказать всенародно свое великое изобретение. На Святках, на третий день, поназвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев, околоток, в белых перчатках, высоко напоказ – поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно: держалась вода, как в хорошем ведре.
…А на пятой, на последней минуте – сукно-то возьми да и промокни, при всем честном народе. Ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручьи исправник – будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает.
Гости смолчали, никто – ни смешинки.
– Вода… неподходящая, должно быть. Разная она бывает – вода-то, – с приятностью сказал Иван Павлыч.
Тут уж протопоп отец Петр – не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться, а там и не уймешь: смешливый. Трясется, стоит – весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький – звонит и звонит.
Исправник – инда пополовел. Дверью хлопнул – только его гости и видели.
Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день – протопоп кончил ходить по приходу. Изусталый вернулся домой. Пообедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился – и лег отдохнуть.
И часу этак в шестом – произошло: явился он телешом, и был он теперь в женском образе. Вся та поганая баба была, как киноварь, красная и так мерзостно вихлялась, что терпеть было нельзя ни минуты. Отец Петр – подавай Бог ноги: выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал-бежал…
Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле алатыря-камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству.
И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал:
– Паспорт имеешь? Ты из каких будешь вообще?
– Иван Макарыч, Бог с вами, да ведь это же я, это я…
– Я вижу, что я. Якать-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство!
Кто же с собой вид берет, убегая от наваждения дьявольского? Нет уж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке.
А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог – с четырьмя разными начинками; поставила баклановку в глиняной сулее; поставила кусок мороженых сливок – и пошла протопопа будить. А протопопа – и след простыл: брюки тут, подрясник – тут, а самого – поминай как звали. Побежала Варвара гончей по отцовым следам. Ворвалась к исправничихе, всполыхнула ее своей жалобой, исправничиха покатилась и грозно насела на исправника:
– Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутузку – отца своего духовного, а? Сейчас чтобы лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить… а то – знаешь?
В гостиной, в углу, Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной – у окна закаменела Глафира, будто и не видит Варвары. Но вошедшей исправничихе был явственно слышен зловещий гусиный шип.
Распалилась исправничиха – решила уж заодно вычитать все и Варваре.
– Ты что у меня там с князем ворожишь? Какие такие записки?
– Ваша Глафира пишет – это все говорят, а я виновата?
«Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь…» – и конец, ни слова.
Кто научил ее так – лукавому знать. Будто вот плясала перед князем, вся в черном. Вдруг откинула складки – сверкнуло на черном розово-нежно. И конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит, и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще…
Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев – и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнувшему. Ее – никогда не называл князь: Глафира, – как Иван Павлыч, а всегда говорил: она.
Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры – и вот в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе.
По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто: получи теперь князь от нее хоть слово по-русски – он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино.
Всякое эсперантское слово – теперь вдвойне сладко князю: ведь это – ее слова. В ее синих, глубочайших глазах – пленен весь мир. И равно – всем миром владеет язык эсперанто…
«…Да что – всем миром: всей Вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители – тоже, поди, эсперанто знают. А как же? Обязательно знают».
Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине, проживавшей в Сапожке у отца своего – протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз: может, и правда – Глафира пишет записки, но не надо это знать.
Вечера князь просиживал дома, а за полночь – шел гулять. Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил.
…А следом за князем, темной тенью у стен, крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно и нощно: надо узнать наверняк, что у него с Глафирой. Хоть самое… хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного – совсем невтерпеж. Глафире хоть Костя и верит – как же не верить-то, господи? – но вот Иван Павлыч говорит, что она…
Дворянин Иван Павлыч – добрейшей души человек, но есть за ним грех: медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть (над ним самим-то – больно много шутили).
В запрошлом году Иван Павлыч подъехал к Агаркову-гостинику, к градскому голове: подпали да подпали амбар агарковский старый.
– Во-от, не веришь, чудак! – улещал купца Иван Павлыч. – Страховые за амбар огромадные, новый-то амбар возведешь вдвое ширьше…
У Агаркова борода лопатой, а ума не богато: поверил Ивану Павлычу, запалил свой амбар. И самое когда это подпаливать стал, нагрянули тут, раба божия – под белые ручки да на цугундер. Дорого купцу новый амбар обошелся: куда там – страховые! А уж кто это начальство уведомил – Агарков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся искать, ну даже и он не нашел.
А то вот еще с чиновником Зюньзей случай был. Смеха для – проказник какой-то подметное письмо настрочил чиновнику Зюньзе: так, мол, и так, жена-то твоя тово… кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь? И назавтра чиновник Зюньзя выволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ – как будто бы повещен, без числа собрался: уж было потехи!
– …Да, брат Костюня, Глафирочке твоей нынче аминь! – подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивал Костю. – Нынче в четыре часа пополудни – решительное свидание… Чуда-ак, да ведь князь мне записку показывал, как же не знать-то? У алатырь-камня свидание, и оттуда – ау: самокруткой да к князю на почту, так-то-с вот.
Костя покорно плелся к алатырю-камню. В синих сумерках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег. Тихо точила тоска. Рассевшийся наполы темный алатырь – вещал беду. Навалился алатырь – сонный медведь – под себя подмял: продыхнуть невозможно.
Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя, весь замерзший, тащился на почту: там теперь, в боковушке, жил Иван Павлыч.
– Ну что, брат Костюня, никого? Эх ты, господи, стало быть, ослышался я: это завтра… Эх, я какой!
– Это вы нарочно все, Иван Павлыч.
– Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, а он на-ка: нарочно. Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлыч…
Ставил Иван Павлыч бутылку на стол. Костя пил. Едучим дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры.
Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя:
В моей груди – мечта стоит,
А милая Глафира – ко мне презрит…
Выпивши, Костя спал как убитый. Но не было покоя и во сне. Присыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон: забыл будто Костя, как его зовут, забыл – и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном охал Костя во сне, что Потифорна принималась его будить. Оно хоть и жалко – будить, но слушать стон – еще жальче.
8. Святочные происшествия
Господи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины – приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову не пришло: давно бы двести тысяч в банке лежало.
Заперся в кабинете Иван Макарыч и сел записывать, пока не забыл:
«Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит: во-первых, двенадцать долей именуемого в просторечии сапожного вару…»
Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно – и решил оказать всенародно свое великое изобретение. На Святках, на третий день, поназвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев, околоток, в белых перчатках, высоко напоказ – поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно: держалась вода, как в хорошем ведре.
…А на пятой, на последней минуте – сукно-то возьми да и промокни, при всем честном народе. Ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручьи исправник – будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает.
Гости смолчали, никто – ни смешинки.
– Вода… неподходящая, должно быть. Разная она бывает – вода-то, – с приятностью сказал Иван Павлыч.
Тут уж протопоп отец Петр – не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться, а там и не уймешь: смешливый. Трясется, стоит – весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький – звонит и звонит.
Исправник – инда пополовел. Дверью хлопнул – только его гости и видели.
Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день – протопоп кончил ходить по приходу. Изусталый вернулся домой. Пообедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился – и лег отдохнуть.
И часу этак в шестом – произошло: явился он телешом, и был он теперь в женском образе. Вся та поганая баба была, как киноварь, красная и так мерзостно вихлялась, что терпеть было нельзя ни минуты. Отец Петр – подавай Бог ноги: выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал-бежал…
Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле алатыря-камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству.
И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал:
– Паспорт имеешь? Ты из каких будешь вообще?
– Иван Макарыч, Бог с вами, да ведь это же я, это я…
– Я вижу, что я. Якать-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство!
Кто же с собой вид берет, убегая от наваждения дьявольского? Нет уж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке.
А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог – с четырьмя разными начинками; поставила баклановку в глиняной сулее; поставила кусок мороженых сливок – и пошла протопопа будить. А протопопа – и след простыл: брюки тут, подрясник – тут, а самого – поминай как звали. Побежала Варвара гончей по отцовым следам. Ворвалась к исправничихе, всполыхнула ее своей жалобой, исправничиха покатилась и грозно насела на исправника:
– Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутузку – отца своего духовного, а? Сейчас чтобы лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить… а то – знаешь?
В гостиной, в углу, Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной – у окна закаменела Глафира, будто и не видит Варвары. Но вошедшей исправничихе был явственно слышен зловещий гусиный шип.
Распалилась исправничиха – решила уж заодно вычитать все и Варваре.
– Ты что у меня там с князем ворожишь? Какие такие записки?
– Ваша Глафира пишет – это все говорят, а я виновата?