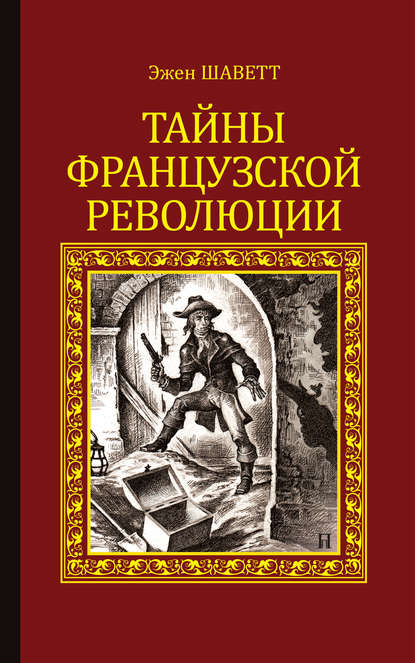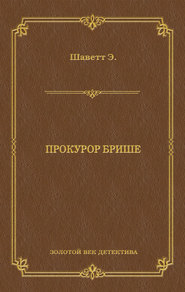По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайны французской революции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бледный и дрожащий, Кожоль приблизился, чтоб сказать последнее прости дорогому другу, которого больше никогда не увидит.
Чтоб не оставить никаких улик для розысков полиции, с трупа стащили все до последней рубашки, а лицо совершенно обезобразили. Отсутствие носа и глубокие рубцы, испещрявшие лоб и щеки, придавали этой голове что-то ужасное. На левой стороне груди виднелась круглая ранка, переполненная сгустившейся кровью и указывавшая путь, через который пуля прошла прямо в сердце этого человека, поразив его быстро, избавив от страданий и агонии.
Изрезанное лицо мертвеца вряд ли могло бы удивить любопытных, толпившихся в зале, потому что среди трупов, валявшихся на улицах Парижа после ночных кровавых схваток часто случалось находить тела с совершенно обезображенными головами.
Как ни был ужасен вид этого окровавленного лица, граф Кожоль при первом же взгляде на него почувствовал радость в сердце. Двух секунд достаточно было, чтоб убедиться: этот труп не принадлежал его другу – огромные грубые руки мертвеца не имели никакого сходства с нежными белыми руками кавалера.
Не теряя времени на отыскание других доказательств, Пьер вышел на улицу. Но после первой минутной радости страх овладел им.
«Нет, – рассуждал он. – Этот мертвец не Ивон, а я мог бы поклясться, что негодяя отправила на тот свет пуля моего храброго друга. Покойник принадлежал к какой-нибудь шайке, которая, без сомнения, имеет свои причины скрываться и потому обезображивает трупы убитых товарищей».
Горестная мысль заставила его остановиться.
«Но торговец фруктами сказал, что видел два тела, когда в первый раз отворял дверь! Не принадлежало ли второе кавалеру?»
Рыдания душили его, и он прошептал:
– Я слишком рано вздумал радоваться: мой дорогой Бералек погиб.
И тут одно воспоминание поразило его: слова лавочника о том, что кто-то после побоища вернулся на место схватки, охнул, как будто поднимал тяжесть, и медленно удалился, словно нес тяжесть. «Должно быть, он-то и унес другое тело», – подумал граф.
Он опять пустился обратно к фруктовой лавочке, где торговец двадцатый раз уже повторял перед новой группой свой рассказ, который Кожоль прервал вопросом:
– А в какую сторону направился человек, вернувшийся за телом?
– Я уверен, что направо.
Не расспрашивая дальше, Кожоль поспешил по улице направо.
– Да, – рассуждал он. – Туда, непременно туда, логика подсказывает, что все верно. Если этот человек, обремененный ношей, повернул бы налево, то он должен был подняться вверх к улице Турнон и таким образом рисковал привлечь к себе внимание людей, возвращавшихся с бала. Но кто же этот человек? Хороший малый, как видно, но только порядочной трусишка. У него не хватило храбрости, чтоб прийти на помощь Ивону во время самой схватки, которую он должен был видеть из-за угла. Но если он унес моего товарища, то, без сомнения, потому, что тот еще дышал и была надежда спасти его.
И Пьер радостно крикнул, не заботясь о мнении прохожих:
– Ур-ра! Ивон жив и находится в руках друзей.
Но веселость графа вдруг исчезла. Вид места, где он оказался, внушил ему мрачную мысль, которой он и закончил с дрожью в голосе свою речь:
– …Или в руках врагов, которые стащили его в воду.
Это мрачное размышление вызвала в нем близостью реки, у которой он вдруг очутился, спускаясь вниз по улице Сены. При этом ужасном подозрении Пьер почувствовал, что готов упасть от волнения, и поспешил облокотиться на решетку набережной.
Однако простоял так совсем недолго.
Присутствие человека на берегу воскресило в Пьере надежду, и он побежал к нему.
По виду это был добряк, с глуповатой физиономией, один из тех невинных безумцев, которые всю жизнь проводят на берегу реки, если только их не прихлопнет ревматизм.
Казалось, он просидел несколько часов за удочкой, судя по богатой добыче лежавшей возле него на холсте, в который он собирался завернуть ее.
– Эге, – сказал Кожоль, – гражданин снимает осаду?
Просидев столько времени нем как рыба, добряк рад был поболтать.
– О да! – отвечал он. – Солнце уж начинает пригревать; прохлада исчезает в воздухе, и теперь как раз время последовать правилу мудреца, которое гласит: «Довольствуйся малым!»
– Черт побери! – изумился Кожоль. – Вы называете это «довольствоваться малым»! Да у вас хватит рыбы на угощение целого полка. Для такого громадного улова требуется по меньшей мере два часа!
Добряк лукаво усмехнулся и возразил:
– Ага, сейчас видно, что гражданин не смыслит ровно ничего в рыбной ловле, иначе бы он сразу увидал, что мой улов – скромная награда за терпение, по крайней мере шестичасовое!
– Неужели?
– Я пришел сюда до зари, гражданин; да, до зари, – говорил рыбак, делая ударение на последнем слове с некоторою гордостью.
Таким образом граф выудил первую зацепку, которую желал получить, и, ободренный, продолжал свой ловкий допрос:
– До зари? В таком случае вы должны были видеть это место и в темноте?
– О! Нужно сначала нанизать приманку да подождать, пока клюнет рыба, на это одно потребуется час. Ну-с, так я забросил свою первую удочку только на рассвете, в половине четвертого.
– Самое время! Пока еще не мешают суда, волнующие гладь воды, и уличные мальчишки, которые то и дело кричат на берегу или же швыряют камни с мостов.
– Да, это так, – подтвердил рыболов.
– Правда также, – продолжал Пьер, – что вас могут беспокоить и разбойники, сбрасывающие в реку мертвые тела.
– Да, как это случилось в прошлом месяце.
– А потом?
– С меня и этого довольно! Натерпелся же я страху! Этот шум, который слышится от падения в воду тела… пуф!.. ни с чем не спутать! Так мороз нутро и пробирает.
– Так нынешней ночью вы не слыхали этого «пуф!»? – спросил молодой человек с притворным смехом.
– Слава богу, нет. А между тем я уж думал, что он опять повторится.
Кожоль вздрогнул от неожиданности.
– А как же это? – вскричал он.
– Только что я успел сойти на берег, как вдруг мне показалось при свете фонаря, что по набережной к Новому мосту идет человек, таща на плечах другого.
Пьер прекратил расспросы. Он оставил рыболова и поднялся на набережную.
«Человек прошел по Новому мосту, – думал он, – пойдем туда же!»
Он скоро достиг площадки, возвышавшейся у моста, на которой шесть лет тому назад красовалась статуя Генриха IV. В 1792 году Конвент велел переплавить ее и чеканить из ее меди монеты.
Другие электронные книги автора Эжен Шаветт
Прокурор Брише




 4.5
4.5
Точильщик




 4.67
4.67