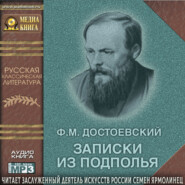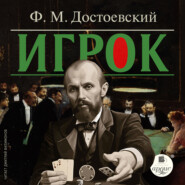По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Преступление и наказание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Преступление и наказание
Федор Михайлович Достоевский
Вечная классика в стиле манги
«Преступление и наказание», по мнению многих критиков, является лучшим романом Федора Достоевского, который оказал значительное влияние на русскую и мировую литературу.
В этой книге вы найдете не только полный текст произведения, но и вступительную статью, комментарии преподавателя Литературного института имени А. М. Горького, которые помогут вам подготовиться к экзаменам. Издание содержит QR-код, ведущий к аудиокниге: благодаря ей вы погрузитесь в атмосферу Петербурга того времени.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Федор Достоевский
Преступление и наказание
Вечная классика в стиле манги
Вступительная статья и комментарии Ольги Саленко
Иллюстрации на суперобложке, обложке и форзацах Елены Белоусовой
Саленко Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, работает на кафедре русской классической литературы и славистики Литературного института имени А. М. Горького. Преподает русскую литературу XVIII–XIX веков, историю славянских литератур, читает спецкурс по поэзии.
© Белоусова Е. Н., иллюстрации, 2024
© Оформление, вступительная статья, комментарии. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Machaon®
«Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского
«Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии… А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом…» – так писал молодой Федор Достоевский о событиях, преломивших его жизнь. «Мертвый дом» – это каторга, куда выпускника Инженерного училища и начинающего писателя отправили за участие в антиправительственном молодежном кружке Петрашевского. Каторгой была заменена смертная казнь. Об изменении приговора государственным преступникам сообщили, когда их уже вывели на расстрел.
По высочайшему помилованию Достоевского отправили на четыре года на каторжные работы в Омск, затем он около шести лет служил рядовым в казахской степи. В 1857 году петрашевцам и декабристам возвратили право дворянства. Достоевский начинает вновь печататься.
В каторге у писателя под подушкой лежала единственная разрешенная книга – Новый Завет. Евангелие стало источником непрестанных размышлений и духовного возрождения Достоевского.
«Я говорил тебе про… исповедь-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения…», – писал Достоевский брату. Но повествование от первого лица не устроило автора, и он решил вести повествование «от себя», от лица рассказчика, дважды перерабатывая идею.
Достоевский, испытывая крайнее безденежье, продал замысел романа редактору, а само произведение начали публиковать до момента его завершения автором. Эта отличительная манера писателя будет характерна и для его дальнейшей литературной работы. Роман, опубликованный в журнале «Русский вестник» в 1866 году, стал результатом многолетних размышлений Федора Михайловича о жизни и смерти, предназначении человека, его месте в мире и каким образом можно сделать мир лучше.
В центре сюжета – убийство. Детективный жанр в России, как и во всем мире, набирал силу, читателей интересовали тайны и загадки. Журналы, в том числе братьев Достоевских, печатали материалы зарубежных уголовных процессов и приговоры. В сентябре 1865 года начали публиковать отчеты из зала суда по делу раскольника Г. Чистова, зарубившего топором двух женщин и спрятавшего вещи в сугробе. Обвинитель и защитник много говорили о психологическом состоянии Чистова, интерпретируя его каждый по-своему. Материалы этого дела легли в основу криминальной составляющей романа. В августе 1865 года произошло еще одно убийство с ограблением. А в январе 1866 года, когда начал выходить роман, общественность обсуждала убийство студентом Даниловым ростовщика и его служанки, случайно зашедшей через незапертую дверь. Так что публика читала художественное произведение и сравнивала коллизии романа с реальным уголовным делом.
Достоевский использовал художественные приемы, характерные для детективной литературы и даже триллера – мастерски нагнетал напряжение, поддерживал интригу, задерживая развязку, создавал эффект саспенса. Вместе с тем его произведение имеет черты более привычного читающей публике его времени жанра авантюрного романа. Значительную роль в движении сюжета играет случай: случайная встреча, подслушанный разговор о старухе-процентщице, который возвращает Раскольникова к мысли о задуманном преступлении. Случай то срывает планы героя, то неожиданно помогает ему. Однако такие приемы для Достоевского – лишь средства. Несмотря на то что писатель основывает сюжет на уголовной хронике, он использует популярный жанр детектива для привлечения внимания к другим тайнам – сокровенным стремлениям души человека. У Достоевского, кто убил и как, не составляет загадки, автора глубоко волнуют причины убийства. В какой-то мере Достоевский предвосхитил психологический детектив, создав интересную и современную фигуру следователя (Порфирия Петровича) и разработав метод раскрытия преступления, основанный не на дедукции Шерлока Холмса, знавшего все об особенностях грязи в разных районах Лондона, а на изучении особенностей личности подозреваемого, его психологии.
Заметим, что место действия – Петербург Достоевский знал не хуже, чем Конан Дойль Лондон. Одна из особенностей романа – топографическая точность: действие происходит в местах, которые названы и до сих пор узнаваемы по описанным автором деталям.
Жанровые рамки детектива, конечно, узки для Достоевского. Его роман – не только и не столько о хитроумном следователе, а о поиске героем себя, о ложном выборе («Тварь ли я дрожащая или право имею…»), в логику которого загоняет себя Раскольников. Решение поставленной задачи автор видит в новом, духовном измерении, открывшемся герою, в отношениях с Богом и ближними.
Изначально Достоевский видел свой роман как «психологический отчет одного преступления», но в процессе работы создал вокруг главного героя ряд персонажей, которые до сих пор вызывают интерес читателей и исследователей. Писатель дал каждому возможность высказать свою позицию по социальным и философским проблемам, по-своему «отзеркалить» идею Раскольникова, стать его идеологическими «двойниками». Важное значение в развитии замысла автора играет символическое сближение персонажей (например, Соня, Дуня, Лизавета, девушка на бульваре), повтор и вариации отдельных эпизодов сюжета.
Для раскрытия характеров своих героев Достоевский пользуется обширной палитрой художественных средств, в частности, говорящими фамилиями и символикой имен. Однако это не просто прямые соответствия чертам личности, свойственные произведениям классицизма (Правдин, Скотинин). Символика Достоевского по ходу повествования оказывается более сложна и диалектична. Самый близкий человек к одиночке Раскольникову – Разумихин во второй части романа утверждает, что он «дворянский сын» и его настоящая фамилия – «Вразумихин»; другой герой, путаясь, назовет его «Рассудкиным». Одного из ключевых персонажей – Лужина зовут Петр, что значит «камень», отчество Петрович усиливает это значение, а фамилия резко с ним контрастирует.
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» – писал юный Достоевский в 1839 году, еще до всех своих злоключений.
Верность этой цели, стремление в любых обстоятельствах сохранять в себе человеческое, интерес и внимание к людям, их историям и переживаниям стали опорой, позволившей Фёдору Михайловичу, несмотря на многие беды и испытания, сохранить целостность своей личности и донести до нас живые размышления над вопросами, которые никогда не потеряют актуальность.
Ольга Саленко
Преступление и наказание
Часть первая
I
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С – м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К – ну мосту.
Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.
Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, – нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.
Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.
«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. – Гм… да… всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости… это уж аксиома… Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся… А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа но целым суткам в углу и думая… о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»
На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел.
Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться… А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» – и заорал во всё горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его.
«Я так и знал! – бормотал он в смущении, – я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа… Смешная, потому и приметная… К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят… главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее… Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и всё…»
Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее.
С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в – ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками – портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, «черная», но он всё уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?..» – подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник: «Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо… на всякой случай…» – подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти всё такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил… Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем.
Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость.
– Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, – поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.
– Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, – отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.
– Так вот-с… и опять, по такому же дельцу… – продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи.
«Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», – подумал он с неприятным чувством.
Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед:
– Пройдите, батюшка.
Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он всё в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-грех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, – вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Всё было очень чисто: и мебель, и полы были оттерты под лоск; всё блестело. «Лизаветина работа», – подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. «Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», – продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат.
Федор Михайлович Достоевский
Вечная классика в стиле манги
«Преступление и наказание», по мнению многих критиков, является лучшим романом Федора Достоевского, который оказал значительное влияние на русскую и мировую литературу.
В этой книге вы найдете не только полный текст произведения, но и вступительную статью, комментарии преподавателя Литературного института имени А. М. Горького, которые помогут вам подготовиться к экзаменам. Издание содержит QR-код, ведущий к аудиокниге: благодаря ей вы погрузитесь в атмосферу Петербурга того времени.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Федор Достоевский
Преступление и наказание
Вечная классика в стиле манги
Вступительная статья и комментарии Ольги Саленко
Иллюстрации на суперобложке, обложке и форзацах Елены Белоусовой
Саленко Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, работает на кафедре русской классической литературы и славистики Литературного института имени А. М. Горького. Преподает русскую литературу XVIII–XIX веков, историю славянских литератур, читает спецкурс по поэзии.
© Белоусова Е. Н., иллюстрации, 2024
© Оформление, вступительная статья, комментарии. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Machaon®
«Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского
«Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии… А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом…» – так писал молодой Федор Достоевский о событиях, преломивших его жизнь. «Мертвый дом» – это каторга, куда выпускника Инженерного училища и начинающего писателя отправили за участие в антиправительственном молодежном кружке Петрашевского. Каторгой была заменена смертная казнь. Об изменении приговора государственным преступникам сообщили, когда их уже вывели на расстрел.
По высочайшему помилованию Достоевского отправили на четыре года на каторжные работы в Омск, затем он около шести лет служил рядовым в казахской степи. В 1857 году петрашевцам и декабристам возвратили право дворянства. Достоевский начинает вновь печататься.
В каторге у писателя под подушкой лежала единственная разрешенная книга – Новый Завет. Евангелие стало источником непрестанных размышлений и духовного возрождения Достоевского.
«Я говорил тебе про… исповедь-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения…», – писал Достоевский брату. Но повествование от первого лица не устроило автора, и он решил вести повествование «от себя», от лица рассказчика, дважды перерабатывая идею.
Достоевский, испытывая крайнее безденежье, продал замысел романа редактору, а само произведение начали публиковать до момента его завершения автором. Эта отличительная манера писателя будет характерна и для его дальнейшей литературной работы. Роман, опубликованный в журнале «Русский вестник» в 1866 году, стал результатом многолетних размышлений Федора Михайловича о жизни и смерти, предназначении человека, его месте в мире и каким образом можно сделать мир лучше.
В центре сюжета – убийство. Детективный жанр в России, как и во всем мире, набирал силу, читателей интересовали тайны и загадки. Журналы, в том числе братьев Достоевских, печатали материалы зарубежных уголовных процессов и приговоры. В сентябре 1865 года начали публиковать отчеты из зала суда по делу раскольника Г. Чистова, зарубившего топором двух женщин и спрятавшего вещи в сугробе. Обвинитель и защитник много говорили о психологическом состоянии Чистова, интерпретируя его каждый по-своему. Материалы этого дела легли в основу криминальной составляющей романа. В августе 1865 года произошло еще одно убийство с ограблением. А в январе 1866 года, когда начал выходить роман, общественность обсуждала убийство студентом Даниловым ростовщика и его служанки, случайно зашедшей через незапертую дверь. Так что публика читала художественное произведение и сравнивала коллизии романа с реальным уголовным делом.
Достоевский использовал художественные приемы, характерные для детективной литературы и даже триллера – мастерски нагнетал напряжение, поддерживал интригу, задерживая развязку, создавал эффект саспенса. Вместе с тем его произведение имеет черты более привычного читающей публике его времени жанра авантюрного романа. Значительную роль в движении сюжета играет случай: случайная встреча, подслушанный разговор о старухе-процентщице, который возвращает Раскольникова к мысли о задуманном преступлении. Случай то срывает планы героя, то неожиданно помогает ему. Однако такие приемы для Достоевского – лишь средства. Несмотря на то что писатель основывает сюжет на уголовной хронике, он использует популярный жанр детектива для привлечения внимания к другим тайнам – сокровенным стремлениям души человека. У Достоевского, кто убил и как, не составляет загадки, автора глубоко волнуют причины убийства. В какой-то мере Достоевский предвосхитил психологический детектив, создав интересную и современную фигуру следователя (Порфирия Петровича) и разработав метод раскрытия преступления, основанный не на дедукции Шерлока Холмса, знавшего все об особенностях грязи в разных районах Лондона, а на изучении особенностей личности подозреваемого, его психологии.
Заметим, что место действия – Петербург Достоевский знал не хуже, чем Конан Дойль Лондон. Одна из особенностей романа – топографическая точность: действие происходит в местах, которые названы и до сих пор узнаваемы по описанным автором деталям.
Жанровые рамки детектива, конечно, узки для Достоевского. Его роман – не только и не столько о хитроумном следователе, а о поиске героем себя, о ложном выборе («Тварь ли я дрожащая или право имею…»), в логику которого загоняет себя Раскольников. Решение поставленной задачи автор видит в новом, духовном измерении, открывшемся герою, в отношениях с Богом и ближними.
Изначально Достоевский видел свой роман как «психологический отчет одного преступления», но в процессе работы создал вокруг главного героя ряд персонажей, которые до сих пор вызывают интерес читателей и исследователей. Писатель дал каждому возможность высказать свою позицию по социальным и философским проблемам, по-своему «отзеркалить» идею Раскольникова, стать его идеологическими «двойниками». Важное значение в развитии замысла автора играет символическое сближение персонажей (например, Соня, Дуня, Лизавета, девушка на бульваре), повтор и вариации отдельных эпизодов сюжета.
Для раскрытия характеров своих героев Достоевский пользуется обширной палитрой художественных средств, в частности, говорящими фамилиями и символикой имен. Однако это не просто прямые соответствия чертам личности, свойственные произведениям классицизма (Правдин, Скотинин). Символика Достоевского по ходу повествования оказывается более сложна и диалектична. Самый близкий человек к одиночке Раскольникову – Разумихин во второй части романа утверждает, что он «дворянский сын» и его настоящая фамилия – «Вразумихин»; другой герой, путаясь, назовет его «Рассудкиным». Одного из ключевых персонажей – Лужина зовут Петр, что значит «камень», отчество Петрович усиливает это значение, а фамилия резко с ним контрастирует.
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» – писал юный Достоевский в 1839 году, еще до всех своих злоключений.
Верность этой цели, стремление в любых обстоятельствах сохранять в себе человеческое, интерес и внимание к людям, их историям и переживаниям стали опорой, позволившей Фёдору Михайловичу, несмотря на многие беды и испытания, сохранить целостность своей личности и донести до нас живые размышления над вопросами, которые никогда не потеряют актуальность.
Ольга Саленко
Преступление и наказание
Часть первая
I
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С – м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К – ну мосту.
Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.
Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, – нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.
Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.
«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. – Гм… да… всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости… это уж аксиома… Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся… А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа но целым суткам в углу и думая… о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»
На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел.
Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться… А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» – и заорал во всё горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его.
«Я так и знал! – бормотал он в смущении, – я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа… Смешная, потому и приметная… К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят… главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее… Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и всё…»
Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее.
С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в – ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками – портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, «черная», но он всё уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?..» – подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник: «Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо… на всякой случай…» – подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти всё такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил… Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем.
Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость.
– Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, – поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.
– Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, – отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.
– Так вот-с… и опять, по такому же дельцу… – продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи.
«Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», – подумал он с неприятным чувством.
Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед:
– Пройдите, батюшка.
Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он всё в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-грех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, – вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Всё было очень чисто: и мебель, и полы были оттерты под лоск; всё блестело. «Лизаветина работа», – подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. «Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», – продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат.