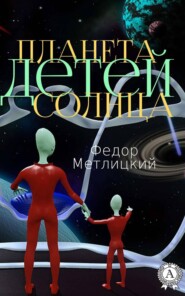По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стокгольмский синдром
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Профессор поддержал Старика:
– В человеческий мозг, по-видимому, встроена способность к переживанию единения. Люди жались друг к другу, чтобы легче было выжить. Эволюционный фактор обеспечивает преимущество за счет стимуляции взаимной щедрости членов рода.
– Есть ли такой адаптивный фактор? – пренебрежительно спросил политолог. – Судя по фактам, никогда не было.
Я был раздражен. Завидовал людям, у которых все в друзьях, открытые и доброжелательные, устраивают праздники для них, и друзья дарят им свою нежность. У меня же нет настоящих любимых друзей, и не могу их иметь – некого любить, такими могут быть только друзья детства. Что-то тяжелое лежит в центре моей души.
– Это скрипка твоя не настроена, – сказал Старик, угадав мою мысленную фразу.
Удивительно, тот свет, который я искал, в Старике светил без малейшего усилия.
– А ведь жаль – скорбно продолжал профессор. – Как жаль мечты о единстве людей! Не может быть, что нельзя разорвать этот заколдованный порочный круг дурной бесконечности! Тогда какой выход? Разваливается «совковая» совесть, мораль. Но что-то должно держать всех? Быть ценностью спасения, не сиюминутной.
Политолог гнул свое:
– Утопии рушатся, но вечны интересы. Попробуйте вырвать их – и мир обмякнет без скелета. Мы должны извлекать выгоды из своего положения в мире. Иначе нас съедят. Все остальное чушь!
Он почему-то говорил «мы» вместо «я», выдавал свои слова за общие всем. Его неизменно крепкая радость быть влитой в общую правоту мощи государства, которую надо укреплять даже ценой человеческого материала, не принимала слюнтяйские разговоры о добре и любви.
Старик сказал торжественно, тоном проповедника:
– Это и есть главный грех рода человеческого – узость мучения в дурной бесконечности. Здесь источник насилия.
И ласково добавил:
– Но люди лучше, чем о себе думают. В них заложено доверчивое детство, о чем они забыли, и могут сами восстановить это. У племени последнего века появляется расслабление в душе, уже боятся больших войн. Написали закон о защите животных.
Тут, как бы в подтверждение его слов, зашла та симпатичная доктор.
– Как вы себя чувствуете, дедушка? Снимите свою рубаху и ложитесь.
Старик ощутил себя ребенком и с удовольствием повиновался. Задрал балахон, под ним оказались перевитые чистой тканью чресла, как у древних египтян, и смуглые ноги. Она слушала его стетоскопом, постукивала пальцами по телу, заглядывала в зрачки. Старик мурлыкал:
– Власти этого дома добрые. Чистые приходят на эту землю, и все меняется. Воссияет в теле и душе исцеление, которого алкал человеческий род.
Пока доктор бережно касалась его смуглого тела, он продолжал бормотать. Та бесстрастно писала историю болезни.
Капитан про себя радовался: «Говори, говори, старик! наконец, попал в поле зрения закона! Это твое последнее прибежище. Больше не будешь агитировать.
Он вышел – позвонить в родное отделение, и устроил там небольшую потасовку, обвинив задержавший его персонал в сокрытии преступника. Его повязали.
Саид рассказывал о своих делах, до больницы, в городе.
– Хороший был директор строительного управления. Дай аллах ему памяти. Я арендовал у него помещение. Месяц не плачу. Год не плачу. Отчетный год настал. Он говорит: «Давай 300 тысяч». Я не знаю, как платить. Нету. Говорю, давай, дам сто тысяч. Это тебе, как хочешь. И новый договор составим, с этого дня, а тот порвем». Он подумал и говорит: «Давай». Добрый был.
– У тебя, Саид, добрый, кто прощает долги, – заметил я.
– Что ты, что ты! Человечный он.
И продолжал:
– А потом новый пришел, Алексей Иванович. Телефонограмму от него получил, на 10 часов завтра. Что делать, а? Знаю, скажет, отдавай 300. Сутки есть, стал думать. Ничего не придумал. 300, и все. А где взять? Прихожу, говорю секретарше: «Вот телефонограмма». Вижу: портрет, угол черной лентой. Добрый такой. И тут он мне помог, понял я. Алексей Иванович сидит, потом говорит: «Ничего не платишь. Нет квитанции ни одной». «Как, говорю? Все время платил. Он брал, и все. Куда-то девал». «Как?» А тут похороны. Хорошие слова. «Так, – говорю. – Добрый был, брал без расписки». Тот помолчал, махнул рукой.
Завхоз мрачно жевал бутерброд с бужениной.
– Занесли в Россию заразу. Нет теперь России, один восточный базар.
– Что вы плетете? – отвлекался от хождения Дима, из «Своих». – Идет возрождение страны. Слышали о новом мобилизационном проекте?
– Мальчик ты, – сердился завхоз. – Я говорю о чужих, презирают они нас и нашу веру, правильно батюшка говорит.
Завхоз вспыхивал ненавистью к иногородним «чуркам». Неизвестно отчего. Они оскорбляли его глубинную чистоту своим нежеланием жить, как мы. Не пожалеют ни нашей великой реки, ни нашей веры.
– Что ты говоришь, жирный? – спрашивал Саид. – Не человечный ты.
Завхоз ненавидел самодовольство Саида. Сейчас бы дал по морде, разорвал!
– Ты не тот, за кого себя выдаешь!
У Саида суживались глаза, я его не узнавал.
Затравленно оглядывался батюшка.
– Тьфу на вас!
За пределами его тихой обители – церкви, где был темный отвлеченный покой душе, – сотворилось что-то несусветное, противное естеству. И он не выдержал.
– Дьявол победил! Вон, иконы в нашей церкви, аки тати, ночью унесли. Поймали, в виде пьяницы, матом крыл.
Старик встрепенулся.
– Чтобы ушел дьявол, обрати очи твои к светлому. Твой бог – от тесного мира, в котором ты живешь.
– А что же, от татей отвернуться?
– Не злобиться надо, а светом своим отринуть грешных.
– Антихрист соблазняющий!
Политолог нацелился на Старика быстрым глазом.
– Вы мне тоже это впаривали. Непротивление злу насилием? Бороться с преступностью – государственная задача.
– Если ударят по левой щеке – подставь правую. Если не можешь убедить.
Старик деловито пристроился на больничной тумбочке, выводил вечным пером свое «Писание» на свитке – рулоне для факса. Как будто привык писать в любой позиции. Вокруг него молчали с уважением. Только политолог посмеивался.
– Воображает, что это папирус. Для кого ты пишешь, старик?
– В человеческий мозг, по-видимому, встроена способность к переживанию единения. Люди жались друг к другу, чтобы легче было выжить. Эволюционный фактор обеспечивает преимущество за счет стимуляции взаимной щедрости членов рода.
– Есть ли такой адаптивный фактор? – пренебрежительно спросил политолог. – Судя по фактам, никогда не было.
Я был раздражен. Завидовал людям, у которых все в друзьях, открытые и доброжелательные, устраивают праздники для них, и друзья дарят им свою нежность. У меня же нет настоящих любимых друзей, и не могу их иметь – некого любить, такими могут быть только друзья детства. Что-то тяжелое лежит в центре моей души.
– Это скрипка твоя не настроена, – сказал Старик, угадав мою мысленную фразу.
Удивительно, тот свет, который я искал, в Старике светил без малейшего усилия.
– А ведь жаль – скорбно продолжал профессор. – Как жаль мечты о единстве людей! Не может быть, что нельзя разорвать этот заколдованный порочный круг дурной бесконечности! Тогда какой выход? Разваливается «совковая» совесть, мораль. Но что-то должно держать всех? Быть ценностью спасения, не сиюминутной.
Политолог гнул свое:
– Утопии рушатся, но вечны интересы. Попробуйте вырвать их – и мир обмякнет без скелета. Мы должны извлекать выгоды из своего положения в мире. Иначе нас съедят. Все остальное чушь!
Он почему-то говорил «мы» вместо «я», выдавал свои слова за общие всем. Его неизменно крепкая радость быть влитой в общую правоту мощи государства, которую надо укреплять даже ценой человеческого материала, не принимала слюнтяйские разговоры о добре и любви.
Старик сказал торжественно, тоном проповедника:
– Это и есть главный грех рода человеческого – узость мучения в дурной бесконечности. Здесь источник насилия.
И ласково добавил:
– Но люди лучше, чем о себе думают. В них заложено доверчивое детство, о чем они забыли, и могут сами восстановить это. У племени последнего века появляется расслабление в душе, уже боятся больших войн. Написали закон о защите животных.
Тут, как бы в подтверждение его слов, зашла та симпатичная доктор.
– Как вы себя чувствуете, дедушка? Снимите свою рубаху и ложитесь.
Старик ощутил себя ребенком и с удовольствием повиновался. Задрал балахон, под ним оказались перевитые чистой тканью чресла, как у древних египтян, и смуглые ноги. Она слушала его стетоскопом, постукивала пальцами по телу, заглядывала в зрачки. Старик мурлыкал:
– Власти этого дома добрые. Чистые приходят на эту землю, и все меняется. Воссияет в теле и душе исцеление, которого алкал человеческий род.
Пока доктор бережно касалась его смуглого тела, он продолжал бормотать. Та бесстрастно писала историю болезни.
Капитан про себя радовался: «Говори, говори, старик! наконец, попал в поле зрения закона! Это твое последнее прибежище. Больше не будешь агитировать.
Он вышел – позвонить в родное отделение, и устроил там небольшую потасовку, обвинив задержавший его персонал в сокрытии преступника. Его повязали.
Саид рассказывал о своих делах, до больницы, в городе.
– Хороший был директор строительного управления. Дай аллах ему памяти. Я арендовал у него помещение. Месяц не плачу. Год не плачу. Отчетный год настал. Он говорит: «Давай 300 тысяч». Я не знаю, как платить. Нету. Говорю, давай, дам сто тысяч. Это тебе, как хочешь. И новый договор составим, с этого дня, а тот порвем». Он подумал и говорит: «Давай». Добрый был.
– У тебя, Саид, добрый, кто прощает долги, – заметил я.
– Что ты, что ты! Человечный он.
И продолжал:
– А потом новый пришел, Алексей Иванович. Телефонограмму от него получил, на 10 часов завтра. Что делать, а? Знаю, скажет, отдавай 300. Сутки есть, стал думать. Ничего не придумал. 300, и все. А где взять? Прихожу, говорю секретарше: «Вот телефонограмма». Вижу: портрет, угол черной лентой. Добрый такой. И тут он мне помог, понял я. Алексей Иванович сидит, потом говорит: «Ничего не платишь. Нет квитанции ни одной». «Как, говорю? Все время платил. Он брал, и все. Куда-то девал». «Как?» А тут похороны. Хорошие слова. «Так, – говорю. – Добрый был, брал без расписки». Тот помолчал, махнул рукой.
Завхоз мрачно жевал бутерброд с бужениной.
– Занесли в Россию заразу. Нет теперь России, один восточный базар.
– Что вы плетете? – отвлекался от хождения Дима, из «Своих». – Идет возрождение страны. Слышали о новом мобилизационном проекте?
– Мальчик ты, – сердился завхоз. – Я говорю о чужих, презирают они нас и нашу веру, правильно батюшка говорит.
Завхоз вспыхивал ненавистью к иногородним «чуркам». Неизвестно отчего. Они оскорбляли его глубинную чистоту своим нежеланием жить, как мы. Не пожалеют ни нашей великой реки, ни нашей веры.
– Что ты говоришь, жирный? – спрашивал Саид. – Не человечный ты.
Завхоз ненавидел самодовольство Саида. Сейчас бы дал по морде, разорвал!
– Ты не тот, за кого себя выдаешь!
У Саида суживались глаза, я его не узнавал.
Затравленно оглядывался батюшка.
– Тьфу на вас!
За пределами его тихой обители – церкви, где был темный отвлеченный покой душе, – сотворилось что-то несусветное, противное естеству. И он не выдержал.
– Дьявол победил! Вон, иконы в нашей церкви, аки тати, ночью унесли. Поймали, в виде пьяницы, матом крыл.
Старик встрепенулся.
– Чтобы ушел дьявол, обрати очи твои к светлому. Твой бог – от тесного мира, в котором ты живешь.
– А что же, от татей отвернуться?
– Не злобиться надо, а светом своим отринуть грешных.
– Антихрист соблазняющий!
Политолог нацелился на Старика быстрым глазом.
– Вы мне тоже это впаривали. Непротивление злу насилием? Бороться с преступностью – государственная задача.
– Если ударят по левой щеке – подставь правую. Если не можешь убедить.
Старик деловито пристроился на больничной тумбочке, выводил вечным пером свое «Писание» на свитке – рулоне для факса. Как будто привык писать в любой позиции. Вокруг него молчали с уважением. Только политолог посмеивался.
– Воображает, что это папирус. Для кого ты пишешь, старик?