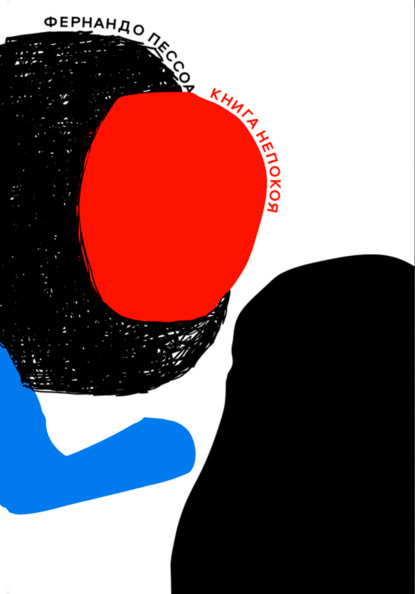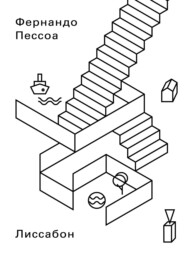По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга непокоя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ночная слава того, кто чувствует себя великим, не будучи никем! Сумрачное величие неведомого великолепия… И вдруг я ощущаю благородство монаха, живущего в пустыни, уединенного отшельника, познавшего сущность Христа в удаленных от мира камнях и пещерах.
И, сидя за столом в моей нелепой комнате, я, никчемный безымянный служащий, пишу слова вроде «спасение души», и меня озаряет золотой свет небывалого заката в высоких, просторных и далеких горах, свет моей статуи, полученной за удовольствия, и кольца отречения на моем евангельском пальце, застывшей жемчужины моего экстатического презрения.
5.
Передо мной – две большие страницы тяжелой книги; я поднимаю от старого письменного стола уставшие глаза – душа устала еще сильнее глаз. Позади заключенного в этом ничтожества – склад, тянущийся до улицы Золотильщиков, ряд одинаковых полок, одинаковые служащие, человеческий порядок и покой заурядности. Из окна доносится шум разнообразия и разнообразный шум – зауряден, как покой, царящий близ полок.
Я опускаю взгляд и смотрю новыми глазами на две белые страницы, на которых мои осторожные цифры обозначили результаты компании. И с улыбкой, которую я таю для себя, я вспоминаю, что жизнь, у которой есть эти страницы с названиями тканей и суммами денег, с пробелами, линиями и строками, включает в себя еще и великих мореплавателей, великих святых, поэтов всех эпох – и не записан никто из них; многочисленные потомки избавляются от тех, кто на самом деле представляет ценность для этого мира.
В самой записи о какой-то ткани, о которой я понятия не имею, передо мной открываются врата Индии и Самарканда, а поэзия Персии, которая не принадлежит ни тому, ни другому месту, создает из своих четверостиший, не зарифмованных в третьем стихе, прочную опору для моего непокоя. Но я не обманываюсь, пишу, складываю, и записи, вносимые служащим этой конторы, текут своим чередом.
6.
Я так мало просил у жизни, но даже в этом малом жизнь мне отказала. Пучок солнечных лучей, поле, кусок покоя с куском хлеба, и чтобы меня не тяготило знание о моем существовании, и чтобы я не требовал ничего от других, и они ничего не требовали от меня. Даже в этом мне было отказано, подобно тому, как кто-то отказывается дать милостыню не потому, что у него черствая душа, а потому, что ему лень расстегивать пиджак.
Я пишу с грустью в моей спокойной комнате, в одиночестве, в котором я всегда пребываю, в одиночестве, в котором я останусь навсегда. И я думаю, не воплощает ли мой голос, кажущийся таким ничтожным, сущность тысяч голосов, жадное желание тысяч жизней высказаться, терпение миллионов душ, подобных моей, подчиненных обыденной судьбе, бесполезной мечте, надежде, не оставляющей следов. В такие мгновения мое сердце бьется сильнее, потому что я его осознаю. Я живу насыщеннее, потому что живу полнее. Я чувствую в себе религиозную силу, своего рода молитву, подобие крика. Но реакция против моей воли нисходит из моего разума… Я вижу себя на высоком пятом этаже на улице Золотильщиков, меня охватывает сон; я вижу на исписанной мною бумаге напрасную жизнь, лишенную красоты, и дешевую сигарету, которую я держу над старой промокашкой. И вот, на этом пятом этаже, я вопрошаю жизнь! Говорю о том, что чувствуют души! Сочиняю прозу, как гении и знаменитости! Здесь, я, вот так!..
7.
Сегодня, в очередной раз предаваясь фантазиям, лишенным цели и достоинства, фантазиям, составляющим значительную часть духовной сущности моей жизни, я вообразил, будто навсегда освободился от улицы Золотильщиков, от шефа Вашкеша, от бухгалтера Морейры, от всех служащих, от посыльного, от мальчика и от кота. Я почувствовал свое освобождение во сне, словно южные моря предложили мне открыть чудесные острова. Тогда наступило бы отдохновение, постижение искусства, умственное воплощение моего существа.
Но вдруг, в моем воображении, во власти которого я пребывал в кафе во время скромного полуденного отдыха, моя греза оказалась во власти неприятного ощущения: я почувствовал, что мне было бы жаль. Да, я говорю это совершенно осознанно: мне было бы жаль. Шефа Вашкеша, бухгалтера Морейру, кассира Боржеша, всех этих славных ребят, веселого посыльного, который относит письма на почту, мальчика на побегушках, ласкового кота – все это стало частью моей жизни; я не смог бы оставить все это без слез, без понимания, что, каким бы дурным мне все это ни казалось, с ними осталась бы часть меня, что расставание с ними было бы подобием смерти, означало бы наполовину умереть.
К тому же, если бы завтра я удалился от всех них и снял с себя этот костюм улицы Золотильщиков, к чему другому я пришел бы – почему это другое должно было бы появиться? в какой другой костюм я облачился бы? – почему я должен был бы облачаться во что-то другое?
У всех нас есть шеф Вашкеш, для одних – видимый, для других – невидимый. Для меня его действительно зовут Вашкеш, это цветущий, приятный мужчина, порой резкий, но лишенный двуличия, эгоистичный, но в глубине души справедливый, обладающий той справедливостью, которой недостает многим великим гениям и многим сотворенным человеком чудесам цивилизации, правой и левой. Другие увидят в нем тщеславие, стремление к еще большему богатству, к славе, к бессмертию… Но я предпочитаю, чтобы моим шефом был такой человек, как Вашкеш, с которым можно договориться в трудную минуту, а не любой абстрактный шеф мира.
На днях один друг, компаньон одной процветающей фирмы, которая ведет дела с государством, считающий, что я мало зарабатываю, сказал мне: «Соареш, тебя эксплуатируют». Мне это напомнило о том, что так и есть; но раз уж в жизни все мы должны подвергаться эксплуатации, я спрашиваю, не лучше ли, чтобы тебя эксплуатировал торговец тканями Вашкеш, а не тщеславие, слава, досада, зависть или недосягаемое.
Есть те, кого эксплуатирует сам Бог, они – пророки и святые в пустынности мира.
И я возвращаюсь, словно к очагу, который есть у других, в чужой дом, в просторную контору на улице Золотильщиков. Я располагаюсь за своим письменным столом, словно за бастионом, укрывающим от жизни. Я испытываю нежность, нежность до слез, к моим книгам, в которые я вношу чуждые мне записи, к старой чернильнице, которой пользуюсь, к согбенной спине Сержиу, который заполняет накладные чуть поодаль от меня. Я испытываю к этому любовь, возможно, потому, что больше мне любить нечего – или, возможно, еще и потому, что ничто не достойно любви души, и если мы должны дарить любовь, нет разницы, дарить ли ее мелкой детали моей чернильницы или бесконечному безразличию звезд.
8.
Шеф Вашкеш. Часто я необъяснимым образом подпадаю под гипноз шефа Вашкеша. Кто для меня этот человек, помимо случайного препятствия, хозяина моих часов в дневное время моей жизни? Он хорошо со мной обращается, любезно разговаривает, за исключением тех резких мгновений, когда он, охваченный неведомым беспокойством, бывает груб со всеми. Да, но почему меня это беспокоит? Он символ? Причина? Кто он?
Шеф Вашкеш. Я уже вспоминаю о нем в будущем с ностальгией, которую я знаю, что буду испытывать. Я буду спокойно жить в небольшом домике где-нибудь в пригороде, наслаждаясь покоем, и не буду делать то, чего не делаю сейчас, и буду искать новые оправдания, чтобы продолжать этого не делать, и они будут отличаться от тех, за которыми я прячусь от себя сегодня. Или меня поместят в приют для нищих, и я буду рад своему полному краху, оказавшись среди сброда тех, кто считал себя гением, но был всего лишь нищим мечтателем, среди безликой толпы тех, у кого не было ни власти, чтобы победить, ни большого самоотречения, чтобы победить, двигаясь от противного. Где бы я ни оказался, я буду с ностальгией вспоминать шефа Вашкеша, контору на улице Золотильщиков, и монотонность повседневной жизни для меня будет походить на воспоминание о любовных историях, которые со мной не случились, или о триумфах, которые не должны были быть моими.
Шеф Вашкеш. Я вижу его оттуда сегодня, как вижу его сегодня отсюда – среднего роста, коренастый, грубоватый, со своей ограниченностью и пристрастиями, честный и хитрый, резкий и обходительный – начальник не только потому, что у него есть деньги, но и по медлительным волосатым рукам с проступающими венами, похожими на маленькие окрашенные мускулы, по его полной, но не толстой шее, по румяным и, в то же время, гладким щекам под темной бородой, которую он всегда вовремя подстригает. Я вижу его, вижу его жесты, полные энергичной медлительности, его глаза, обдумывающие внутри то, что происходит снаружи, меня охватывает смятение, когда он бывает мной недоволен, и душа моя радуется его улыбке, улыбке широкой и человечной, как рукоплескание толпы.
Возможно, все потому, что в моем окружении нет более выдающегося человека, чем шеф Вашкеш, и часто этот обыкновенный и даже заурядный человек застревает у меня в голове и отвлекает меня от меня самого. Я верю, что в нем есть символ. Я верю или почти верю, что где-то, в давно прошедшей жизни этот человек имел в моей жизни большее значение, по сравнению с тем, что имеет теперь.
9.
А, я понял! Шеф Вашкеш – это Жизнь. Жизнь монотонная и необходимая, повелевающая и неизвестная. Этот банальный человек представляет собой банальность Жизни. Для меня он – все, что есть снаружи, потому что жизнь для меня – это все, что есть снаружи. И если контора на улице Золотильщиков представляет для меня жизнь, то этот мой третий этаж, где я живу, на той же улице Золотильщиков, представляет для меня Искусство. Да, эта улица Золотильщиков, по моему разумению, вбирает в себя весь смысл вещей, решение всех загадок, за исключением той, почему загадки существуют – у этой загадки решения быть не может.
10.
Вот такой я, ничтожный и чувствительный, способный на резкие, поглощающие порывы, дурные и хорошие, благородные и подлые, но никогда на длительное чувство, на продолжительные переживания, которые проникают в самую сущность души. Есть во мне склонность немедленно становиться чем-то другим; нетерпеливость души по отношению к самой себе, как по отношению к несвоевременно появившемуся ребенку; непокой, постоянно растущий и всегда одинаковый. Меня все интересует и ничто не увлекает. Любым делом я занимаюсь, погруженный в грезы; я отмечаю малейшие движения лицевых мускулов человека, с которым говорю, собираю мельчайшие интонации его речи; но, слыша его, я его не слушаю, я думаю о чем-то другом и из разговора менее всего ухватываю предмет, о котором говорил я или мой собеседник. Так, я зачастую повторяю кому-то то, что уже ему повторял, снова задаю вопрос, на который он мне уже ответил; но я могу описать четырьмя фотографически точными словами, каким было положение его мускулов, когда он мне говорил то, чего я не помню, или насколько его глаза были предрасположены слушать мой рассказ, хотя я и не помнил, о чем он был. Во мне – два человека, и оба держатся на расстоянии друг от друга, словно несросшиеся сиамские близнецы.
11.
Литания
Мы никогда не осознаем себя.
Мы две бездны – колодец, глядящий на Небо.
12.
Я завидую – хотя и не знаю, завидую ли – тем, о ком можно написать биографию или кто может написать собственную. В этих впечатлениях без связи, без желания их связать я бесстрастно рассказываю свою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя «Исповедь», и если в ней я ничего не говорю, то это потому, что сказать мне нечего.
Что можно рассказать на исповеди ценного или полезного? То, что с нами произошло или произошло со всеми людьми или только с нами; в первом случае это не новость, во втором – недоступно пониманию. Если я пишу, что чувствую, так это потому, что так я ослабляю лихорадку чувствования. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, потому что ничто не имеет значения. Я создаю пейзажи из того, что чувствую. Я устраиваю праздники из ощущений. Я хорошо понимаю тех, кто вышивает из горечи, и тех, кто вяжет, потому что в этом есть жизнь. Моя пожилая тетушка бесконечными вечерами раскладывала пасьянсы. Эта исповедь в том, что я чувствую, есть мой пасьянс. Я не истолковываю их так, как тот, кто обращается к картам, желая узнать судьбу. Я их не прослушиваю, потому что в пасьянсах у самих карт нет ценности. Я разматываю себя, словно разноцветный клубок, или делаю из себя веревочные фигурки, как те, что плетут на расставленных пальцах и что переходят от одних детей к другим. Я слежу только за тем, чтобы большой палец не испортил петлю, которая ему выпадает. Потом переворачиваю руку, и образ оказывается иным. И начинаю заново.
Жить значит вязать и думать о других. Но во время вязания мысль свободна и все зачарованные принцы могут гулять по своим паркам между стежками спицы из слоновой кости с перевернутым крючком. Кружево из явлений… Интервал… Ничего…
Впрочем, на что я могу рассчитывать, имея дело с собой? Ужасная обостренность ощущений и глубокое понимание того, что я чувствую… Острый ум, который меня разрушает, и сила грез, стремящихся меня развлечь… Мертвая воля и размышление, убаюкивающее ее, словно живое дитя… Да, кружево…
13.
Убожеству моего положения не препятствуют спрягаемые слова, при помощи которых я постепенно составляю свою книгу, случайную и продуманную. Я ничтожно живу в основании каждого выражения, словно нерастворимый осадок на дне стакана, из которого пили только воду. Я пишу свою литературу так, как веду свои рабочие записи – старательно и равнодушно. Перед обширным звездным небом и загадкой множества душ, перед ночью неизвестной бездны и плачем от полного непонимания – перед этим всем то, что я записываю во вспомогательной бухгалтерской книге, и то, что я пишу на бумаге души, одинаково ограничивается улицей Золотильщиков и очень мало касается миллионных пространств вселенной.
Все это мечта и фантасмагория, и мало имеет значения, является ли мечта бухгалтерскими записями или приличной прозой. Разве лучше мечтать о принцессах, а не о входной двери конторы? Все, что мы знаем, есть наше впечатление, а все, чем мы являемся, есть чужое впечатление, мелодрама с нашим участием, в которой мы ощущаем себя, становясь своими собственными зрителями, своими богами по разрешению Муниципалитета.
14.
Знать, что будет дурным то дело, которое никогда не будет сделано. Однако еще хуже будет то, что никогда не будет делаться. То, что делается, хотя бы остается сделанным. Пусть оно будет неважным, но оно существует, как чахлое растение в единственной кадке моей парализованной соседки. Ей это растение в радость, а иногда и мне. То, что я пишу и признаю дурным, тоже может подарить мгновения отвлечения от дурного той или другой удрученной или грустной душе. Мне этого достаточно или недостаточно, но в каком-то отношении это полезно, и такова вся жизнь.
Тоска, которая включает в себя лишь предвкушение еще большей тоски; горечь оттого, что завтра будешь испытывать горечь оттого, что испытывал горечь сегодня – огромная путаница без пользы и истины, огромная путаница…
…Там, где, съежившись на скамье ожидания на полустанке, спит мое презрение, укутавшись в пальто моего уныния…
…Мир виденных в грезах образов, из которых в равной степени состоят мои познания и моя жизнь…
Сомнения, охватывающие меня в этот час, меня нисколько не тяготят и длятся недолго. Я жажду расширения времени и хочу существовать без условий.
15.
Я покорил, шаг за шагом, внутреннее пространство, которое с рождения стало моим.
Я вытребовал, клочок за клочком, болото, в котором остался в своем ничтожестве.
Я породил мое бесконечное бытие, но вытащил себя клещами из себя самого.
16.
Я предаюсь фантазиям по дороге между Кашкаишем и Лиссабоном. Я отправился в Кашкаиш, чтобы оплатить взнос шефа Вашкеша за дом, который у него есть в Эшториле. Я заранее предвкушал удовольствие от поездки, час туда, час обратно, от того, как буду смотреть на всегда меняющийся облик большой реки и на место ее впадения в Атлантику. На самом же деле, по дороге туда я забылся в абстрактных размышлениях, глядя на водные пейзажи, которые я с радостью собирался смотреть, но не видя их, а по дороге обратно забылся, осмысляя эти ощущения. Я не смог бы описать даже самую мелкую деталь путешествия, самый мелкий фрагмент того, что можно было увидеть. Я сохранил эти страницы по забвению и из противоречия. Не знаю, лучше это или хуже противоположного, и не знаю, что есть это противоположное.