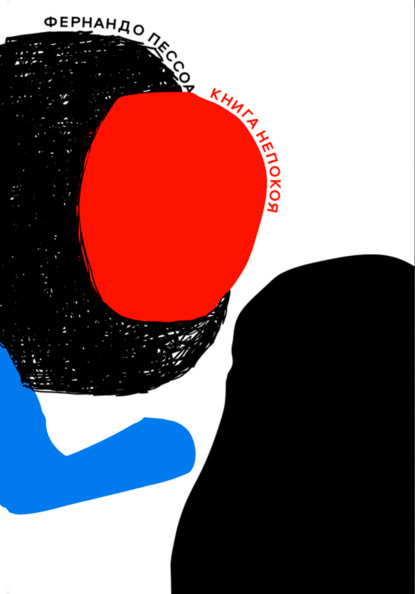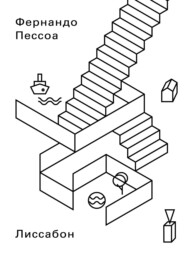По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга непокоя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В это мгновение у меня столько важных мыслей, столько действительно метафизических вещей, которые я должен высказать, что я внезапно устаю и решаю больше не писать, больше не думать, а позволить лихорадке высказывания навеять на меня сон, чтобы я, закрыв глаза, как кот, позабавился всем тем, что я мог бы высказать.
28.
Дуновение музыки или мечты, что-то, что позволяет почти что чувствовать, что-то, что позволяет не думать.
29.
После того как последние капли дождя стали задерживаться на скатах крыш и на замощенной посередине улице постепенно начала отражаться лазурь неба, шум машин зазвучал иначе, громче и веселее, и послышалось, как навстречу вновь появившемуся солнцу открываются окна. Тогда по узкой улице от ближайшего угла пронесся громкий призывный крик первого продавца лотерейных билетов и гвозди, вколоченные в ящики в магазине на углу, заблистали в просвете.
Был непонятный праздничный день, официальный, но не соблюдаемый. Покой и труд сливались воедино, мне было нечего делать. Я встал рано и медлил, готовясь существовать. Ходил по комнате из угла в угол и мечтал вслух о вещах, не связанных друг с другом и невозможных – о жестах, которые забыл сделать, о недосягаемых амбициях, осуществленных без направления, о разговорах, которые были бы обстоятельными и постоянными, если бы состоялись. И в этих фантазиях, лишенных величия и спокойствия, в этой медлительности без надежды и без цели, шагая взад и вперед, я растрачивал свободное утро, а мои громкие слова, произнесенные тихо, многократно отражались в монастыре моего простого уединения.
Мой человеческий облик, когда я смотрел на него извне, был так же смешон, как смешно все человеческое, если оно сокровенно. Поверх простого облачения покинутой мечты я надел старое пальто, которое использую для таких утренних бдений. Мои старые тапочки были протерты, особенно левый. И, сунув руки в карманы посмертного пиджака, я прогуливался по моей комнате, точно по бульвару, широкими решительными шагами, воплощая при помощи бесполезных фантазий мечту, подобную тем, что есть у каждого.
Через открытую прохладу моего единственного окна все еще было слышно, как с крыш капали большие капли, скопившиеся, пока шел дождь. Все еще смутно чувствовалась свежесть выпавшего дождя. Небо, однако, было завораживающе голубым, и тучи, остававшиеся от побежденного или изнемогшего дождя, уступали, проплывая над Замком, всему небу его законное место.
Это был повод для веселья. Но что-то меня угнетало, неведомая тоска, неопределенное и даже незаурядное желание. Возможно, ко мне не спешило ощущение того, что я жив. И, когда я выглянул из очень высокого окна и склонился над улицей, на которую посмотрел, не видя ее, я вдруг почувствовал себя одной из тех влажных тряпок для мытья грязных вещей, оставленных сушиться и забытых скрученными на подоконнике и медленно покрывающих его пятнами.
30.
Я признаю, не знаю, с грустью ли, человеческую черствость моего сердца. Прилагательное для меня ценнее, чем настоящий плач души. Мой учитель Виейра[5 - Антонио Виейра (1608–1697) – португальский иезуит, занимавшийся миссионерской деятельностью в Бразилии и проявивший себя на дипломатическом поприще в Европе. Автор проповедей, которые считаются одними из лучших образцов португальской прозы эпохи барокко.] ‹…›
Но иногда я бываю другим, и у меня выступают слезы, слезы такие горячие, как у тех, у кого нет и не было матери; и мои глаза, пылающие этими мертвыми слезами, пылают внутри моего сердца.
Я не помню моей матери. Она умерла, когда мне был год. Все, что есть разрозненного и жесткого в моей чувствительности, проистекает из отсутствия этого тепла и из бесплодной тоски по поцелуям, которых я не помню. Я ненастоящий. Я всегда просыпался у чужой груди, убаюканный по ошибке.
Ах, меня отвлекает и терзает тоска по другому существу, которым я мог бы стать! Каким другим я был бы, если бы меня одарили той лаской, что идет от чрева и покрывает поцелуями маленькое личико?
Возможно, тоска оттого, что я не сын, сильно влияет на мое равнодушие в области чувств. Тот, кто прижимал меня, ребенка, к лицу, не мог прижать меня к сердцу. Она была далеко, в могиле – та, что принадлежала бы мне, если бы Судьба пожелала, чтобы она мне принадлежала.
Позднее мне сказали, что моя мать была красива, и говорят, что, когда мне это сказали, я ничего не ответил. Я уже сформировался телом и душой, был несведущ в эмоциях, и то, что мне говорили, еще не было новостью других страниц, которые трудно представить.
Мой отец, живший далеко, совершил самоубийство, когда мне было три года, и я его никогда не знал. Я даже не знаю, почему он жил далеко. Меня это никогда не интересовало. Я помню, что его смерть воспринималась с большой серьезностью во время первых трапез после того, как о ней стало известно. Помню, что на меня время от времени посматривали. И я глупо смотрел в ответ. Потом я ел старательнее, потому что, быть может, пока я не видел, на меня продолжали смотреть.
Я – все это, хотя и не хочу этим быть, в смятенной глубине моей роковой чувствительности.
31.
Часы, что находятся там сзади, в опустевшем доме, потому что все спят, медленно роняют четкий четырехкратный звон четырех часов ночи. Я не сомкнул глаз и не надеюсь уснуть. Ничто не отвлекает мое внимание, не давая мне спать, я не чувствую никакой тяжести в теле, которая не давала бы мне успокоиться; и я лежу в тени, которую рассеянный свет уличных фонарей размывает еще сильнее, в бессильной тишине моего чужого тела.
Мне так хочется спать, что у меня не получается думать; и не получается чувствовать оттого, что не могу уснуть.
Все вокруг меня – обнаженная, абстрактная вселенная, сотканная из ночных отрицаний. Я разрываюсь между усталостью и беспокойством и умудряюсь касаться телесным ощущением метафизического познания тайны вещей.
Порой душа моя смягчается, и тогда бесформенные детали повседневной жизни всплывают на поверхность сознания и я веду записи на поверхности моей бессонницы. В другие разы я прихожу в себя от полусна, в котором застыл, и смутные образы, обладающие невольным поэтическим колоритом, пропускают через мою невнимательность свой бесшумный спектакль. Мои глаза закрыты не полностью. Взгляд моих полуприкрытых глаз окаймлен светом, идущим издалека; это уличные фонари там, внизу, на заброшенных окраинах улицы.
Перестать, уснуть, заменить это сознание, в котором чередуются лучшие меланхолические вещи, сказанные тайком тому, кто меня не знает!.. Перестать, легко проскользнуть по пляжу, как прилив и отлив просторного моря на берегах, которые было бы видно той ночью, когда я действительно бы спал!.. Перестать, стать неизвестным и внешним, стать движением ветвей на отдаленных аллеях, мягким опаданием листьев, которое легче узнать по звуку, чем по падению, открытым морем с фонтанами вдали и всей неопределенностью ночных парков, затерянных среди постоянной путаницы, природных темных лабиринтов!.. Перестать, закончить наконец, но метафизически выжить, стать страницей в книге, пучком распущенных волос, колебанием вьюнка под полуоткрытым окном, ничего не значащими шагами по мелкому щебню на повороте улицы, последним уходящим ввысь дымом засыпающей деревни, кнутом кучера, забытым на утренней обочине дороги… Нелепостью, смятением, затуханием – всем тем, в чем нет жизни…
И я по-своему сплю, без сна и отдыха, веду растительную жизнь, заполненную предположениями, и под моими веками, не знающими покоя, витает, словно спокойная пена грязного моря, далекий отблеск немых уличных фонарей.
Сплю и бодрствую.
По другую сторону от меня, позади моей кровати, тишина дома соприкасается с бесконечностью. Я слышу, как падает время, капля за каплей, но не слышу, как падают капли. Мое физическое сердце физически подавляет сведенную к небытию память обо всем том, что было или чем был я. Я чувствую на подушке конкретное местоположение головы, которая продавливает на ней выемку. Ткань наволочки соприкасается с моей кожей так, как люди соприкасаются друг с другом в сумерках. Ухо, на котором я лежу, математически отпечатывается в мозгу. Я моргаю от усталости, и мои ресницы производят очень тихий, неслышный звук на чувствительной белизне высокой подушки. Дышу, вздыхая, и мое дыхание совершается – оно не мое. Я страдаю, не чувствуя и не думая. Домашние часы, занимающие конкретное место там, в глубине вещей, сухо отбивают ничего не значащие полчаса. Столько всего, все так глубоко, все так черно и так холодно!
Я прохожу сквозь времена, прохожу сквозь молчание, бесформенные миры проходят сквозь меня.
Вдруг, словно дитя Тайны, запел петух, не зная, что еще ночь. Я могу уснуть, потому что во мне уже утро. И я чувствую, как улыбается мой рот, слегка надавливая на мягкие складки наволочки, прикасающейся к моему лицу. Я могу отдаться жизни, могу уснуть, могу не замечать себя… И, сквозь новый сон, который затмевает мой разум, то ли я вспоминаю о пропевшем петухе, то ли он на самом деле поет во второй раз.
32.
Симфония беспокойной ночи
Все спало, как если бы вселенная была ошибкой; и ветер, неуверенно колеблясь, был бесформенным флагом, развернутым над несуществующей казармой.
Ничто не разрывалось в холодном и колком воздухе, и оконные рамы сотрясали стекла так, что чувствовался их предел. В глубине всего тихая ночь была усыпальницей Бога (душа страдала от печали Бога).
И вдруг – новый вселенский порядок воцарялся в городе, – ветер свистел в промежутках между своими порывами, и чувствовалось множество движений в вышине. Затем ночь закрывалась, словно дверной глазок, и от глубокого покоя хотелось быть выспавшимся.
33.
В первые дни внезапно пришедшей осени, когда наступление вечера принимает облик чего-то преждевременного и кажется, что на то, что мы делаем днем, уходит много времени, я наслаждаюсь, даже во время повседневной работы, этим предвкушением не-работы, которое приносит с собой тень, из-за того что она – ночь, а ночь – это сон, домашний уют, освобождение. Когда зажигается свет в просторной конторе, и она перестает быть темной, и мы, не переставая работать днем, собираемся задержаться, я испытываю нелепый комфорт как воспоминание о ком-то другом, и мне спокойно оттого, что я пишу, как когда я читаю до тех пор, пока не почувствую, что пора идти спать.
Все мы – рабы внешних обстоятельств: солнечный день открывает перед нами просторные поля посреди скромного кафе в переулке; тень в поле заталкивает нас внутрь самих себя, и мы еле-еле укрываемся в доме без дверей, коим являемся мы сами; наступление ночи, даже среди дневных забот, расширяет, словно медленно раскрывающийся веер, сокровенное осознание необходимости отдохнуть.
Но при этом работа не стопорится, а оживляется. Мы уже не работаем; нам приносят отдых дела, к которым мы прикованы. И вдруг на широком разлинованном листе моей судьбы бухгалтера – старый дом пожилых тетушек, закрытый от мира, угощает чаем в сонные десять часов, и керосиновая лампа моего утраченного детства, освещающая только укрытый льном стол, затемняет своим светом облик Морейры, освещенного черным электричеством бесконечно далеко от меня. Приносят чай – его приносит служанка, которая еще старше тетушек, вместе с остатками сна и с терпеливым дурным настроением, свойственным ласковости давнего подчинения, – и я безошибочно вношу запись или сумму сквозь все свое мертвое прошлое. Я заново поглощаю себя, теряю себя, забываю себя в далеких ночах, не запятнанных обязательствами и миром, девственно чистых перед лицом тайны и будущего.
И так нежно ощущение, отдаляющее меня от дебета и кредита, что, если мне случайно задают вопрос, я отвечаю мягко, как если бы мое существо было полым, как если бы я был всего лишь пишущей машинкой, которую я ношу с собой, как открытое переносное устройство меня самого. Меня не обескураживает прерывание моих грез: они так нежны, что я продолжаю видеть их, говоря, ведя записи, отвечая и даже беседуя. И при всем том остывший чай заканчивается и контора скоро закроется… Я поднимаю от книги, медленно закрывая ее, глаза, уставшие от плача, которого не было, и, обуреваемый смешанными ощущениями, страдаю оттого, что, когда закроется контора, закроется и моя мечта; что в движении руки, которым я закрываю книгу, закрывается непоправимое прошлое; что в постель жизни я отправлюсь один, без сна и без покоя, во власти прилива и отлива моего перемешанного сознания, словно между двумя приливами черной ночи, на исходе судеб, исполненных ностальгии и безысходности.
34.
Иногда я думаю, что никогда не выберусь с улицы Золотильщиков. И когда эти слова написаны, они кажутся мне вечностью.
Не удовольствие, не слава, не власть: свобода, исключительно свобода.
Перейти от призраков веры к привидениям разума означает просто перебраться из одной тюремной камеры в другую. Если искусство освобождает нас от отсутствующих и устаревших идолов, оно освобождает и от щедрых идей и от социальных забот – которые тоже являются идолами.
Найти личность в ее утрате – сама вера укрепляет этот смысл судьбы.
35.
…и глубокое и отвратительное презрение ко всем тем, кто трудится ради человечества, ко всем тем, кто сражается за родину и отдает свою жизнь, чтобы цивилизация продолжалась…
…презрение, исполненное тоски, к тем, кому неведомо, что единственная реальность для каждого – это его собственная душа, а остальное – внешний мир и прочие люди – есть неэстетический кошмар как результат случившегося в мечтах несварения духа.
Моя неприязнь к усилию доходит до почти что жестикулирующего ужаса перед всеми формами резкого усилия. И война, производительный и энергичный труд, помощь другим… Все это кажется мне лишь производным от бесстыдства ‹…›
И перед высшей реальностью моей души все то, что полезно и внешне, кажется мне легкомысленным и заурядным перед верховным и чистым величием моих самых живых и частых грез. Для меня они более реальны.
36.