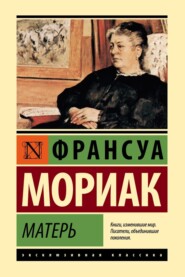По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайна семьи Фронтенак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она говорила и сама чувствовала, как глубоко несправедливы ее упреки – даже удивлялась, почему Ксавье молчит, а тот не возражал, повесил голову, как будто она коснулась какой-то тайной язвы своего деверя. А ведь ему в свою защиту довольно было сказать одно только слово: по смерти Фронтенака-отца, случившейся вскоре вслед за Мишелем, Ксавье отказался от своей доли наследства в пользу детей брата. Сначала Бланш подумала, что он хочет избавиться от докучных хлопот, но нет: напротив, хотя виноградники уже не принадлежали ему, он сам вызвался управлять ими, взять все в свои руки в интересах племянников. Раз в две недели по пятницам в любую погоду он около трех выезжал из Ангулема, в Бордо пересаживался и ехал на поезде до Лангона. На станции его ждала коляска или крытый экипаж, если было холодно.
В двух километрах от городка по большому шоссе, недалеко от Преньяка, экипаж въезжал в ворота, и Ксавье узнавал горький запах старых буксов. Два флигеля, построенных прадедом, бесчестили обитель XVIII столетия, где жили многие поколения Фронтенаков. Он всходил на стоптанные ступени крыльца; его шаги отдавались по плитам; он вдыхал тот запах, которым пахнут старые штофные ткани после зимней сырости. Хотя родители совсем ненамного пережили старшего сына, дом стоял незапертый. В одном из садовых домиков по-прежнему жил садовник. На службе у тети Фелиции, младшей сестры Фронтенака-отца, слабоумной от рождения (говорили, что врач слишком сильно наложил щипцы), были кучер, кухарка и горничная. Прежде всего Ксавье отправлялся к тетушке: в погожие дни она ходила кругами под маркизой, а зимой дремала у камелька в кухне. Его не пугали ни закатившиеся глаза – видны были только белки с прожилками – под кроваво-красными веками, ни перекошенный рот, ни странный юношеский пушок у нее на подбородке. Он ласково и почтительно целовал ее в лоб, ибо это чудище носило имя Фелиция Фронтенак. Она была Фронтенак – родная сестра его отца, старшая в роде. И когда звонил колокол к ужину, он шел к слабоумной, брал ее под руку, провожал в столовую, сажал напротив себя, повязывал ей на шею салфетку. Видел ли он, как еда вываливается из этого жуткого рта? Слышал ли, как она рыгает? После ужина он с теми же церемониями отводил ее обратно и сдавал с рук на руки старой Жаннетте.
Потом Ксавье шел в тот флигель, что выходил окнами на реку и холмы, в огромную спальню, где они много лет жили вместе с Мишелем. Зимой там топили, не переставая, с самого утра. В погожую пору оба окна были растворены, и он смотрел на виноградники, на луга. Запевал и замолкал соловей в рожковых деревьях – там всегда были соловьи. Мишель подростком вставал и слушал их. Ксавье припоминал эту длинную фигуру в белом, свесившуюся в сад. Он, полусонный, кричал ему: «Иди ложись, Мишель, это глупо, простудишься!» Было несколько дней и ночей в году, когда цветущие виноградники пахли резедой… Ксавье открывает том Бальзака, хочет прогнать привидение. Книга выскальзывает у него из рук; он думает о Мишеле и плачет.
Утром, к десяти часам его ожидал экипаж, и до самого вечера он разъезжал по владениям своих племянников. Он проезжал от Серне на болоте, где получается дешевое вино, до Респиде в окрестностях Сент-Круа-дю-Мон, где вино удается почти такое же, как в Сотерне; потом ехал в Куамер на дороге в Кастельжалу: там стада коров приносили одни неприятности.
Повсюду надо было расспрашивать людей, изучать бухгалтерские книги, выводить на чистую воду плутни и хитрости крестьян – а плутовали бы те нещадно, если бы Ксавье Фронтенак не получал каждую неделю по почте анонимные письма. Защитив таким образом интересы детей, он возвращался таким усталым, что только ужинал наскоро и сразу ложился спать. Ему казалось, что он хочет спать, но сон не шел: то вдруг разгорался уголек в камине, сверкал отблеском на полу, на красном дереве кресел; то, по весне, запевал соловей, и тень Мишеля слушала его.
На другое утро, в воскресенье, Ксавье вставал поздно, надевал накрахмаленную рубашку, полосатые панталоны, драповую или альпаковую куртку, на ноги – долгоносые остроконечные ботинки, на голову – котелок или канотье и шел вниз на кладбище. Сторож кланялся Ксавье, как только видел его издали. Все, что мог сделать Ксавье для своих покойников, он делал и гарантировал им благосклонность сторожа бесперебойными чаевыми. Иногда его остроносые ботинки вязли в грязи, иногда их засыпало золой; освященная земля была изрыта кротами. Живой Фронтенак обнажал голову перед Фронтенаками, вернувшимися в прах. Он приходил, хотя сказать или сделать ему было нечего: подобно большинству своих соотечественников, от самых знаменитых до самых безвестных, он был замурован в свой детерминизм, стал пленником вселенной, куда более тесной, чем Аристотелева. И все же он стоял там и держал котелок в левой руке, а правой, из приличия перед лицом смерти, обрывал «волчки» с кустов шиповника.
Днем пятичасовой экспресс увозил его в Бордо. Накупив конфет и пирожных, он звонил в дверь снохи. В коридоре слышалась беготня; дети кричали: «Дядя Ксавье приехал!» Маленькие ручки наперебой хватались за дверной засов. Они цеплялись за его штаны, вырывали у него свертки.
* * *
– Я прошу вас простить меня, Ксавье, – говорила Бланш Фронтенак, спохватившись. – Правда, простите, я не всегда могу сладить с нервами. Вам нет нужды напоминать мне, какой вы дядя для моих малышей…
Он, как обычно, казалось, не слышал – по крайней мере не придавал ее речам никакой важности. Он ходил взад и вперед по комнате, обеими руками приподняв полы куртки, с тревогой таращил глаза и только шептал про себя: «Если не сделаешь всего, не сделаешь ничего…» Бланш опять убедилась, что сейчас затронула в нем что-то самое сокровенное. Она вновь попыталась его утешить: он совершенно не должен, говорила она, жить в Бордо, если предпочитает Ангулем, и торговать лесом на клепки, если ему не по нраву это занятие.
– Я знаю, что контора у вас маленькая, дела в ней немного… – продолжала она.
Он снова взглянул на нее с тоской, словно испугался, что его видят насквозь, а она пыталась его уговаривать, но добилась разве что притворного внимания. Она была бы так рада, если бы он доверился ей, – но перед ней была стена. Со снохой он не разговаривал даже о прошлом, и особенно о Мишеле. Эта дама – мать, опекунша последних Фронтенаков, которую он в этом качестве уважал, оставалась для него девицей Арно-Микё, человеком достойным, но посторонним. Она разочарованно замолчала и опять рассердилась. «Скоро ли он уже пойдет спать?» Он сел опять, поставив локти на тощие ляжки, и стал ворочать кочергой в камине, как будто был один.
– Кстати, – сказал он вдруг, – Жаннетта просит прислать отрез материи: тете Фелиции нужно демисезонное платье.
– А! – ответила Бланш. – Тете Фелиции! – И, обуянная неведомо каким бесом, она сказала: – О ней мы с вами должны серьезно поговорить.
Наконец-то она заставила его вслушаться! Вытаращенные глаза уставились прямо на нее. Куда еще метит эта мрачная женщина, всегда готовая на тебя напасть?
– Признайтесь, нет никакого благоразумия в том, чтобы платить трем слугам и садовнику в услужении несчастной слабоумной, за которой гораздо лучше ходили бы, а главное – следили бы в богадельне…
– Тетю Фелицию – в богадельню?
Она добилась того, что он вышел из себя. Жилки на его щеках из розовых стали лиловыми.
– Пока я жив, – крикнул он писклявым голосом, – никогда тетя Фелиция не уедет из семейного дома! Никогда не будет нарушена воля покойного отца! Он никогда не разлучался с сестрой…
– Полноте! Он уезжал из Преньяка по делам в понедельник, а возвращался из Бордо только в субботу вечером. Ваша покойная матушка должна была одна терпеть тетю Фелицию.
– Она это делала с радостью!.. Вы не знаете законов нашей семьи… она даже и не заикалась… Это же сестра ее мужа…
– Вы так полагаете… а со мной покойница была откровенна… она говорила мне, каково быть целыми годами наедине со слабоумной…
Ксавье в ярости закричал:
– Никогда не поверю, что она жаловалась – тем более вам!
– Дело в том, что свекровь меня признала; она любила меня и не считала меня посторонней.
– Оставим моих родителей, будьте любезны, – отрезал он. – Фронтенаки никогда не касались денежных вопросов, когда речь идет об обязанностях перед родными. Если вы находите половинную долю содержания Преньяка чрезмерным для себя расходом, я готов взять на себя все. Кроме того, вы забываете, что тетя Фелиция имела право на наследство моего деда, с чем мои родители при разделе имущества никогда не считались. Покойный отец, к сожалению, совсем не думал о требованиях закона.
Задетая за живое, Бланш больше и не пыталась скрыть то, что держала в уме с самого начала спора:
– Я хотя и не из Фронтенаков, но дети мои, надеюсь, должны вносить свою долю на содержание двоюродной бабки и даже обеспечивать ей до смешного дорогостоящий образ жизни, которым она пользоваться не в состоянии. У вас такая фантазия – я не спорю. Но я ни за что не допущу, – продолжала она, повысив голос, – чтобы они стали жертвами этой фантазии, чтобы из-за вас их жизнь оказалась испорчена…
Она остановилась, чтобы подготовить эффектную концовку; он не понимал, куда она клонит.
– Неужели вы не боитесь, что об этой слабоумной пойдут толки, что заговорят о ее сумасшествии?
– Вот еще! Да ведь всем известно, что у этой несчастной голова раздавлена щипцами.
– Это было известно всем в Преньяке в пятидесятые годы. Вы думаете, у нынешнего поколения такая долгая память? Нет, дорогой мой, не мечтайте. Имейте мужество посмотреть правде в глаза: вот что вы на себя берете. Вы настаиваете, что тетя Фелиция должна жить в родовом гнезде, хотя в этом доме она никогда не выходит с кухни, чтобы у нее была прислуга, за которой никто не следит, которая, может быть, дурно относится к ней… А платить за это придется тем, что перед детьми вашего брата, когда настанет время женить их, затворятся все двери.
Она одержала победу – и уже сама ее испугалась. Ксавье Фронтенак был убит. Тревогу свою Бланш, конечно, не разыгрывала нарочно. Она уже давно думала, какой опасности подвергаются ее дети из-за тети Фелиции. Но до этого было еще далеко и не так уж, пожалуй, страшно, как она говорила… Ксавье с обычным своим простодушием сложил оружие.
– Об этом я, право, не думал, – вздохнул он. – Простите меня, Бланш, – что до детей, мне всегда не хватает ума…
Он ходил по гостиной, шаркая присогнутыми ногами. Ярость Бланш разом унялась; она уже сама себя ругала за свою победу. «Нет же, – подумала она, – может быть, все еще и уладится. В Бордо про тетю Фелицию никто не знает, жить она будет не вечно, а забудут про нее скоро». Ксавье был мрачен; Бланш сказала ему:
– Впрочем, многие думают, что она в детстве упала – это как раз и есть мнение большинства. Пожалуй, сумасшедшей ее никогда не считали, но могут же так подумать потом… Надобно же предупредить опасность… Не огорчайтесь так, друг мой. Вы же знаете: я увлекаюсь, я все преувеличиваю… Уж такая я есть.
Она расслышала: у Ксавье одышка. Отец и мать его умерли от сердечного приступа. «Я его чуть не убила!» Он снова, сгорбившись, присел к камину. Она совладала с собой, закрыла глаза; длинные иссиня-черные ресницы смягчили ее недружелюбное лицо. Ксавье не подозревал, как, сидя с ним рядом, корила себя эта женщина, как унывала, что не может себя пересилить. Раздался невнятный детский голосок: мальчик бормотал во сне. «Пора спать», – сказал Ксавье; он еще поразмыслит об их сегодняшнем разговоре. Она принялась его уверять, что сразу решать не нужно, успеется…
– Нет-нет, надобно поторопиться: это ведь касается детей.
– Не беспокойтесь же так! – поспешно воскликнула она. – В чем бы я вас ни упрекала, все равно в мире нет другого такого дядюшки…
Он развел руками; должно быть, это значило: «Вы не все знаете»… Да, он и сам упрекал себя – она не знала в чем.
Несколько минут спустя она стояла на коленях и тщетно пыталась обратить свою мысль к молитвам за сродников. К следующему приезду Ксавье она постарается что-нибудь разузнать; это будет непросто: он скрытен со всеми, а с ней больше всех. Сосредоточиться она не могла, а спать пора было уже давно: завтра ей надо будет встать в шесть утра и усадить за уроки Жозе, младшего сына, всегда и во всем последнего ученика, как Жан-Луи во всем был первым. Жозе не глупей своих братьев и не тупей, только у него поразительная способность уйти в себя, ничего не слышать; он из тех детей, кого не пронимают никакие слова, – гений отрешенности. Взрослый видит косное тело, отяжелевшее над разодранными учебниками и тетрадками в кляксах.
А ум их меж тем далеко-далеко, средь высоких июньских трав, у ручейка, на ловле раков… Бланш знала: три четверти часа она будет напрасно биться с полусонным мальчишкой, а в нем внимания, мысли и даже самой жизни будет не больше, чем в брошенной куколке насекомого.
Потом дети уйдут в школу – а ей завтракать или нет? Пожалуй, завтракать: поститься ни к чему. Как ей приступить к причащению после того, как она сегодня вела себя с деверем? Еще надо заехать в банк. Назначена встреча с архитектором по поводу дома на улице Святой Екатерины. Найти время заехать к бедным. У Потена заказать бакалеи для посылки в приют Кающихся. «Я так люблю эту благотворительность…» Вечером, после ужина, когда дети улягутся, она зайдет вниз, к матери. Там будет и сестра, и муж ее. Может быть, еще тетя Адила или аббат Меллон, первый викарий… Есть женщины, которых кто-то любит… Но ей выбирать не приходится. С таким множеством детей жениться на ней можно только по расчету. Нет-нет, она знала, что еще может понравиться… Может случиться; об этом думать не надо. Или она уже начинает помышлять об этом? Только не унывать. Не в ее власти лишить своих малышей хотя бы ничтожной части самой себя; заслуги тут нет – так она сотворена… Уверена: поступи она дурно – заплатят за все они еще в этой жизни… Она знала, что нет причины так думать. Пожизненный приговор – быть прикованной к своим детям. Это не радость. «Больше не женщина… кончено…» Она закрыла руками глаза, провела ладонями по щекам. «Еще не забыть сходить к зубному врачу…»
Кто-то ее позвал: опять Ив! На цыпочках она прошла в его спальню. Он спал, но метался во сне, сбросил одеяло. Худая, как скелет, загорелая ножка свесилась с кровати. Она его укрыла, укутала, а он, отвернувшись к стенке, что-то жалобно бормотал. Она потрогала ему лоб и шею: не горячи ли.
III
Каждые две недели по воскресеньям являлся дядя Ксавье, а сноха его так ни на щелочку и не приоткрыла его секрет. Он приходил к детям, как выходной в первый четверг месяца, как еженедельное причащение, как школьное сочинение с объявлением отметок по пятницам; он был созвездием на их небе, частью того налаженного механизма, в котором, казалось, никаким неожиданностям места нет. Бланш ни о чем другом и мечтать бы не приходилось, если бы только деверь вдруг не замолкал, не расхаживал взад-вперед, не глядел потерянным взором, если бы его круглое лицо не хмурилось от какой-то неотвязной мысли: все это напоминало ей времена, когда она сама чуть не впала в уныние. Да, она, христианка, обнаруживала в этом равнодушном признаки той же болезни, от которой ее исцелил отец де Ноль. В этом она понимала – ей бы хотелось его утешить. Но он не давался. Что ж, она обрела хотя бы ту благодать – и никакой своей заслуги в том не чувствовала, – что уже на него не сердилась, реже искала с ним ссоры. Вот только обращал ли он на усилия Бланш внимание? Прежде она так ревниво относилась к своему авторитету – теперь спрашивала у него совета обо всем, что касалось детей. Согласен ли он, чтобы она купила Жан-Луи – лучшему наезднику в коллеже – верховую лошадь? Нужно ли учить верховой езде Ива, несмотря на то что он лошадей боится? Не выйдет ли больше толка, если Жозе поместить в пансион?
Зажигать камин или даже лампу надобности больше не было. Темно было только в коридоре, по которому Бланш ходила несколько минут перед ужином, читая молитвы по четкам, и тут же Ив, держась двумя пальцами за ее платье, весь предавался великолепным мечтам, в которые никого не впускал. Кричали стрижи. Конка на Эльзасской аллее грохотала так, что ничего не было слышно. Выли сирены в порту, и тот казался ближе, чем на самом деле. Бланш говорила, что от жары дети становятся слабоумными. Они придумывали дурацкие игры: например, оставшись в столовой после обеда, обматывали головы салфетками, а потом забирались в какой-нибудь темный уголок и терли друг другу носы. Они это называли «играть в общежительство».
В июне, в субботу, секрет дяди Ксавье, о котором Бланш уже и думать забыла, внезапно открылся ей, и она бы ни за что не подумала, кто именно его раскроет. Когда дети легли спать, она, по обыкновению, сошла вниз, к матери. В столовой там со стола еще не убрали, пахло клубникой; Бланш прошла через эту комнату и открыла дверь малой гостиной. Госпожа Арно-Микё заполняла собой всю ширину кожаного кресла. Она притянула дочь к себе и жадно, по своему обыкновению, расцеловала ее. На балконе Бланш увидела своего зятя Коссада, свою сестру и большой турнюр тети Адилы – золовки госпожи Арно-Микё. Все они хохотали, громко говорили; их бы слышали все соседи, если бы и те все не кричали во все горло. На улице мальчишки распевали песенку. Тетя Адила увидала Бланш:
– Племянница! Привет, милая!
Коссад прокричал, перекрикивая конку:
В двух километрах от городка по большому шоссе, недалеко от Преньяка, экипаж въезжал в ворота, и Ксавье узнавал горький запах старых буксов. Два флигеля, построенных прадедом, бесчестили обитель XVIII столетия, где жили многие поколения Фронтенаков. Он всходил на стоптанные ступени крыльца; его шаги отдавались по плитам; он вдыхал тот запах, которым пахнут старые штофные ткани после зимней сырости. Хотя родители совсем ненамного пережили старшего сына, дом стоял незапертый. В одном из садовых домиков по-прежнему жил садовник. На службе у тети Фелиции, младшей сестры Фронтенака-отца, слабоумной от рождения (говорили, что врач слишком сильно наложил щипцы), были кучер, кухарка и горничная. Прежде всего Ксавье отправлялся к тетушке: в погожие дни она ходила кругами под маркизой, а зимой дремала у камелька в кухне. Его не пугали ни закатившиеся глаза – видны были только белки с прожилками – под кроваво-красными веками, ни перекошенный рот, ни странный юношеский пушок у нее на подбородке. Он ласково и почтительно целовал ее в лоб, ибо это чудище носило имя Фелиция Фронтенак. Она была Фронтенак – родная сестра его отца, старшая в роде. И когда звонил колокол к ужину, он шел к слабоумной, брал ее под руку, провожал в столовую, сажал напротив себя, повязывал ей на шею салфетку. Видел ли он, как еда вываливается из этого жуткого рта? Слышал ли, как она рыгает? После ужина он с теми же церемониями отводил ее обратно и сдавал с рук на руки старой Жаннетте.
Потом Ксавье шел в тот флигель, что выходил окнами на реку и холмы, в огромную спальню, где они много лет жили вместе с Мишелем. Зимой там топили, не переставая, с самого утра. В погожую пору оба окна были растворены, и он смотрел на виноградники, на луга. Запевал и замолкал соловей в рожковых деревьях – там всегда были соловьи. Мишель подростком вставал и слушал их. Ксавье припоминал эту длинную фигуру в белом, свесившуюся в сад. Он, полусонный, кричал ему: «Иди ложись, Мишель, это глупо, простудишься!» Было несколько дней и ночей в году, когда цветущие виноградники пахли резедой… Ксавье открывает том Бальзака, хочет прогнать привидение. Книга выскальзывает у него из рук; он думает о Мишеле и плачет.
Утром, к десяти часам его ожидал экипаж, и до самого вечера он разъезжал по владениям своих племянников. Он проезжал от Серне на болоте, где получается дешевое вино, до Респиде в окрестностях Сент-Круа-дю-Мон, где вино удается почти такое же, как в Сотерне; потом ехал в Куамер на дороге в Кастельжалу: там стада коров приносили одни неприятности.
Повсюду надо было расспрашивать людей, изучать бухгалтерские книги, выводить на чистую воду плутни и хитрости крестьян – а плутовали бы те нещадно, если бы Ксавье Фронтенак не получал каждую неделю по почте анонимные письма. Защитив таким образом интересы детей, он возвращался таким усталым, что только ужинал наскоро и сразу ложился спать. Ему казалось, что он хочет спать, но сон не шел: то вдруг разгорался уголек в камине, сверкал отблеском на полу, на красном дереве кресел; то, по весне, запевал соловей, и тень Мишеля слушала его.
На другое утро, в воскресенье, Ксавье вставал поздно, надевал накрахмаленную рубашку, полосатые панталоны, драповую или альпаковую куртку, на ноги – долгоносые остроконечные ботинки, на голову – котелок или канотье и шел вниз на кладбище. Сторож кланялся Ксавье, как только видел его издали. Все, что мог сделать Ксавье для своих покойников, он делал и гарантировал им благосклонность сторожа бесперебойными чаевыми. Иногда его остроносые ботинки вязли в грязи, иногда их засыпало золой; освященная земля была изрыта кротами. Живой Фронтенак обнажал голову перед Фронтенаками, вернувшимися в прах. Он приходил, хотя сказать или сделать ему было нечего: подобно большинству своих соотечественников, от самых знаменитых до самых безвестных, он был замурован в свой детерминизм, стал пленником вселенной, куда более тесной, чем Аристотелева. И все же он стоял там и держал котелок в левой руке, а правой, из приличия перед лицом смерти, обрывал «волчки» с кустов шиповника.
Днем пятичасовой экспресс увозил его в Бордо. Накупив конфет и пирожных, он звонил в дверь снохи. В коридоре слышалась беготня; дети кричали: «Дядя Ксавье приехал!» Маленькие ручки наперебой хватались за дверной засов. Они цеплялись за его штаны, вырывали у него свертки.
* * *
– Я прошу вас простить меня, Ксавье, – говорила Бланш Фронтенак, спохватившись. – Правда, простите, я не всегда могу сладить с нервами. Вам нет нужды напоминать мне, какой вы дядя для моих малышей…
Он, как обычно, казалось, не слышал – по крайней мере не придавал ее речам никакой важности. Он ходил взад и вперед по комнате, обеими руками приподняв полы куртки, с тревогой таращил глаза и только шептал про себя: «Если не сделаешь всего, не сделаешь ничего…» Бланш опять убедилась, что сейчас затронула в нем что-то самое сокровенное. Она вновь попыталась его утешить: он совершенно не должен, говорила она, жить в Бордо, если предпочитает Ангулем, и торговать лесом на клепки, если ему не по нраву это занятие.
– Я знаю, что контора у вас маленькая, дела в ней немного… – продолжала она.
Он снова взглянул на нее с тоской, словно испугался, что его видят насквозь, а она пыталась его уговаривать, но добилась разве что притворного внимания. Она была бы так рада, если бы он доверился ей, – но перед ней была стена. Со снохой он не разговаривал даже о прошлом, и особенно о Мишеле. Эта дама – мать, опекунша последних Фронтенаков, которую он в этом качестве уважал, оставалась для него девицей Арно-Микё, человеком достойным, но посторонним. Она разочарованно замолчала и опять рассердилась. «Скоро ли он уже пойдет спать?» Он сел опять, поставив локти на тощие ляжки, и стал ворочать кочергой в камине, как будто был один.
– Кстати, – сказал он вдруг, – Жаннетта просит прислать отрез материи: тете Фелиции нужно демисезонное платье.
– А! – ответила Бланш. – Тете Фелиции! – И, обуянная неведомо каким бесом, она сказала: – О ней мы с вами должны серьезно поговорить.
Наконец-то она заставила его вслушаться! Вытаращенные глаза уставились прямо на нее. Куда еще метит эта мрачная женщина, всегда готовая на тебя напасть?
– Признайтесь, нет никакого благоразумия в том, чтобы платить трем слугам и садовнику в услужении несчастной слабоумной, за которой гораздо лучше ходили бы, а главное – следили бы в богадельне…
– Тетю Фелицию – в богадельню?
Она добилась того, что он вышел из себя. Жилки на его щеках из розовых стали лиловыми.
– Пока я жив, – крикнул он писклявым голосом, – никогда тетя Фелиция не уедет из семейного дома! Никогда не будет нарушена воля покойного отца! Он никогда не разлучался с сестрой…
– Полноте! Он уезжал из Преньяка по делам в понедельник, а возвращался из Бордо только в субботу вечером. Ваша покойная матушка должна была одна терпеть тетю Фелицию.
– Она это делала с радостью!.. Вы не знаете законов нашей семьи… она даже и не заикалась… Это же сестра ее мужа…
– Вы так полагаете… а со мной покойница была откровенна… она говорила мне, каково быть целыми годами наедине со слабоумной…
Ксавье в ярости закричал:
– Никогда не поверю, что она жаловалась – тем более вам!
– Дело в том, что свекровь меня признала; она любила меня и не считала меня посторонней.
– Оставим моих родителей, будьте любезны, – отрезал он. – Фронтенаки никогда не касались денежных вопросов, когда речь идет об обязанностях перед родными. Если вы находите половинную долю содержания Преньяка чрезмерным для себя расходом, я готов взять на себя все. Кроме того, вы забываете, что тетя Фелиция имела право на наследство моего деда, с чем мои родители при разделе имущества никогда не считались. Покойный отец, к сожалению, совсем не думал о требованиях закона.
Задетая за живое, Бланш больше и не пыталась скрыть то, что держала в уме с самого начала спора:
– Я хотя и не из Фронтенаков, но дети мои, надеюсь, должны вносить свою долю на содержание двоюродной бабки и даже обеспечивать ей до смешного дорогостоящий образ жизни, которым она пользоваться не в состоянии. У вас такая фантазия – я не спорю. Но я ни за что не допущу, – продолжала она, повысив голос, – чтобы они стали жертвами этой фантазии, чтобы из-за вас их жизнь оказалась испорчена…
Она остановилась, чтобы подготовить эффектную концовку; он не понимал, куда она клонит.
– Неужели вы не боитесь, что об этой слабоумной пойдут толки, что заговорят о ее сумасшествии?
– Вот еще! Да ведь всем известно, что у этой несчастной голова раздавлена щипцами.
– Это было известно всем в Преньяке в пятидесятые годы. Вы думаете, у нынешнего поколения такая долгая память? Нет, дорогой мой, не мечтайте. Имейте мужество посмотреть правде в глаза: вот что вы на себя берете. Вы настаиваете, что тетя Фелиция должна жить в родовом гнезде, хотя в этом доме она никогда не выходит с кухни, чтобы у нее была прислуга, за которой никто не следит, которая, может быть, дурно относится к ней… А платить за это придется тем, что перед детьми вашего брата, когда настанет время женить их, затворятся все двери.
Она одержала победу – и уже сама ее испугалась. Ксавье Фронтенак был убит. Тревогу свою Бланш, конечно, не разыгрывала нарочно. Она уже давно думала, какой опасности подвергаются ее дети из-за тети Фелиции. Но до этого было еще далеко и не так уж, пожалуй, страшно, как она говорила… Ксавье с обычным своим простодушием сложил оружие.
– Об этом я, право, не думал, – вздохнул он. – Простите меня, Бланш, – что до детей, мне всегда не хватает ума…
Он ходил по гостиной, шаркая присогнутыми ногами. Ярость Бланш разом унялась; она уже сама себя ругала за свою победу. «Нет же, – подумала она, – может быть, все еще и уладится. В Бордо про тетю Фелицию никто не знает, жить она будет не вечно, а забудут про нее скоро». Ксавье был мрачен; Бланш сказала ему:
– Впрочем, многие думают, что она в детстве упала – это как раз и есть мнение большинства. Пожалуй, сумасшедшей ее никогда не считали, но могут же так подумать потом… Надобно же предупредить опасность… Не огорчайтесь так, друг мой. Вы же знаете: я увлекаюсь, я все преувеличиваю… Уж такая я есть.
Она расслышала: у Ксавье одышка. Отец и мать его умерли от сердечного приступа. «Я его чуть не убила!» Он снова, сгорбившись, присел к камину. Она совладала с собой, закрыла глаза; длинные иссиня-черные ресницы смягчили ее недружелюбное лицо. Ксавье не подозревал, как, сидя с ним рядом, корила себя эта женщина, как унывала, что не может себя пересилить. Раздался невнятный детский голосок: мальчик бормотал во сне. «Пора спать», – сказал Ксавье; он еще поразмыслит об их сегодняшнем разговоре. Она принялась его уверять, что сразу решать не нужно, успеется…
– Нет-нет, надобно поторопиться: это ведь касается детей.
– Не беспокойтесь же так! – поспешно воскликнула она. – В чем бы я вас ни упрекала, все равно в мире нет другого такого дядюшки…
Он развел руками; должно быть, это значило: «Вы не все знаете»… Да, он и сам упрекал себя – она не знала в чем.
Несколько минут спустя она стояла на коленях и тщетно пыталась обратить свою мысль к молитвам за сродников. К следующему приезду Ксавье она постарается что-нибудь разузнать; это будет непросто: он скрытен со всеми, а с ней больше всех. Сосредоточиться она не могла, а спать пора было уже давно: завтра ей надо будет встать в шесть утра и усадить за уроки Жозе, младшего сына, всегда и во всем последнего ученика, как Жан-Луи во всем был первым. Жозе не глупей своих братьев и не тупей, только у него поразительная способность уйти в себя, ничего не слышать; он из тех детей, кого не пронимают никакие слова, – гений отрешенности. Взрослый видит косное тело, отяжелевшее над разодранными учебниками и тетрадками в кляксах.
А ум их меж тем далеко-далеко, средь высоких июньских трав, у ручейка, на ловле раков… Бланш знала: три четверти часа она будет напрасно биться с полусонным мальчишкой, а в нем внимания, мысли и даже самой жизни будет не больше, чем в брошенной куколке насекомого.
Потом дети уйдут в школу – а ей завтракать или нет? Пожалуй, завтракать: поститься ни к чему. Как ей приступить к причащению после того, как она сегодня вела себя с деверем? Еще надо заехать в банк. Назначена встреча с архитектором по поводу дома на улице Святой Екатерины. Найти время заехать к бедным. У Потена заказать бакалеи для посылки в приют Кающихся. «Я так люблю эту благотворительность…» Вечером, после ужина, когда дети улягутся, она зайдет вниз, к матери. Там будет и сестра, и муж ее. Может быть, еще тетя Адила или аббат Меллон, первый викарий… Есть женщины, которых кто-то любит… Но ей выбирать не приходится. С таким множеством детей жениться на ней можно только по расчету. Нет-нет, она знала, что еще может понравиться… Может случиться; об этом думать не надо. Или она уже начинает помышлять об этом? Только не унывать. Не в ее власти лишить своих малышей хотя бы ничтожной части самой себя; заслуги тут нет – так она сотворена… Уверена: поступи она дурно – заплатят за все они еще в этой жизни… Она знала, что нет причины так думать. Пожизненный приговор – быть прикованной к своим детям. Это не радость. «Больше не женщина… кончено…» Она закрыла руками глаза, провела ладонями по щекам. «Еще не забыть сходить к зубному врачу…»
Кто-то ее позвал: опять Ив! На цыпочках она прошла в его спальню. Он спал, но метался во сне, сбросил одеяло. Худая, как скелет, загорелая ножка свесилась с кровати. Она его укрыла, укутала, а он, отвернувшись к стенке, что-то жалобно бормотал. Она потрогала ему лоб и шею: не горячи ли.
III
Каждые две недели по воскресеньям являлся дядя Ксавье, а сноха его так ни на щелочку и не приоткрыла его секрет. Он приходил к детям, как выходной в первый четверг месяца, как еженедельное причащение, как школьное сочинение с объявлением отметок по пятницам; он был созвездием на их небе, частью того налаженного механизма, в котором, казалось, никаким неожиданностям места нет. Бланш ни о чем другом и мечтать бы не приходилось, если бы только деверь вдруг не замолкал, не расхаживал взад-вперед, не глядел потерянным взором, если бы его круглое лицо не хмурилось от какой-то неотвязной мысли: все это напоминало ей времена, когда она сама чуть не впала в уныние. Да, она, христианка, обнаруживала в этом равнодушном признаки той же болезни, от которой ее исцелил отец де Ноль. В этом она понимала – ей бы хотелось его утешить. Но он не давался. Что ж, она обрела хотя бы ту благодать – и никакой своей заслуги в том не чувствовала, – что уже на него не сердилась, реже искала с ним ссоры. Вот только обращал ли он на усилия Бланш внимание? Прежде она так ревниво относилась к своему авторитету – теперь спрашивала у него совета обо всем, что касалось детей. Согласен ли он, чтобы она купила Жан-Луи – лучшему наезднику в коллеже – верховую лошадь? Нужно ли учить верховой езде Ива, несмотря на то что он лошадей боится? Не выйдет ли больше толка, если Жозе поместить в пансион?
Зажигать камин или даже лампу надобности больше не было. Темно было только в коридоре, по которому Бланш ходила несколько минут перед ужином, читая молитвы по четкам, и тут же Ив, держась двумя пальцами за ее платье, весь предавался великолепным мечтам, в которые никого не впускал. Кричали стрижи. Конка на Эльзасской аллее грохотала так, что ничего не было слышно. Выли сирены в порту, и тот казался ближе, чем на самом деле. Бланш говорила, что от жары дети становятся слабоумными. Они придумывали дурацкие игры: например, оставшись в столовой после обеда, обматывали головы салфетками, а потом забирались в какой-нибудь темный уголок и терли друг другу носы. Они это называли «играть в общежительство».
В июне, в субботу, секрет дяди Ксавье, о котором Бланш уже и думать забыла, внезапно открылся ей, и она бы ни за что не подумала, кто именно его раскроет. Когда дети легли спать, она, по обыкновению, сошла вниз, к матери. В столовой там со стола еще не убрали, пахло клубникой; Бланш прошла через эту комнату и открыла дверь малой гостиной. Госпожа Арно-Микё заполняла собой всю ширину кожаного кресла. Она притянула дочь к себе и жадно, по своему обыкновению, расцеловала ее. На балконе Бланш увидела своего зятя Коссада, свою сестру и большой турнюр тети Адилы – золовки госпожи Арно-Микё. Все они хохотали, громко говорили; их бы слышали все соседи, если бы и те все не кричали во все горло. На улице мальчишки распевали песенку. Тетя Адила увидала Бланш:
– Племянница! Привет, милая!
Коссад прокричал, перекрикивая конку: