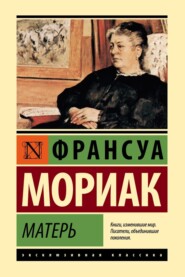По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайна семьи Фронтенак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Разное… Очень понравилось, как сосны освобождают тебя от страданья, кровью вместо тебя исходят, и как тебе ночью кажется, что они ослабели и плачут, но не от них этот плач исходит: то дуновенье моря в стиснутых кронах… О! А особенно это место…
– Смотри-ка, луна! – перебил Ив.
Они не знали, что мартовским вечером 67-го или 68-го года Мишель и Ксавье Фронтенаки шли по той же самой аллее. Ксавье тогда тоже сказал: «Луна!», а Мишель прочитал стих: «Встает – и стелется ее дремотный луч…»[4 - Из сборника В. Гюго «Созерцания».] И в такой же точно тишине текла тогда Юра. Через тридцать с лишним лет вода в ней была другая, но так же точно журчала, а под этими соснами другие братья так же точно любили друг друга.
– Не показать ли их кому-нибудь? – спросил Жан-Луи. – Я подумал, может быть, аббату Пакийону (то был учитель риторики, которого он почитал и любил). Но даже он, боюсь, не поймет: скажет, что это не стихи, а это ведь и вправду не стихи… Я никогда ничего подобного не читал. Они тебя смутят, ты начнешь что-то править… Словом, я подумаю.
Ив целиком предался своему доверию к брату. Мнения Жан-Луи было ему достаточно: он совершенно полагался на него. И вдруг ему стало стыдно, что они говорят только про его стихи:
– А ты как, Жан-Луи? Не станешь торговать досками? Не дашь это над собой сотворить?
– Я все решил: Нормаль… степень по философии… непременно по философии… Кто там в аллее – не мама?
Ей стало страшно, что Ив замерзнет; она принесла ему теплое пальто. Мальчики взяли ее под руки.
– Тяжела я стала на ходу, – сказала она. – А ты в самом деле не кашляешь? Жан-Луи, он при тебе не кашлял?
Их шаги на крыльце разбудили девочек в спальне у террасы. Лампа в бильярдной ударила им в глаза; они заморгали глазами.
Ив, раздеваясь, глядел на луну над неподвижными сосредоточенными соснами. Не было соловья, которого отец Ива слушал в его годы, свесившись из окна над садом в Преньяке. Но здесь, быть может, у совы на сухом суку голос был еще звонче.
V
На другой день Ив не удивился, когда старший брат опять перешел с ним на обычный довольно неприветливый тон, как будто бы никакого секрета между ними не было. Необычной ему показалась та сцена, что была накануне: ведь братьям довольно того, что их, как два побега от одного пня, соединяет общий корень; у них совсем нет привычки объясняться между собой: это самый безмолвный род любви.
В последний день каникул Жан-Луи заставил Ива сесть на Бурю, и лошадь, как всегда, почуяв на своих боках эти робкие ноги, сразу понеслась в галоп. Ив без всякого стыда переполз на круп. Жан-Луи побежал наперерез через сосны и остановился посреди аллеи, скрестив руки. Лошадь разом встала; Ив описал параболу и приземлился задом на кучу песка, а брат его заявил: «Так навсегда тюфяком и останешься».
Это все мальчика не задевало. Только от одного он сильно огорчался, хотя сам себе в этом не признавался: что ни день, Жан-Луи ходил в Леожа к кузенам Казавьей. И в семействе, и в деревне все знали: для Жан-Луи все песчаные дороги ведут в Леожа. Некогда тяжбы поссорили Фронтенаков с семьей Казавьей. После смерти госпожи Казавьей они помирились, но как говорила Бланш, «с ними у нас отношения всегда были прохладные, прохладные»… Впрочем, в первый четверг каждого месяца она вывозила на прогулку Мадлен Казавьей, которая в школе Сердца Христова считалась уже большой. Даниэль и Мари пока что были в младших классах.
Когда Бюрт сказал: «Господин Жан-Луи ходит к ним», госпожу Фронтенак охватили и гордость, и беспокойство. Противоречивые чувства тревожили ее: Бланш боялась, что сын так рано свяжет себя, но хорошо было, что Мадлен в приданое получит кое-что из материнского наследства, а главное – мать надеялась, что ее полный сил мальчик избежит беды благодаря чистому сильному чувству.
Ив же на другой день после той незабываемой прогулки очень огорчился, когда по некоторым словам брата понял, что тот пришел из Леожа: он-то думал, что его тетрадка и то, что Жан-Луи нашел в ней, отвлекут его от прежнего счастья; он-то думал, теперь брату все остальное покажется пошлым… Ив очень просто и ясно представлял себе эту любовь: он воображал томные взгляды, торопливые поцелуи, долгие пожатья рук – словом, романс, а он презирал романсы. Ведь теперь Жан-Луи постиг его тайну, вошел в этот чудесный мир: что же ему надобно в другом?
Девушки, конечно, для маленького Ива уже существовали. На воскресной мессе в Буриде он любовался хористками с длинными шеями, белизну которых оттеняли черные ленты; они стояли вокруг фисгармонии, как на краю бассейна, и воздымали груди, будто наполненные просом и кукурузой. Быстрее билось его сердце, когда малышка Дюбюк, дочь крупного землевладельца, проезжала мимо верхом на молодом конике и черные локоны трепетали на ее худеньких плечиках. Рядом с этой сильфидой до чего грузной казалась Мадлен Казавьей! Огромный бант торчал цветком на ее уложенных шиньоном волосах – Ив сравнивал их с дверным молотком. Она почти всегда носила очень короткое болеро, позволявшее разглядеть располневшую талию, и юбку, очень тесную на сильных бедрах, а книзу расходившуюся. Когда Мадлен Казавьей клала ногу на ногу, видно было, что у нее нет щиколоток. Что нашел Жан-Луи в этой девушке – толстушке с благодушным лицом, на котором никогда не шевелился ни один мускул?
На самом деле и Ив, и его мать, и Бюрт, попади они на эти свидания, очень удивились бы, что там ничего не происходит: как будто Жан-Луи приходил к Огюсту Казавьей, а не к Мадлен. У них была общая страсть: лошади, – и в присутствии старика им всегда было о чем поговорить. Но в деревне покоя нет: вечно явится то поставщик, то издольщик: дверь тут наглухо не запрешь, не то что в городе. Молодые люди всегда боялись той минуты, когда Казавьей-старший оставит их наедине. Благодушие Мадлен обманывало всех, кроме Жана-Луи: быть может, и любил он в ней больше всего как раз это глубинное, незримое для других смятение, которое охватывало невозмутимую с виду девушку всякий раз, как они оказывались вдвоем.
Когда под конец этих каникул Жан-Луи пришел к ним в последний раз, Мадлен пошла с ним под старые безлиственные дубы перед свежеоштукатуренным домом со вздувшимися от старости стенами. Жан-Луи заговорил о том, что будет делать после коллежа. Мадлен слушала его внимательно, как будто его будущее занимало ее не меньше, чем его самого.
– Конечно, напишу диссертацию… Вот увидишь, я не всю жизнь буду учиться… хочу стать профессором в университете…
Она спросила, сколько месяцев он будет заниматься своей диссертацией. Он с жаром ответил: «Тут счет не на месяцы, а на годы!» Перечислил великих философов: в их диссертациях уже заключалось все самое важное в их системах. А ей все эти имена ничего не говорили; она не смела задать ему единственный вопрос, занимавший ее: и пока он не окончит эту работу – так и не женится? Разве лучше писать диссертацию, чем быть женатым?
– Вот если бы мне дали читать лекции в Бордо… но туда очень трудно попасть…
Она довольно легкомысленно перебила его и сказала, что ее отец вполне может устроить его на это место; он сердито возразил: «Не хочу ничего просить у этого жидомасонского правительства». Мадлен закусила губы: ее отец был генеральный советник, умеренный республиканец с одной мыслью в голове: «со всеми ладить»; она с детства привыкла видеть, как отец хлопочет за всех и за вся: в округе не было ни одной маленькой награды, ни одного места почтальона или путевого обходчика, которое получали бы помимо его влияния. Мадлен ругала себя за то, что ранила щепетильность Жан-Луи; теперь, если будет очень нужно, она все сделает так, чтобы он не знал.
В таких разговорах они иногда давали друг другу понять, что, может быть, их жизни когда-нибудь соединятся, но, кроме этого, молодые люди не сделали ни единого вольного жеста, не сказали ни единого нежного слова. И все же когда много лет спустя Жан-Луи вспоминал об этих утренних встречах в Леожа – то была память о неземной радости. Он видел солнечные блики на ручейке с креветками, журчавшем под дубами. В троицкие каникулы он шел следом за Мадлен; их ноги рассекали густую траву, усеянную калужницами и маргаритками: они шли по лугу, как по морю. Прекрасный день клонился к закату; в воздухе летали жуки-дровосеки. И к этой радости никогда не прибавлялась ласка… Она, пожалуй, разрушила бы радость – стала бы для их любви кривым зеркалом. Слова и дела этих мальчика с девочкой не сохраняли отпечатков того огромного, несказанного дива, из-за которого у них под дубами Леожа чуть перехватывало дыхание.
Ив тоже ревновал не как все. Он ревновал не к тому, что Жан-Луи нравится Мадлен: он страдал, потому что кто-то другой вырывал старшего брата из обыденной жизни, что не он один очаровал его. Впрочем, эти порывы гордости не мешали ему уступать и смирению своего возраста: благодаря своей любви Жан-Луи для Ива возвышался в ранг взрослых людей. Семнадцатилетний юноша, влюбленный в девушку, уже не имеет части в том, что происходит в мире существ, еще не ставших мужчинами. На взгляд Ива, стихи, которые он сочинял, причастны были миру детских сказок. Он сам далеко не считал, что «перерос свои годы»: в своих сочинениях он длил видения чутких детских снов и думал, что надо быть ребенком, чтобы играть в эту непонятную игру.
И вот в Бордо, в первый день после каникул, Ив увидел, что напрасно перестал доверять брату. Это случилось в то время и в том месте, где меньше всего можно было бы ждать: когда на станции в Лангоне семья Фронтенак сошла с поезда из Базаса и безуспешно пыталась пересесть на скорый. Бланш бегала по перрону; дети за ней тащили корзинку с кошкой, клетки с птичками, склянку, где сидела лягушка, коробки с «сувенирчиками»: сосновыми шишками, клейкими смолистыми щепками, камушками-кремешками. Семейство с ужасом видело: «на время дороги придется расстаться». Тут к госпоже Фронтенак подошел начальник станции, взял под козырек и сказал, что велит прицепить к поезду еще один вагон второго класса. Так вся семья оказалась в одном купе; трясло, как всегда трясет в конце состава, было душно, но все были очень рады и наперебой спрашивали друг друга: «Что с кошкой?» – «Как лягушка?» – «В порядке ли зонтик?» И вот, когда поезд отъезжал от Кадийяка, Жан-Луи спросил Ива, переписал ли он стихи набело. Конечно, Ив переписал их в красивую тетрадь, но почерка своего он переменить не мог.
– Так дай мне, прямо сегодня вечером; я не гений, но почерк у меня очень разборчивый… Зачем? Дурак, не понял, что ли, что я задумал? Да ты только не кипятись… Мы, может, вот что попробуем: вдруг тебя литераторы поймут; пошлем рукопись в «Меркюр де Франс».
Ив побледнел и только твердил: «Здорово… здорово было бы…» На это Жан-Луи принялся объяснять ему, что губы раскатывать еще рано:
– А ты как думаешь? Они же кучу таких получают каждый день. Может, они даже кидают их в корзинку не читая. Сперва надо, чтоб тебя прочли… а потом, чтобы это попалось на глаза такому дядьке, который соображает. Рассчитывать тут нечего: один шанс из тысячи – все равно что бросить бутылку в море. Мы это сделаем, и ты сразу про это забыл – обещаешь?
Ив твердил: «Конечно, конечно, даже и читать не станут…» Но глаза его блистали надеждой. Волновался: а где найти большой конверт? Сколько марок надо клеить? Жан-Луи пожимал плечами: отправим заказной бандеролью – и вообще это его дело.
В Ботиране вошли пассажиры со множеством корзинок. Пришлось потесниться. Ив увидал одного одноклассника – пансионера из деревни, очень успешного в гимнастике, с которым почти не знался. Они поздоровались. Товарищ смотрел на Бланш, а Ив на его мать и думал, как бы он относился к этой одышливой толстой женщине, будь она его собственной мамой.
VI
Будь Жан-Луи рядом с Ивом в те томительные дни до вручения наград, он бы ему объяснил, что не стоит сходить с ума, ожидая ответа. Но как только возобновились уроки, он принял решение, которое восхитило родню и до крайности разозлило младшего брата. Поскольку Жан-Луи собирался держать экзамен сразу на философский и на естественный факультеты, он добился права поступить в пансион, чтобы не тратить времени на разъезды. С тех пор Ив иначе не называл его, как Муций Сцевола. «Я, – говорил Ив, – ненавижу великодушие». Теперь он остался наедине с собой и думал только о своей рукописи. Каждый вечер, когда приносили почту, он просил у матери ключ от ящика и мчался вниз по лестнице.
И каждый день его утешало ожидание завтрашней почты. Он урезонивал себя: рукописи же не сразу читают, и потом, даже если читавший восхитился стихами, он был обязан еще получить одобрение господина Валетта – директора «Меркюр».
– Смотри-ка, луна! – перебил Ив.
Они не знали, что мартовским вечером 67-го или 68-го года Мишель и Ксавье Фронтенаки шли по той же самой аллее. Ксавье тогда тоже сказал: «Луна!», а Мишель прочитал стих: «Встает – и стелется ее дремотный луч…»[4 - Из сборника В. Гюго «Созерцания».] И в такой же точно тишине текла тогда Юра. Через тридцать с лишним лет вода в ней была другая, но так же точно журчала, а под этими соснами другие братья так же точно любили друг друга.
– Не показать ли их кому-нибудь? – спросил Жан-Луи. – Я подумал, может быть, аббату Пакийону (то был учитель риторики, которого он почитал и любил). Но даже он, боюсь, не поймет: скажет, что это не стихи, а это ведь и вправду не стихи… Я никогда ничего подобного не читал. Они тебя смутят, ты начнешь что-то править… Словом, я подумаю.
Ив целиком предался своему доверию к брату. Мнения Жан-Луи было ему достаточно: он совершенно полагался на него. И вдруг ему стало стыдно, что они говорят только про его стихи:
– А ты как, Жан-Луи? Не станешь торговать досками? Не дашь это над собой сотворить?
– Я все решил: Нормаль… степень по философии… непременно по философии… Кто там в аллее – не мама?
Ей стало страшно, что Ив замерзнет; она принесла ему теплое пальто. Мальчики взяли ее под руки.
– Тяжела я стала на ходу, – сказала она. – А ты в самом деле не кашляешь? Жан-Луи, он при тебе не кашлял?
Их шаги на крыльце разбудили девочек в спальне у террасы. Лампа в бильярдной ударила им в глаза; они заморгали глазами.
Ив, раздеваясь, глядел на луну над неподвижными сосредоточенными соснами. Не было соловья, которого отец Ива слушал в его годы, свесившись из окна над садом в Преньяке. Но здесь, быть может, у совы на сухом суку голос был еще звонче.
V
На другой день Ив не удивился, когда старший брат опять перешел с ним на обычный довольно неприветливый тон, как будто бы никакого секрета между ними не было. Необычной ему показалась та сцена, что была накануне: ведь братьям довольно того, что их, как два побега от одного пня, соединяет общий корень; у них совсем нет привычки объясняться между собой: это самый безмолвный род любви.
В последний день каникул Жан-Луи заставил Ива сесть на Бурю, и лошадь, как всегда, почуяв на своих боках эти робкие ноги, сразу понеслась в галоп. Ив без всякого стыда переполз на круп. Жан-Луи побежал наперерез через сосны и остановился посреди аллеи, скрестив руки. Лошадь разом встала; Ив описал параболу и приземлился задом на кучу песка, а брат его заявил: «Так навсегда тюфяком и останешься».
Это все мальчика не задевало. Только от одного он сильно огорчался, хотя сам себе в этом не признавался: что ни день, Жан-Луи ходил в Леожа к кузенам Казавьей. И в семействе, и в деревне все знали: для Жан-Луи все песчаные дороги ведут в Леожа. Некогда тяжбы поссорили Фронтенаков с семьей Казавьей. После смерти госпожи Казавьей они помирились, но как говорила Бланш, «с ними у нас отношения всегда были прохладные, прохладные»… Впрочем, в первый четверг каждого месяца она вывозила на прогулку Мадлен Казавьей, которая в школе Сердца Христова считалась уже большой. Даниэль и Мари пока что были в младших классах.
Когда Бюрт сказал: «Господин Жан-Луи ходит к ним», госпожу Фронтенак охватили и гордость, и беспокойство. Противоречивые чувства тревожили ее: Бланш боялась, что сын так рано свяжет себя, но хорошо было, что Мадлен в приданое получит кое-что из материнского наследства, а главное – мать надеялась, что ее полный сил мальчик избежит беды благодаря чистому сильному чувству.
Ив же на другой день после той незабываемой прогулки очень огорчился, когда по некоторым словам брата понял, что тот пришел из Леожа: он-то думал, что его тетрадка и то, что Жан-Луи нашел в ней, отвлекут его от прежнего счастья; он-то думал, теперь брату все остальное покажется пошлым… Ив очень просто и ясно представлял себе эту любовь: он воображал томные взгляды, торопливые поцелуи, долгие пожатья рук – словом, романс, а он презирал романсы. Ведь теперь Жан-Луи постиг его тайну, вошел в этот чудесный мир: что же ему надобно в другом?
Девушки, конечно, для маленького Ива уже существовали. На воскресной мессе в Буриде он любовался хористками с длинными шеями, белизну которых оттеняли черные ленты; они стояли вокруг фисгармонии, как на краю бассейна, и воздымали груди, будто наполненные просом и кукурузой. Быстрее билось его сердце, когда малышка Дюбюк, дочь крупного землевладельца, проезжала мимо верхом на молодом конике и черные локоны трепетали на ее худеньких плечиках. Рядом с этой сильфидой до чего грузной казалась Мадлен Казавьей! Огромный бант торчал цветком на ее уложенных шиньоном волосах – Ив сравнивал их с дверным молотком. Она почти всегда носила очень короткое болеро, позволявшее разглядеть располневшую талию, и юбку, очень тесную на сильных бедрах, а книзу расходившуюся. Когда Мадлен Казавьей клала ногу на ногу, видно было, что у нее нет щиколоток. Что нашел Жан-Луи в этой девушке – толстушке с благодушным лицом, на котором никогда не шевелился ни один мускул?
На самом деле и Ив, и его мать, и Бюрт, попади они на эти свидания, очень удивились бы, что там ничего не происходит: как будто Жан-Луи приходил к Огюсту Казавьей, а не к Мадлен. У них была общая страсть: лошади, – и в присутствии старика им всегда было о чем поговорить. Но в деревне покоя нет: вечно явится то поставщик, то издольщик: дверь тут наглухо не запрешь, не то что в городе. Молодые люди всегда боялись той минуты, когда Казавьей-старший оставит их наедине. Благодушие Мадлен обманывало всех, кроме Жана-Луи: быть может, и любил он в ней больше всего как раз это глубинное, незримое для других смятение, которое охватывало невозмутимую с виду девушку всякий раз, как они оказывались вдвоем.
Когда под конец этих каникул Жан-Луи пришел к ним в последний раз, Мадлен пошла с ним под старые безлиственные дубы перед свежеоштукатуренным домом со вздувшимися от старости стенами. Жан-Луи заговорил о том, что будет делать после коллежа. Мадлен слушала его внимательно, как будто его будущее занимало ее не меньше, чем его самого.
– Конечно, напишу диссертацию… Вот увидишь, я не всю жизнь буду учиться… хочу стать профессором в университете…
Она спросила, сколько месяцев он будет заниматься своей диссертацией. Он с жаром ответил: «Тут счет не на месяцы, а на годы!» Перечислил великих философов: в их диссертациях уже заключалось все самое важное в их системах. А ей все эти имена ничего не говорили; она не смела задать ему единственный вопрос, занимавший ее: и пока он не окончит эту работу – так и не женится? Разве лучше писать диссертацию, чем быть женатым?
– Вот если бы мне дали читать лекции в Бордо… но туда очень трудно попасть…
Она довольно легкомысленно перебила его и сказала, что ее отец вполне может устроить его на это место; он сердито возразил: «Не хочу ничего просить у этого жидомасонского правительства». Мадлен закусила губы: ее отец был генеральный советник, умеренный республиканец с одной мыслью в голове: «со всеми ладить»; она с детства привыкла видеть, как отец хлопочет за всех и за вся: в округе не было ни одной маленькой награды, ни одного места почтальона или путевого обходчика, которое получали бы помимо его влияния. Мадлен ругала себя за то, что ранила щепетильность Жан-Луи; теперь, если будет очень нужно, она все сделает так, чтобы он не знал.
В таких разговорах они иногда давали друг другу понять, что, может быть, их жизни когда-нибудь соединятся, но, кроме этого, молодые люди не сделали ни единого вольного жеста, не сказали ни единого нежного слова. И все же когда много лет спустя Жан-Луи вспоминал об этих утренних встречах в Леожа – то была память о неземной радости. Он видел солнечные блики на ручейке с креветками, журчавшем под дубами. В троицкие каникулы он шел следом за Мадлен; их ноги рассекали густую траву, усеянную калужницами и маргаритками: они шли по лугу, как по морю. Прекрасный день клонился к закату; в воздухе летали жуки-дровосеки. И к этой радости никогда не прибавлялась ласка… Она, пожалуй, разрушила бы радость – стала бы для их любви кривым зеркалом. Слова и дела этих мальчика с девочкой не сохраняли отпечатков того огромного, несказанного дива, из-за которого у них под дубами Леожа чуть перехватывало дыхание.
Ив тоже ревновал не как все. Он ревновал не к тому, что Жан-Луи нравится Мадлен: он страдал, потому что кто-то другой вырывал старшего брата из обыденной жизни, что не он один очаровал его. Впрочем, эти порывы гордости не мешали ему уступать и смирению своего возраста: благодаря своей любви Жан-Луи для Ива возвышался в ранг взрослых людей. Семнадцатилетний юноша, влюбленный в девушку, уже не имеет части в том, что происходит в мире существ, еще не ставших мужчинами. На взгляд Ива, стихи, которые он сочинял, причастны были миру детских сказок. Он сам далеко не считал, что «перерос свои годы»: в своих сочинениях он длил видения чутких детских снов и думал, что надо быть ребенком, чтобы играть в эту непонятную игру.
И вот в Бордо, в первый день после каникул, Ив увидел, что напрасно перестал доверять брату. Это случилось в то время и в том месте, где меньше всего можно было бы ждать: когда на станции в Лангоне семья Фронтенак сошла с поезда из Базаса и безуспешно пыталась пересесть на скорый. Бланш бегала по перрону; дети за ней тащили корзинку с кошкой, клетки с птичками, склянку, где сидела лягушка, коробки с «сувенирчиками»: сосновыми шишками, клейкими смолистыми щепками, камушками-кремешками. Семейство с ужасом видело: «на время дороги придется расстаться». Тут к госпоже Фронтенак подошел начальник станции, взял под козырек и сказал, что велит прицепить к поезду еще один вагон второго класса. Так вся семья оказалась в одном купе; трясло, как всегда трясет в конце состава, было душно, но все были очень рады и наперебой спрашивали друг друга: «Что с кошкой?» – «Как лягушка?» – «В порядке ли зонтик?» И вот, когда поезд отъезжал от Кадийяка, Жан-Луи спросил Ива, переписал ли он стихи набело. Конечно, Ив переписал их в красивую тетрадь, но почерка своего он переменить не мог.
– Так дай мне, прямо сегодня вечером; я не гений, но почерк у меня очень разборчивый… Зачем? Дурак, не понял, что ли, что я задумал? Да ты только не кипятись… Мы, может, вот что попробуем: вдруг тебя литераторы поймут; пошлем рукопись в «Меркюр де Франс».
Ив побледнел и только твердил: «Здорово… здорово было бы…» На это Жан-Луи принялся объяснять ему, что губы раскатывать еще рано:
– А ты как думаешь? Они же кучу таких получают каждый день. Может, они даже кидают их в корзинку не читая. Сперва надо, чтоб тебя прочли… а потом, чтобы это попалось на глаза такому дядьке, который соображает. Рассчитывать тут нечего: один шанс из тысячи – все равно что бросить бутылку в море. Мы это сделаем, и ты сразу про это забыл – обещаешь?
Ив твердил: «Конечно, конечно, даже и читать не станут…» Но глаза его блистали надеждой. Волновался: а где найти большой конверт? Сколько марок надо клеить? Жан-Луи пожимал плечами: отправим заказной бандеролью – и вообще это его дело.
В Ботиране вошли пассажиры со множеством корзинок. Пришлось потесниться. Ив увидал одного одноклассника – пансионера из деревни, очень успешного в гимнастике, с которым почти не знался. Они поздоровались. Товарищ смотрел на Бланш, а Ив на его мать и думал, как бы он относился к этой одышливой толстой женщине, будь она его собственной мамой.
VI
Будь Жан-Луи рядом с Ивом в те томительные дни до вручения наград, он бы ему объяснил, что не стоит сходить с ума, ожидая ответа. Но как только возобновились уроки, он принял решение, которое восхитило родню и до крайности разозлило младшего брата. Поскольку Жан-Луи собирался держать экзамен сразу на философский и на естественный факультеты, он добился права поступить в пансион, чтобы не тратить времени на разъезды. С тех пор Ив иначе не называл его, как Муций Сцевола. «Я, – говорил Ив, – ненавижу великодушие». Теперь он остался наедине с собой и думал только о своей рукописи. Каждый вечер, когда приносили почту, он просил у матери ключ от ящика и мчался вниз по лестнице.
И каждый день его утешало ожидание завтрашней почты. Он урезонивал себя: рукописи же не сразу читают, и потом, даже если читавший восхитился стихами, он был обязан еще получить одобрение господина Валетта – директора «Меркюр».