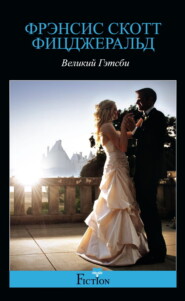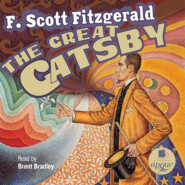По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Богатый мальчик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Богатый мальчик
Френсис Скотт Кэй Фицджеральд
«…Позвольте же мне рассказать вам о самых богатых. Они отличаются от нас с вами. Они рано познают, что такое обладание и удовольствие, и это делает с ними что-то, делает их мягкими там, где мы тверды, и циничными там, где мы полны доверия тем особым образом, который очень трудно понять в том случае, если ты не родился очень, очень богатым. Они считают, глубоко в душе, что они лучше нас, потому что мы должны сами находить и получать что-то хорошее от жизни. Даже когда они глубоко погружаются в наш мир, начиная тонуть в нем, они продолжают считать себя лучше нас. Они другие…»
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Богатый мальчик
Красная книга,(январь и февраль 1926)
I
Начни с особенного, и, не успев этого понять, ты создашь нечто типичное, начни с типичного и не создашь ничего. Все мы слегка чудные, чуднее того, что готовы продемонстрировать кому-либо или самим себе. Когда я слышу человека, объявляющего себя «обычным, честным, открытым малым», я чувствую глубокую уверенность в каком-то определенном и, возможно, ужасном пороке, который он скрывает, и его торжественные заверения в собственной нормальности, и честности, и открытости всего лишь способ напомнить себе об этом укрывательстве.
Так что не существует ничего типичного, ничего обобщенного. Есть богатый мальчик, и это история о нем, а не о ему подобных. Всю свою жизнь я провел среди его собратьев, но только он стал моим другом. Кроме того, если бы я писал о его братьях, я должен был начать с разоблачения всей той лжи, которую бедные говорят про богатых, а богатые сами про себя. Вместе они создали настолько дикую нелепость, что, когда мы берем в руки книгу о богачах, то некий инстинкт готовит нас к чему-то нереальному. Даже самые умные и бесстрастные наблюдатели жизни создали страну богатых настолько же нереальной, как и сказочную страну.
Позвольте же мне рассказать вам о самых богатых. Они отличаются от нас с вами. Они рано познают, что такое обладание и удовольствие, и это делает с ними что-то, делает их мягкими там, где мы тверды, и циничными там, где мы полны доверия тем особым образом, который очень трудно понять в том случае, если ты не родился очень, очень богатым. Они считают, глубоко в душе, что они лучше нас, потому что мы должны сами находить и получать что-то хорошее от жизни. Даже когда они глубоко погружаются в наш мир, начиная тонуть в нем, они продолжают считать себя лучше нас. Они другие. Я могу описать молодого Энсона Хантера единственном способом, представив его чужестранцем, и я буду упрямо держаться за эту точку зрения. Но если я приму его точку зрения хотя бы на мгновение, я пропал – и мне нечего будет показать, кроме нелепого надуманного фильма.
II
Энсон был старшим из шестерых детей, которым было уготовано однажды разделить состояние в 15 миллионов долларов. Сознательного возраста – кажется, это должно быть семь лет – он достиг в начале века, когда бесстрашные молодые женщины уже скользили вдоль Пятой авеню в электромобилях. В те дни у него с братом была английская гувернантка, которая говорила на очень чистом, очень хорошем английском, так что оба мальчика говорили в точности как она – все их слова и предложения были гладкими и чистыми и не бежали вприпрыжку, как у нас. Они не говорили в точности как английские дети, но переняли акцент, присущий великосветским людям, живущим в Нью-Йорке.
Летом всех шестерых детей перевозили из дома на 71-й улице в большое поместье на севере Коннектикута. Это не было модным местечком, отец Энсона хотел познакомить детей с этой стороной жизни как можно позже. Он был человеком, в чем-то превосходившим свое сословие, которое составляло основу нью-йоркского общества, и свое время, полное снобизма и утрированной вульгарности Позолоченного века, и он хотел, чтобы его сыновья усвоили привычку концентрироваться, имели здоровое сложение и выросли правильными успешными людьми. Они с женой приглядывали за сыновьями, пока это было возможно, до того момента, когда двое старших мальчиков отправились в школу – а это вообще довольно затруднительно в больших домах. Намного проще это делать в домах маленьких или средних, наподобие того, в котором прошло мое детство, – я никогда не выходил за пределы слышимости маминого голоса, ощущения ее присутствия, ее одобрения или неодобрения.
Впервые Энсон ощутил свое превосходство, когда увидел отличие в отношении к нему местных жителей. Родители мальчиков, с которыми он играл, всегда спрашивали о его отце и матери и приходили в плохо скрываемый восторг, когда их собственных детей приглашали в дом Хантеров. Он принимал это как естественный порядок вещей, и определенное нетерпение, с которым он относился ко всем компаниям, в которых не занимал центральное место – с точки зрения денег, положения или авторитета, – осталось с ним до конца жизни. К соревнованию с другими за превосходство он относился с презрением, поскольку ожидал, что оно достанется ему само по себе, и когда этого не происходило, он замыкался в своей семье. Ему было достаточно семьи, на Востоке до сих пор деньги были чем-то феодальным, кланообразующим. На снобском Западе деньги разделяли семьи, заставляли их формировать разные слои общества.
Когда Энсон отправился в Нью-Хейвен в восемнадцать, он был высоким юношей крепкого телосложения со здоровым цветом лица, обязанный этим упорядоченной жизни, которую он вел в школе. У него были светлые волосы, растущие в забавном беспорядке, и нос с горбинкой – эти два обстоятельства не позволяли ему заслужить звание красавчика – но у него было обаяние уверенности в себе и слегка грубоватая манера поведения, так что люди из высшего общества, сталкиваясь с ним на улицах, без объяснений узнавали в нем богача и ученика одной из лучших школ. Тем не менее его столь явное превосходство не позволило ему иметь успех в колледже: независимость была принята за эгоизм, а отказ соответствовать стандартам Йеля с надлежащим почтением принижал тех, кто старался им соответствовать. Итак, задолго до выпуска он начал переносить центр своей жизни в Нью-Йорк.
В Нью-Йорке он был дома – там был его личный дом со «слугами, которых вы нынче больше нигде не найдете» – и его собственная семья, в которой благодаря чувству юмора и умению устраивать дела он стремительно становился центром, и вечера дебютанток, и правильный мир мужских клубов, и иногда случающиеся шумные попойки с изысканными девушками, которых Нью-Хэвен видел только с пятого ряда. Его собственные стремления были весьма традиционны – они включали даже безупречную тень женитьбы, которая когда-нибудь случится, – но они отличались от желаний большинства молодых людей тем, что над ними не витал туман идеализма или иллюзий. Энсон полностью принимал мир больших денег и большой экстравагантности, мир разводов и разврата, мир снобизма и привилегий. Жизнь большинства из нас закончится компромиссом – его жизнь с этого началась.
Мы с ним впервые встретились поздним летом 1917 года, когда он только что покинул Йель и, как и большинство из нас, был подхвачен истерией войны. В сине-зеленой форме военно-морской авиации он прибыл в Пенсаколу, где гостиничные оркестры играли «Прости, дорогая», а мы, молодые офицеры, танцевали с девушками. Он всем нравился, и, несмотря на то что он водился с выпивохами и был не самым хорошим пилотом, даже инструкторы относились к нему с определенной долей уважения. Он часто заводил с ними долгие разговоры в своей уверенной логичной манере, разговоры, которые заканчивались тем, что он вытаскивал себя, а чаще другого офицера из какой-то надвигающейся заварушки. Компанейский, пошловатый, алчущий удовольствий – и мы все были изумлены, когда он влюбился в консервативную подходящую девушку.
Ее звали Паула Леджендр, темноволосая серьезная красотка откуда-то из Калифорнии. У ее семьи была зимняя резиденция где-то за пределами города, и, несмотря на свою чопорность, она была невероятно популярна. Существует целая категория мужчин, чей эгоизм не приемлет в женщине чувства юмора. Но Энсон к ним не относился, и я не мог понять притягательности ее «искренности» – это было то, что ее характеризовало, – для его пытливого и в чем-то саркастического ума.
Так или иначе, но они полюбили друг друга – и на ее условиях. Он больше не участвовал в сумеречных посиделках в баре «Де Сот», и, где бы их ни замечали, они всегда были вовлечены в долгий, серьезный разговор, который продолжался уже несколько недель. Много позже он рассказал мне, что эти беседы были не чем иным, как обменом незрелыми и порой бессмысленными утверждениями. Эмоциональное содержание, которое постепенно заполняло эти диалоги, произрастало не из слов, а из невероятной серьезности, с которой их произносили. Это было наподобие гипноза. Часто его прерывали, уступая выхолощенному юмору, который мы называем весельем, но наедине разговор продолжался, торжественный и серьезный настолько, чтобы дать им ощущение единства чувства и мысли. Они стали негодовать из-за любых прерываний, перестали откликаться на комичность жизни и даже на умеренный цинизм своих сверстников. Они были счастливы, только когда диалог продолжался, и купались в его серьезности как в янтарном сиянии открытого пламени. Ближе к концу все же возникала пауза, которой они не противились, и эта пауза была вызвана страстью.
Как это ни странно, Энсон был так же поглощен диалогом, как и она, и так же до глубины души взволнован, но в то же время он понимал, что с его стороны многое не было искренним, а с ее – слишком простым. Поначалу он презирал и ее эмоциональную незрелость тоже, но любовь сделала ее глубже и помогла расцвести, так что ни о каком презрении речи больше не шло. Он чувствовал, что если бы он смог войти в теплую безопасную жизнь Паулы, то был бы счастлив. Долгая подготовка к диалогу исключала любую напряженность, и он научил ее тому, что сам узнал от более авантюрных женщин, и это вызывало у нее поистине священный восторг. Однажды вечером после танцев они решили пожениться, и он написал матери длинное письмо о своей избраннице. На следующий день Паула рассказала, что она богата и владеет состоянием более миллиона долларов.
III
Это было в точности, как если бы они сказали: «У каждого из нас ничего нет, и мы будем бедны вместе», – только, к счастью, они были богаты. У обоих появилось одно и то же ощущение приключения. Тем не менее, кода Энсон должен был уехать в апреле и Паула с матерью сопровождали его на Север, положение его семьи в Нью-Йорке и их образ жизни произвели впечатление. Находясь наедине с Энсоном в комнатах, где он играл мальчиком, она была преисполнена приятным ощущением безопасности и заботы. Фотографии Энсона в шапочке выпускника начальной школы, Энсона верхом с возлюбленной из давно забытого лета, Энсона в толпе шаферов и подружек невесты со свадьбы заставили ее почувствовать ревность к той жизни, которую он вел до встречи с ней, и настолько полно его значительная личность вобрала эти проявления, что ею полностью завладела мысль о незамедлительной свадьбе, чтобы вернуться в Пансаколу уже будучи его женой.
Но о немедленной свадьбе речи не шло, даже помолвка должна оставаться секретом до окончания войны. Когда она осознала, что до конца отпуска осталось всего два дня, ее неудовлетворенность выкристаллизовалась в намерение заставить его чувствовать то же нетерпение, что и она сама. Они ехали на загородный ужин, и она решила поставить вопрос ребром этим же вечером.
С ними в «Ритце» с некоторых пор жила кузина Паулы, закрытая хмурая девушка, которая любила Паулу, но слегка завидовала ее выдающейся помолвке. Пока Паула, опаздывая, одевалась, ее кузина, которая не была приглашена на вечеринку, поймала Энсона в гостиной их номера.
Энсон встречался с друзьями в пять часов, где спокойно и ни от кого не скрываясь выпивал в течение часа. В нужный момент он ушел из Йельского клуба, и шофер его матери отвез его в «Ритц», однако его обычная устойчивость к алкоголю немного подвела, и в жарко натопленной комнате у него внезапно закружилась голова. От осознания этого он удивился и одновременно был смущен.
Кузине Паулы было двадцать пять лет, но она была невероятно наивна и сначала не смогла понять, что происходит. Она никогда не встречалась с Энсоном до этого момента и была ошарашена, когда он стал бормотать что-то несусветное и чуть было не сел мимо стула, но до появления Паулы до нее так и не дошло, что тот запах, который она приняла за запах свежевычищенной униформы, на самом деле был запахом виски. Однако Паула поняла это сразу, как только вошла; и ее единственной мыслью было увести Энсона подальше до того, как ее мать увидит его, кузина догадалась по ее взгляду.
Когда Паула и Энсон наконец добрались до лимузина, внутри обнаружились двое мужчин, оба спали; именно с ними Энсон выпивал в Йельском клубе, и они также намеревались поехать на вечеринку. Он полностью забыл о том, что они в машине. По дороге в Хэмпстед они проснулись и стали петь. Некоторые из песен были довольно грубыми, и хотя Паула и пыталась смириться с тем, что Энсон может позволить себе небольшие словесные злоупотребления, ее губы сжимались от стыда и отвращения.
Кузина, оставшаяся в отеле, смущенная и взволнованная, обдумала случившееся и затем вошла в спальню миссис Леджендр со словами:
– Разве он не забавный?
– Кого ты считаешь забавным?
– Мистера Хантера. А что? Он кажется таким забавным.
Миссис Леджендр пристально на нее посмотрела.
– И что же в нем забавного?
– Он сказал, что он француз. Я этого не знала.
– Это какой-то абсурд. Ты, должно быть, неправильно его поняла. – Она улыбнулась – Это была шутка.
Но кузина упрямо покачала головой.
– Нет. Он сказал, что вырос во Франции. И еще сказал, что не знает ни слова по-английски и поэтому не может разговаривать со мной. И он действительно не мог!
Миссис Леджендр нетерпеливо отвернулась в тот момент, когда кузина задумчиво добавила:
– Однако, возможно, это было из-за того, что он был очень пьян, – и вышла из комнаты.
Этот забавный рассказ, тем не менее, был правдой. Энсон, обнаружив, что не может контролировать свой голос, прибегнул к неожиданному выходу, объявив себя неспособным говорить по-английски. И еще много лет впоследствии он любил пересказывать эту часть истории, и каждый раз она заканчивалась заливистым смехом, который вызывали у него эти воспоминания.
Пять раз в течение следующего часа миссис Леджендр пыталась дозвониться до Хэмпстеда. Когда ей наконец это удалось, пришлось ждать еще десять минут, пока она услышала в трубке голос Паулы.
– Кузина Джо сказала мне, что Энсон нетрезв.
– О нет…
– О да. Кузина Джо сказала именно это. Он назвался ей французом, и упал со стула, и вел себя очень странно. Я не хочу, чтобы ты возвращалась домой с ним.
– Мама, он в полном порядке. Пожалуйста, не волнуйся о…
– Но я волнуюсь. Я думаю, это все ужасно. Я хочу, чтобы ты пообещала мне не приходить с ним домой.
– Я позабочусь обо всем, мама.
– Я не хочу, чтобы ты возвращалась с ним домой.
– Хорошо, мама. До свидания.
– Будь осторожна, Паула. Попроси кого-нибудь проводить тебя.
Паула медленно отодвинула трубку от уха и положила ее на рычаг. На ее лице появилось выражение безнадежной досады. Энсон спал мертвецким сном в одной из спален наверху, в то время как ужин внизу с грехом пополам подходил к концу.
Френсис Скотт Кэй Фицджеральд
«…Позвольте же мне рассказать вам о самых богатых. Они отличаются от нас с вами. Они рано познают, что такое обладание и удовольствие, и это делает с ними что-то, делает их мягкими там, где мы тверды, и циничными там, где мы полны доверия тем особым образом, который очень трудно понять в том случае, если ты не родился очень, очень богатым. Они считают, глубоко в душе, что они лучше нас, потому что мы должны сами находить и получать что-то хорошее от жизни. Даже когда они глубоко погружаются в наш мир, начиная тонуть в нем, они продолжают считать себя лучше нас. Они другие…»
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Богатый мальчик
Красная книга,(январь и февраль 1926)
I
Начни с особенного, и, не успев этого понять, ты создашь нечто типичное, начни с типичного и не создашь ничего. Все мы слегка чудные, чуднее того, что готовы продемонстрировать кому-либо или самим себе. Когда я слышу человека, объявляющего себя «обычным, честным, открытым малым», я чувствую глубокую уверенность в каком-то определенном и, возможно, ужасном пороке, который он скрывает, и его торжественные заверения в собственной нормальности, и честности, и открытости всего лишь способ напомнить себе об этом укрывательстве.
Так что не существует ничего типичного, ничего обобщенного. Есть богатый мальчик, и это история о нем, а не о ему подобных. Всю свою жизнь я провел среди его собратьев, но только он стал моим другом. Кроме того, если бы я писал о его братьях, я должен был начать с разоблачения всей той лжи, которую бедные говорят про богатых, а богатые сами про себя. Вместе они создали настолько дикую нелепость, что, когда мы берем в руки книгу о богачах, то некий инстинкт готовит нас к чему-то нереальному. Даже самые умные и бесстрастные наблюдатели жизни создали страну богатых настолько же нереальной, как и сказочную страну.
Позвольте же мне рассказать вам о самых богатых. Они отличаются от нас с вами. Они рано познают, что такое обладание и удовольствие, и это делает с ними что-то, делает их мягкими там, где мы тверды, и циничными там, где мы полны доверия тем особым образом, который очень трудно понять в том случае, если ты не родился очень, очень богатым. Они считают, глубоко в душе, что они лучше нас, потому что мы должны сами находить и получать что-то хорошее от жизни. Даже когда они глубоко погружаются в наш мир, начиная тонуть в нем, они продолжают считать себя лучше нас. Они другие. Я могу описать молодого Энсона Хантера единственном способом, представив его чужестранцем, и я буду упрямо держаться за эту точку зрения. Но если я приму его точку зрения хотя бы на мгновение, я пропал – и мне нечего будет показать, кроме нелепого надуманного фильма.
II
Энсон был старшим из шестерых детей, которым было уготовано однажды разделить состояние в 15 миллионов долларов. Сознательного возраста – кажется, это должно быть семь лет – он достиг в начале века, когда бесстрашные молодые женщины уже скользили вдоль Пятой авеню в электромобилях. В те дни у него с братом была английская гувернантка, которая говорила на очень чистом, очень хорошем английском, так что оба мальчика говорили в точности как она – все их слова и предложения были гладкими и чистыми и не бежали вприпрыжку, как у нас. Они не говорили в точности как английские дети, но переняли акцент, присущий великосветским людям, живущим в Нью-Йорке.
Летом всех шестерых детей перевозили из дома на 71-й улице в большое поместье на севере Коннектикута. Это не было модным местечком, отец Энсона хотел познакомить детей с этой стороной жизни как можно позже. Он был человеком, в чем-то превосходившим свое сословие, которое составляло основу нью-йоркского общества, и свое время, полное снобизма и утрированной вульгарности Позолоченного века, и он хотел, чтобы его сыновья усвоили привычку концентрироваться, имели здоровое сложение и выросли правильными успешными людьми. Они с женой приглядывали за сыновьями, пока это было возможно, до того момента, когда двое старших мальчиков отправились в школу – а это вообще довольно затруднительно в больших домах. Намного проще это делать в домах маленьких или средних, наподобие того, в котором прошло мое детство, – я никогда не выходил за пределы слышимости маминого голоса, ощущения ее присутствия, ее одобрения или неодобрения.
Впервые Энсон ощутил свое превосходство, когда увидел отличие в отношении к нему местных жителей. Родители мальчиков, с которыми он играл, всегда спрашивали о его отце и матери и приходили в плохо скрываемый восторг, когда их собственных детей приглашали в дом Хантеров. Он принимал это как естественный порядок вещей, и определенное нетерпение, с которым он относился ко всем компаниям, в которых не занимал центральное место – с точки зрения денег, положения или авторитета, – осталось с ним до конца жизни. К соревнованию с другими за превосходство он относился с презрением, поскольку ожидал, что оно достанется ему само по себе, и когда этого не происходило, он замыкался в своей семье. Ему было достаточно семьи, на Востоке до сих пор деньги были чем-то феодальным, кланообразующим. На снобском Западе деньги разделяли семьи, заставляли их формировать разные слои общества.
Когда Энсон отправился в Нью-Хейвен в восемнадцать, он был высоким юношей крепкого телосложения со здоровым цветом лица, обязанный этим упорядоченной жизни, которую он вел в школе. У него были светлые волосы, растущие в забавном беспорядке, и нос с горбинкой – эти два обстоятельства не позволяли ему заслужить звание красавчика – но у него было обаяние уверенности в себе и слегка грубоватая манера поведения, так что люди из высшего общества, сталкиваясь с ним на улицах, без объяснений узнавали в нем богача и ученика одной из лучших школ. Тем не менее его столь явное превосходство не позволило ему иметь успех в колледже: независимость была принята за эгоизм, а отказ соответствовать стандартам Йеля с надлежащим почтением принижал тех, кто старался им соответствовать. Итак, задолго до выпуска он начал переносить центр своей жизни в Нью-Йорк.
В Нью-Йорке он был дома – там был его личный дом со «слугами, которых вы нынче больше нигде не найдете» – и его собственная семья, в которой благодаря чувству юмора и умению устраивать дела он стремительно становился центром, и вечера дебютанток, и правильный мир мужских клубов, и иногда случающиеся шумные попойки с изысканными девушками, которых Нью-Хэвен видел только с пятого ряда. Его собственные стремления были весьма традиционны – они включали даже безупречную тень женитьбы, которая когда-нибудь случится, – но они отличались от желаний большинства молодых людей тем, что над ними не витал туман идеализма или иллюзий. Энсон полностью принимал мир больших денег и большой экстравагантности, мир разводов и разврата, мир снобизма и привилегий. Жизнь большинства из нас закончится компромиссом – его жизнь с этого началась.
Мы с ним впервые встретились поздним летом 1917 года, когда он только что покинул Йель и, как и большинство из нас, был подхвачен истерией войны. В сине-зеленой форме военно-морской авиации он прибыл в Пенсаколу, где гостиничные оркестры играли «Прости, дорогая», а мы, молодые офицеры, танцевали с девушками. Он всем нравился, и, несмотря на то что он водился с выпивохами и был не самым хорошим пилотом, даже инструкторы относились к нему с определенной долей уважения. Он часто заводил с ними долгие разговоры в своей уверенной логичной манере, разговоры, которые заканчивались тем, что он вытаскивал себя, а чаще другого офицера из какой-то надвигающейся заварушки. Компанейский, пошловатый, алчущий удовольствий – и мы все были изумлены, когда он влюбился в консервативную подходящую девушку.
Ее звали Паула Леджендр, темноволосая серьезная красотка откуда-то из Калифорнии. У ее семьи была зимняя резиденция где-то за пределами города, и, несмотря на свою чопорность, она была невероятно популярна. Существует целая категория мужчин, чей эгоизм не приемлет в женщине чувства юмора. Но Энсон к ним не относился, и я не мог понять притягательности ее «искренности» – это было то, что ее характеризовало, – для его пытливого и в чем-то саркастического ума.
Так или иначе, но они полюбили друг друга – и на ее условиях. Он больше не участвовал в сумеречных посиделках в баре «Де Сот», и, где бы их ни замечали, они всегда были вовлечены в долгий, серьезный разговор, который продолжался уже несколько недель. Много позже он рассказал мне, что эти беседы были не чем иным, как обменом незрелыми и порой бессмысленными утверждениями. Эмоциональное содержание, которое постепенно заполняло эти диалоги, произрастало не из слов, а из невероятной серьезности, с которой их произносили. Это было наподобие гипноза. Часто его прерывали, уступая выхолощенному юмору, который мы называем весельем, но наедине разговор продолжался, торжественный и серьезный настолько, чтобы дать им ощущение единства чувства и мысли. Они стали негодовать из-за любых прерываний, перестали откликаться на комичность жизни и даже на умеренный цинизм своих сверстников. Они были счастливы, только когда диалог продолжался, и купались в его серьезности как в янтарном сиянии открытого пламени. Ближе к концу все же возникала пауза, которой они не противились, и эта пауза была вызвана страстью.
Как это ни странно, Энсон был так же поглощен диалогом, как и она, и так же до глубины души взволнован, но в то же время он понимал, что с его стороны многое не было искренним, а с ее – слишком простым. Поначалу он презирал и ее эмоциональную незрелость тоже, но любовь сделала ее глубже и помогла расцвести, так что ни о каком презрении речи больше не шло. Он чувствовал, что если бы он смог войти в теплую безопасную жизнь Паулы, то был бы счастлив. Долгая подготовка к диалогу исключала любую напряженность, и он научил ее тому, что сам узнал от более авантюрных женщин, и это вызывало у нее поистине священный восторг. Однажды вечером после танцев они решили пожениться, и он написал матери длинное письмо о своей избраннице. На следующий день Паула рассказала, что она богата и владеет состоянием более миллиона долларов.
III
Это было в точности, как если бы они сказали: «У каждого из нас ничего нет, и мы будем бедны вместе», – только, к счастью, они были богаты. У обоих появилось одно и то же ощущение приключения. Тем не менее, кода Энсон должен был уехать в апреле и Паула с матерью сопровождали его на Север, положение его семьи в Нью-Йорке и их образ жизни произвели впечатление. Находясь наедине с Энсоном в комнатах, где он играл мальчиком, она была преисполнена приятным ощущением безопасности и заботы. Фотографии Энсона в шапочке выпускника начальной школы, Энсона верхом с возлюбленной из давно забытого лета, Энсона в толпе шаферов и подружек невесты со свадьбы заставили ее почувствовать ревность к той жизни, которую он вел до встречи с ней, и настолько полно его значительная личность вобрала эти проявления, что ею полностью завладела мысль о незамедлительной свадьбе, чтобы вернуться в Пансаколу уже будучи его женой.
Но о немедленной свадьбе речи не шло, даже помолвка должна оставаться секретом до окончания войны. Когда она осознала, что до конца отпуска осталось всего два дня, ее неудовлетворенность выкристаллизовалась в намерение заставить его чувствовать то же нетерпение, что и она сама. Они ехали на загородный ужин, и она решила поставить вопрос ребром этим же вечером.
С ними в «Ритце» с некоторых пор жила кузина Паулы, закрытая хмурая девушка, которая любила Паулу, но слегка завидовала ее выдающейся помолвке. Пока Паула, опаздывая, одевалась, ее кузина, которая не была приглашена на вечеринку, поймала Энсона в гостиной их номера.
Энсон встречался с друзьями в пять часов, где спокойно и ни от кого не скрываясь выпивал в течение часа. В нужный момент он ушел из Йельского клуба, и шофер его матери отвез его в «Ритц», однако его обычная устойчивость к алкоголю немного подвела, и в жарко натопленной комнате у него внезапно закружилась голова. От осознания этого он удивился и одновременно был смущен.
Кузине Паулы было двадцать пять лет, но она была невероятно наивна и сначала не смогла понять, что происходит. Она никогда не встречалась с Энсоном до этого момента и была ошарашена, когда он стал бормотать что-то несусветное и чуть было не сел мимо стула, но до появления Паулы до нее так и не дошло, что тот запах, который она приняла за запах свежевычищенной униформы, на самом деле был запахом виски. Однако Паула поняла это сразу, как только вошла; и ее единственной мыслью было увести Энсона подальше до того, как ее мать увидит его, кузина догадалась по ее взгляду.
Когда Паула и Энсон наконец добрались до лимузина, внутри обнаружились двое мужчин, оба спали; именно с ними Энсон выпивал в Йельском клубе, и они также намеревались поехать на вечеринку. Он полностью забыл о том, что они в машине. По дороге в Хэмпстед они проснулись и стали петь. Некоторые из песен были довольно грубыми, и хотя Паула и пыталась смириться с тем, что Энсон может позволить себе небольшие словесные злоупотребления, ее губы сжимались от стыда и отвращения.
Кузина, оставшаяся в отеле, смущенная и взволнованная, обдумала случившееся и затем вошла в спальню миссис Леджендр со словами:
– Разве он не забавный?
– Кого ты считаешь забавным?
– Мистера Хантера. А что? Он кажется таким забавным.
Миссис Леджендр пристально на нее посмотрела.
– И что же в нем забавного?
– Он сказал, что он француз. Я этого не знала.
– Это какой-то абсурд. Ты, должно быть, неправильно его поняла. – Она улыбнулась – Это была шутка.
Но кузина упрямо покачала головой.
– Нет. Он сказал, что вырос во Франции. И еще сказал, что не знает ни слова по-английски и поэтому не может разговаривать со мной. И он действительно не мог!
Миссис Леджендр нетерпеливо отвернулась в тот момент, когда кузина задумчиво добавила:
– Однако, возможно, это было из-за того, что он был очень пьян, – и вышла из комнаты.
Этот забавный рассказ, тем не менее, был правдой. Энсон, обнаружив, что не может контролировать свой голос, прибегнул к неожиданному выходу, объявив себя неспособным говорить по-английски. И еще много лет впоследствии он любил пересказывать эту часть истории, и каждый раз она заканчивалась заливистым смехом, который вызывали у него эти воспоминания.
Пять раз в течение следующего часа миссис Леджендр пыталась дозвониться до Хэмпстеда. Когда ей наконец это удалось, пришлось ждать еще десять минут, пока она услышала в трубке голос Паулы.
– Кузина Джо сказала мне, что Энсон нетрезв.
– О нет…
– О да. Кузина Джо сказала именно это. Он назвался ей французом, и упал со стула, и вел себя очень странно. Я не хочу, чтобы ты возвращалась домой с ним.
– Мама, он в полном порядке. Пожалуйста, не волнуйся о…
– Но я волнуюсь. Я думаю, это все ужасно. Я хочу, чтобы ты пообещала мне не приходить с ним домой.
– Я позабочусь обо всем, мама.
– Я не хочу, чтобы ты возвращалась с ним домой.
– Хорошо, мама. До свидания.
– Будь осторожна, Паула. Попроси кого-нибудь проводить тебя.
Паула медленно отодвинула трубку от уха и положила ее на рычаг. На ее лице появилось выражение безнадежной досады. Энсон спал мертвецким сном в одной из спален наверху, в то время как ужин внизу с грехом пополам подходил к концу.