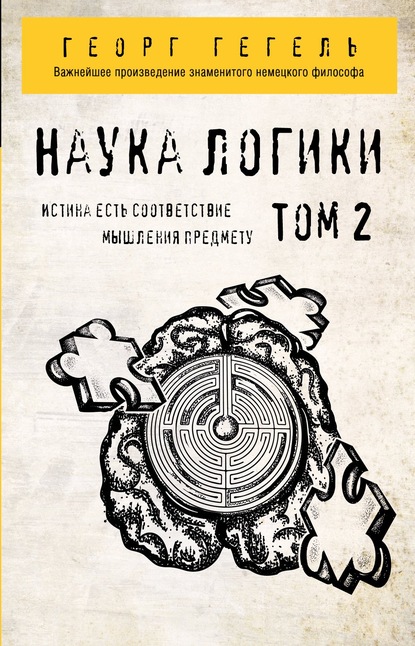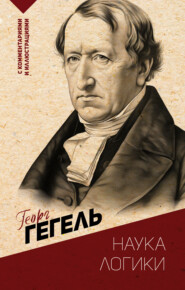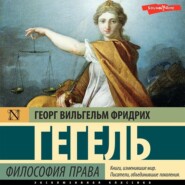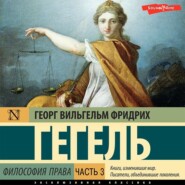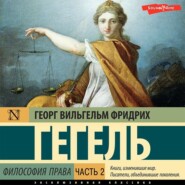По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наука логики. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наука логики. Том 2
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Философия в кармане
Георг Гегель – один из основоположников немецкой классической философии, создатель учения, построенного на принципах «абсолютного идеализма», диалектики, системности, историзма. Важнейшее место в его научной деятельности занимает произведение «Наука логики», в котором философ определяет основную задачу логики, исследует пути, ведущие к истине, а также развитие этих путей. Во второй том мы включили третью часть знаменитого труда – «Учение о понятии», в которую вошли три главных раздела: «Субъективность», «Объективность», «Идея».
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Георг Гегель
Наука логики. Том 2
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
III. Учение о понятии
Предисловие
Эта часть логики, содержащая в себе учение о понятии и составляющая третью часть целого, выпускается под особым названием «Система субъективной логики»; мы это делаем для удобства тех друзей этой науки, которые привыкли более интересоваться рассматриваемыми здесь материями, входящими в состав обычной так называемой логики, чем теми дальнейшими логическими предметами, о которых мы трактовали в первых двух частях. По отношению к предыдущим частям я мог притязать на снисхождение справедливых судей ввиду малого числа подготовительных работ, которые могли бы доставить мне опору, материалы и путеводную нить для движения вперед. Выпуская настоящую часть, я смею притязать на снисхождение скорее по противоположному основанию, так как для логики понятия имеется налицо вполне готовый и отвердевший, можно сказать, окостеневший материал, и задача состоит в том, чтобы привести его в текучее состояние и снова возжечь живое понятие в таком мертвом материале. Если имеются свои трудности в предприятии построить в пустынной местности новый город, то в тех случаях, когда дело идет о новой распланировке старого, прочно построенного города, сохранившегося благодаря тому, что он никогда не оставался бесхозяйным и необитаемым, нет, правда, недостатка в материале, но зато встречаются тем большие препятствия другого рода; при этом приходится, между прочим, решиться не делать никакого употребления из значительной части того готового материала, который, вообще говоря, признается ценным.
Но в первую очередь я должен сослаться в качестве извинения несовершенства выполнения на величие самого предмета. Ибо какой предмет возвышеннее для познания, чем сама истина[1 - «Понятие» рассматривается Гегелем как та «конкретная тотальность» определений мысли или то «целое», которое и составляет истину, согласно известному положению Гегеля о том, что «das Wahre ist das Ganze», причем это «целое» мыслится у Гегеля как некоторый процесс самостановления, как некоторое развитие или развертывание (см. Предисловие к «Феноменологии духа», стр. 14 в немецком издании Лассона; стр. 8 в русском переводе под ред. Радлова). Поэтому именно здесь, в предисловии к «Учению о понятии», Гегель и определяет предмет логики как самоё истину (die Wahrheit selbst). Ср. замечание Энгельса о том, что Гегель в ряде своих произведений, и в особенности в «Логике», подчеркивает, что истина есть процесс (Engels, L. Feuerbach, Moskau 1932, S. 19).Немецкое слово «Begriff» очень удобно для того, чтобы толковать его так, как это делает Гегель, т. е. в смысле тотальности определений или совокупности всех моментов рассматриваемого предмета: «Begriff» происходит от глагола «begreifen», который означает «обнимать собою», «охватывать воедино», а затем «понимать, постигать умом». От глагола «begreifen» происходит, далее, существительное «Inbegriff», означающее «совокупность, суть, содержание, сущность». У Гегеля слово «Begriff» нередко употребляется в смысле, близком к значению слова «Inbegriff». Вообще, «Begriff» имеет у Гегеля по преимуществу объективное значение (объективное в смысле объективного и абсолютного идеализма), в отличие от того обычного субъективного смысла этого слова, который имеет в виду «понятие» как идею, образуемую человеческим умом, как умственное отображение предмета в человеческом сознании. Например, на стр. 82 Гегель пишет: «понятие есть ушедшая внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи». Ср. замечание Энгельса: «в суждении понятия о субъекте высказывается, в какой мере он соответствует своей всеобщей природе или, как говорит Гегель, своему понятию» (Engels, Anti-Duhring und Dialektik der Natur, M. – L. 1935, S. 662).]. Однако сомнение насчет того, не нуждается ли в извинении именно этот предмет, не вполне неуместно, если вспомним тот смысл, в котором Пилат задал вопрос: что есть истина? – как говорит поэт[2 - Клопшток в поэме «Мессиада», песнь 7-я.], «с миной светского человека, близоруко, но с улыбкой осуждающего серьезное отношение к делу». В таком случае этот вопрос заключает в себе тот смысл (на который можно смотреть, как на момент светскости) и напоминание о том, что цель познания истины есть нечто такое, от чего, мол, как известно, давно отказались, с чем давно покончили, и что недостижимость истины есть, дескать, нечто общепризнанное также и среди профессиональных философов и логиков. Но если в наше время вопрос религии о ценности вещей, воззрений и действий, который по своему содержанию имеет тот же смысл, все более и более отвоевывает обратно свое право на существование, то и философия должна, конечно, надеяться, что уже больше не будут находить очень странным, если она снова, прежде всего в своей непосредственной области, будет настаивать на своей истинной цели и, после того как она опустилась до уровня других наук, уподобившись им по своим приемам и отсутствию притязания на истину, будет снова стремиться подняться к этой цели. Извиняться за эту попытку, собственно говоря, неизвинительно; но для извинения за несовершенство ее осуществления я разрешу себе еще заметить, что мои служебные дела и другие личные обстоятельства дозволяли мне лишь спорадические занятия в области такой науки, которая требует и достойна непрерываемых и нераздельных усилий.
Нюрнберг, 21 июля 1816 г.
О понятии вообще
Указать непосредственно, в чем состоит природа понятия, так же мало возможно, как невозможно установить непосредственно понятие какого бы то ни было другого предмета. Может, пожалуй, казаться, что для указания понятия какого-либо предмета уже предполагается в качестве предпосылки логическое и что поэтому последнее уже не может само, в свою очередь, ни иметь своей предпосылкой что-нибудь другое, ни быть чем-то выводным, подобно тому как в геометрии логические предложения в том виде, как они выступают в применении к величине и употребляются в этой науке, предпосылаются ей в форме аксиом, не выведенных и не выводимых определений познания. Но хотя мы должны смотреть на понятие не только как на субъективную предпосылку, а как на абсолютную основу, оно все же может быть таковой лишь постольку, поскольку оно сделало себя основой. Абстрактно-непосредственное есть, правда, нечто первое; но, как абстрактное, оно есть скорее нечто опосредствованное, основу которого, таким образом, мы, если желаем постигнуть его в его истине, еще должны отыскать. Эта основа, хотя она и должна поэтому быть чем-то непосредственным, должна все же быть этим непосредственным лишь таким образом, что она сделала себя непосредственной через снятие опосредствования.
Взятое с этой стороны понятие должно быть рассматриваемо прежде всего вообще как третье к бытию и сущности, к непосредственному и рефлексии. Бытие и сущность суть постольку моменты его становления; понятие же есть их основа и истина, как то тождество, в котором они затонули и содержатся. Они в нем содержатся, так как оно есть их результат, но содержатся уже не как бытие и сущность; это определение они имеют лишь постольку, поскольку они еще не возвратились в это их единство.
Объективная логика, рассматривающая бытие и сущность, составляет поэтому, собственно говоря, генетическую экспозицию понятия. Говоря точнее, уже субстанция представляет собой реальную сущность или сущность, поскольку она соединилась с бытием и вступила в действительность. Поэтому понятие имеет своей непосредственной предпосылкой субстанцию, она есть в себе то, что понятие есть как проявившееся. Диалектическое движение субстанции через причинность и взаимодействие есть поэтому непосредственный генезис понятия и изображает ход становления последнего. Но его становление, как и повсюду становление, имеет то значение, что оно есть рефлексия переходящего в свое основание и что кажущееся сперва другим, в которое перешло первое, составляет истину этого первого. Таким образом, понятие есть истина субстанции, а так как необходимость есть определенный способ отношения субстанции, то свобода оказывается истиной необходимости и способом отношения понятия.
Специально свойственным субстанции, необходимым дальнейшим ее определением служит полагание того, что есть в себе и для себя; и вот понятие есть абсолютное единство бытия и рефлексии, состоящее в том, что в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь благодаря тому, что оно есть равным образом рефлексия или положенность, и что положенность есть в-себе-и-для-себя-бытие. Этот абстрактный результат находит себе разъяснение в изображении его конкретного генезиса; оно содержит в себе природу понятия; но оно должно было предшествовать рассмотрению последнего. Главные моменты этой экспозиции (рассмотренной подробно во второй книге «Объективной логики») должны быть поэтому здесь вкратце резюмированы.
Субстанция есть абсолютное, есть сущее в себе и для себя действительное: в себе – как простое тождество возможности и действительности, абсолютная сущность, содержащая внутри себя всяческую действительность и возможность; для себя – это тождество как абсолютная мощь или безоговорочно соотносящаяся с собой отрицательность. Движение субстанциальности, положенное через эти моменты, состоит в том, что:
1. Субстанция, как абсолютная мощь или соотносящаяся с собою отрицательность, дифференцирует себя так, что становится некоторым отношением, в котором они (моменты) суть сперва лишь простые моменты как субстанции и как первоначальные предпосылки. Определенное отношение между ними есть отношение между некоторой пассивной и некоторой активной субстанцией – между первоначальностью простого в-себе-бытия, которое, лишенное мощи, есть не полагающее само себя, а лишь первоначальная положенность, и соотносящеюся с собой отрицательностью, которая как таковая положила себя как другое и соотносится с этим другим. Это другое именно и есть пассивная субстанция, которую она в первоначальности своей мощи пред-положила себе как условие. Это пред-полагание следует понимать так, что движение самой субстанции совершается ближайшим образом под формой одного из моментов ее понятия, под формой в-себе-бытия, что определенность одной из находящихся между собой в отношении субстанций есть вместе с тем и определенность самого этого отношения.
2. Вторым моментом служит для-себя-бытие, или, иначе говоря, он состоит в том, что мощь полагает себя как соотносящую себя с самой собой отрицательность и тем самым вновь снимает пред-положенное. Активная субстанция есть причина; она действует; это означает, что она есть теперь полагание, подобно тому как перед тем она была пред-полаганием, означает, что: а) мощи сообщается также и видимость мощи, положенности также и видимость положенности. То, что в пред-полагании было первоначальным, становится в причинности через соотношение с другим тем, что оно есть в себе; причина производит действие, и притом в некоторой другой субстанции; она есть теперь мощь по отношению к некоторому другому; постольку она являет себя как причина, но есть таковая лишь через этот процесс явления. b) В пассивную субстанцию привходит действие, вследствие чего она теперь также и являет себя как положенность, но есть пассивная субстанция впервые лишь в этом процессе.
3. Но здесь имеется еще нечто большее, чем только это явление, а именно: а) причина действует на пассивную субстанцию, изменяет (делает другим) ее определение; но последнее есть положенность, в ней нет ничего иного, что можно было бы изменять; а то, другое, определение, которое она получает, есть определение причинности; пассивная субстанция становится, следовательно, причиной, мощью и деятельностью. b) Действие полагается в ней причиной; но положенное причиной есть сама тождественная с собой в процессе действия причина; эта-то причина и ставит себя на место пассивной субстанции. Равным образом, что касается активной субстанции, то: а) воздействие есть перевод причины в действие, в ее другое, в положенность, и b) в действии причина обнаруживает себя тем, что? она есть; действие тождественно с причиной, а не есть некоторое другое; причина, следовательно, обнаруживает в процессе действия положенность как то, что она есть по существу. Таким образом, каждое из этих определений[3 - Т. е. причина и действие, активная субстанция и пассивная субстанция.] становится противоположностью самого себя, и это имеет место с обеих сторон, т. е. как со стороны тождественного, так и со стороны отрицательного соотнесения с ним его другого; но каждое становится этой противоположностью так, что другое определение, следовательно, тоже каждое, остается тождественным с самим собою. Но и то и другое, и тождественное и отрицательное соотнесение, суть одно и то же; субстанция тождественна с самой собой лишь в своей противоположности, и это составляет абсолютное тождество субстанций, положенных как две. Активная субстанция проявляется как причина или первоначальная субстанциальность через процесс действия, т. е. когда она полагает себя как противоположность самой себя, что вместе с тем есть снятие ее пред-положенного инобытия, пассивной субстанции. Обратно, через процесс воздействия положенность проявляется как положенность, отрицательное – как отрицательное, и, стало быть, пассивная субстанция – как соотносящаяся с собой отрицательность; и причина в этом другом себя самой безоговорочно сливается лишь с собою. Следовательно, через это полагание пред-положенная или сущая в себе первоначальность становится для себя; но это в-себе-и-для-себя-бытие имеется лишь благодаря тому, что это полагание есть равным образом и снятие пред-положенного, или, иначе говоря, благодаря тому, что абсолютная субстанция возвратилась к себе самой лишь из своей положенности и в своей положенности и потому абсолютна. Это взаимодействие есть тем самым снова снимающее себя явление, заявление той видимости причинности, в которой причина имеет бытие как причина, что она есть видимость. Эта бесконечная рефлексия в самого себя, состоящая в том, что в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь благодаря тому, что оно есть положенность, есть завершение субстанции. Но это завершение не есть уже сама субстанция, оно есть нечто более высокое, понятие, субъект. Переход отношения субстанциальности совершается по его собственной имманентной необходимости и есть не что иное, как проявление самой этой необходимости, проявление того, что понятие есть истина субстанциальности и что свобода есть истина необходимости.
Уже ранее, во второй книге объективной логики (стр. 432 и сл., примечание), было упомянуто, что философия, которая становится и продолжает стоять на точке зрения субстанции, есть система Спинозы. Там же мы вместе с тем вскрыли неудовлетворительность этой системы как по форме, так и по содержанию. Но иное дело опровержение этой системы. Относительно опровержения какой-либо философской системы мы равным образом сделали в другом месте то общее замечание, что при этом следует отвергнуть превратное представление, будто система должна быть изображена как совершенно ложная, а истинная система, напротив, как лишь противоположная ложной. Из той связи, в которой здесь выступает система Спинозы, само собой выясняется настоящая точка зрения на нее и на вопрос о том, истинна ли она или ложна. Отношение субстанциальности породило себя через природу сущности; это отношение, равно как и его расширение до целой системы, есть поэтому необходимая точка зрения, на которую становится абсолютное. На такую точку зрения не следует поэтому смотреть как на некоторое мнение, как на субъективный, произвольный способ представления и мышления некоторого индивидуума, как на заблуждение спекуляции; напротив, последняя на своем пути необходимо перемещается на эту точку зрения, и постольку эта система совершенно истинна. Но эта точка зрения не есть наивысшая. Тем не менее система постольку не может рассматриваться как ложная, требующая опровержения и могущая быть опровергнутой, а в ней следует рассматривать как ложное лишь признание ее точки зрения за наивысшую. Истинная система не может поэтому и находиться к ней в таком отношении, что она лишь противоположна последней; ибо в таком случае эта противоположная система сама была бы односторонней. Напротив, как более высокая, она должна содержать в себе низшую.
Далее, опровержение не должно приходить извне, т. е. не должно исходить из допущений, лежащих вне опровергаемой системы, допущений, которым последняя не соответствует. В этом случае опровергаемой системе нужно только не признавать этих допущений; недостаток есть недостаток лишь для того, кто исходит из основанных на них потребностей и требований. В этом смысле была высказана мысль, что для того, кто не решил для себя положительно вопроса о свободе и самостоятельности самосознательного субъекта и не исходит из этой предпосылки, не может иметь места никакое опровержение спинозизма[4 - Гегель имеет в виду высказывания Фихте, который в «Первом введении в наукоучение» (1797) писал: «Всякий последовательный догматик – неизбежно фаталист; он не отрицает того факта сознания, что мы считаем себя свободными; ибо это было бы противно разуму; но он доказывает из своего принципа ложность этого мнения. Он совершенно отрицает самостоятельность «Я», на которой строит свое учение идеалист, и делает его простым продуктом вещей, случайной принадлежностью мира; последовательный догматик – неизбежно материалист. Он мог бы быть опровергнут только из постулата свободы и самостоятельности «Я»: но это – то самое, что он отрицает» (J. G Fichte, Werke, hrsg. v. Medicus, Bd III, S. 14–15; в русском издании «Избранных сочинений» Фихте, т. I, M. 1916, это место находится на стр. 421). То, что под «последовательным догматизмом» Фихте имел в виду философию Спинозы, видно из многих других мест его сочинений, например из следующего места в «Основах общего наукоучения» (1794): «Поскольку догматизм может быть последовательным, спинозизм является наиболее последовательным его продуктом» [Fichte, Werke, Bd. I, S. 314; в русском издании – стр. 96).До Фихте о строгой внутренней последовательности спинозизма и о невозможности его опровергнуть без обращения к другим принципам говорил Ф.-Г. Якоби.]. Да и, кроме того, такая высокая и в самой себе уже такая богатая точка зрения, как отношение субстанциальности, не игнорирует эти допущения, а тоже содержит их в себе: одним из атрибутов спинозовской субстанции служит мышление. Эта точка зрения, наоборот, умеет растворить определения, под которыми эти допущения противоречат ей, и вовлечь их в себя, так что они выступают в этой же системе, но в соответствующих ей модификациях. Нерв внешнего опровержения покоится в таком случае лишь на том, чтобы со своей стороны упорно и твердо настаивать на противоположных формах указанных допущений, например на абсолютном самодовлении мыслящего индивидуума – в противоположность той форме, в какой мышление полагается тождественным с протяжением в абсолютной субстанции. Истинное опровержение должно вникнуть в сильную сторону противника и стать в диапазоне этой силы; нападать же на него вне его сферы и одерживать над ним верх там, где его нет, не помогает делу. Единственное опровержение спинозизма может поэтому состоять лишь в том, что его точка зрения признается, во-первых, существенной и необходимой, но что, во-вторых, эта точка зрения, исходя из нее же самой, поднимается на уровень более высокой точки зрения. Отношение субстанциальности, рассматриваемое всецело лишь в себе самом и само по себе, переводит себя в свою противоположность, в понятие. Поэтому содержащаяся в предыдущей книге экспозиция субстанции, приводящая к понятию, есть единственное и истинное опровержение спинозизма. Она есть раскрытие субстанции, а это раскрытие есть генезис понятия, главные моменты которого резюмированы выше. Единство субстанции есть ее отношение необходимости; но последняя есть, таким образом, лишь внутренняя необходимость; полагая себя через момент абсолютной отрицательности, она становится проявившимся или положенным тождеством и тем самым свободой, которая есть тождество понятия. Понятие, как получающаяся из взаимодействия тотальность, есть единство обеих взаимодействующих субстанций, но такое единство, при котором они отныне принадлежат свободе, поскольку они теперь уже обладают тождеством не как чем-то слепым, т. е. внутренним, а имеют, по существу, определение быть видимостью или моментами рефлексии; вследствие чего каждая столь же непосредственно слилась со своим другим или со своей положенностью и каждая содержит свою положенность внутри себя самой и, стало быть, положена в своем другом безоговорочно лишь как тождественная с собой.
В понятии открылось поэтому царство свободы. Понятие есть свободное (das Freie), потому что то в-себе-и-для-себя-сущее тождество, которое составляет необходимость субстанции, выступает вместе с тем как снятое или как положенность, а эта положенность, как соотносящаяся с самой собой, как раз и есть то тождество. Темнота друг для друга находящихся в причинном отношении субстанций исчезла, ибо первоначальность их самостоятельного существования перешла в положенность и благодаря этому стала прозрачной для себя самой ясностью; первоначальная вещь[5 - В немецком тексте: «die ursprungliche Sache». Гегель намекает на этимологию немецкого слова «Ur-sache» (причина; буквально: перво-вещь).] первоначальна лишь постольку, поскольку она есть причина самой себя, а это и есть субстанция, освобожденная, чтобы стать понятием.
Из этого для понятия сразу же вытекает следующее, более детальное определение. Так как в-себе-и-для-себя-бытие непосредственно выступает как положенность, то понятие в своем простом соотношении с самим собой есть абсолютная определенность, но такая определенность, которая, как соотносящаяся только с собой, есть вместе с тем непосредственно простое тождество. Но это соотношение определенности с самой собой, как ее слияние с собой, есть равным образом и отрицание определенности, и понятие, как сказанное равенство с самим собой, есть всеобщее. Но это тождество имеет в равной мере и определение отрицательности; оно есть отрицание или определенность, которая соотносится с собой; взятое, таким образом, понятие есть единичное. Каждое из них есть тотальность, каждое содержит в себе определение другого, и поэтому указанные тотальности суть в такой же мере безоговорочно лишь одна тотальность, в какой это единство есть расщепление себя самого, превращение в свободную видимость указанной двойности – двойности, выступающей в различии единичного и всеобщего как совершенная противоположность, которая, однако, настолько есть видимость, что когда постигается и высказывается одно, то вместе с этим непосредственно постигается и высказывается другое.
Только что изложенное должно быть рассматриваемо как понятие понятия. Может показаться, что это понятие отступает от того, что обычно понимают под понятием, и нам можно было бы предъявить требование, чтобы мы указали, каким образом то, что здесь получилось как понятие, содержится в других представлениях или объяснениях. Однако, с одной стороны, здесь не может идти речь о подтверждении, основанном на авторитете обычного понимания; в науке понятия его содержание и определение может быть удостоверено исключительно только посредством имманентной дедукции, содержащей его генезис, и эта дедукция уже лежит позади нас. С другой же стороны, должно быть действительно возможно распознать в том, что обычно предлагается как понятие понятия, дедуцированное здесь понятие. Но не так-то легко найти то, что другие говорили о природе понятия. Ибо, по большей части, они вовсе не занимаются отыскиванием этой природы и предполагают, что когда говорят о понятии, то каждый уже само собой понимает, о чем идет речь. В Новейшее время можно было тем более считать себя освобожденными от хлопот с понятием, что, как некоторое время признавалось хорошим тоном всячески поносить силу воображения, а затем и память, так теперь в философии уже довольно давно сделалось привычкой, сохранившейся отчасти еще и поныне, говорить всевозможные дурные вещи о понятии, делать его, эту вершину мышления, предметом презрения и, напротив, считать наивысшей вершиной научности и моральности непостижимое и отсутствие постижения[6 - Гегель, по-видимому, имеет в виду иррационализм Фридриха-Генриха Якоби (1743–1819). Ср. замечания Гегеля об этом философе в «Малой логике» (Гегель, Соч., т. I, стр. 114–118) и в «Истории философии» (т. XI, стр. 405–415).].
Я ограничиваюсь здесь одним замечанием, которое может послужить к пониманию развитых здесь понятий и облегчить читателю ориентироваться в них. Понятие, поскольку оно достигло такого существования, которое само свободно, есть не что иное, как «я» или чистое самосознание. Я, правда, обладаю понятиями, т. е. определенными понятиями, но «я» есть само чистое понятие, которое как понятие достигло наличного бытия. Поэтому, если я напоминаю об основных определениях, составляющих природу «я», то я имею право предполагать, что напоминаю о чем-то знакомом, т. е. привычном для представления. Но «я» есть, во-первых, это чистое, соотносящееся с собой единство, и оно таково не непосредственно, а только тогда, когда оно абстрагирует от всякой определенности и всякого содержания и возвращается к свободе безграничного равенства с самим собой. Взятое таким образом, оно есть всеобщность – единство, которое лишь через то отрицательное отношение, которое выступает как абстрагирование, есть единство с собой и вследствие этого содержит в себе растворенной всякую определенность. Во-вторых, «я» как соотносящаяся с самой собой отрицательность есть столь же непосредственно единичность, абсолютная определенность, противопоставляющая себя другому и исключающая это другое, индивидуальная личность. Указанная абсолютная всеобщность, которая непосредственно есть равным образом и абсолютная единичность, и такое в-себе-и-для-себя-бытие, которое безоговорочно есть положенность и есть это в-себе-и-для-себя-бытие лишь через единство с положенностью, составляют как природу «я», так и природу понятия; в том и в другом нельзя ничего постигнуть, если не мыслить указанных обоих моментов одновременно и в их абстрактности, и в их совершенном единстве.
Когда, как это обычно принято, говорят о рассудке, которым я обладаю, то под этим понимают некоторую способность или свойство, находящееся в таком отношении к «я», в каком свойство вещи находится к самой вещи, – к некоторому неопределенному субстрату, который не есть истинное основание своего свойства и то, что определяет его. Согласно этому представлению, я обладаю понятиями и понятием точно так же, как я обладаю сюртуком, цветом и другими внешними свойствами. Кант пошел дальше этого внешнего отношения рассудка (взятого как способность понятий) и самих понятий к «я». К глубочайшим и правильнейшим взглядам, находящимся в «Критике разума», принадлежит взгляд, признающий, что единство, составляющее сущность понятия, есть первоначально-синтетическое единство апперцепции, единство «я мыслю» (des: Ich denke) или самосознания. Это положение образует собой так называемую трансцендентальную дедукцию категорий; но указанная дедукция издавна считалась одной из труднейших частей кантовской философии – несомненно, не почему-либо иному, как потому, что она требует от нас, чтобы мы пошли дальше голого представления об отношении, в котором «я» и рассудок или понятия находятся к какой-нибудь вещи и ее свойствам или акциденциям, – чтобы мы перешли к мысли. Объект, говорит Кант («Критика чистого разума», стр. 137, 2-е изд.), есть то, в понятии чего объединено многообразие некоторого данного созерцания, а всякое объединение представлений требует единства сознания в их синтезе. Следовательно, это единство сознания есть то, что одно только и составляет отнесение представлений к некоторому предмету и, стало быть, их объективную значимость, и то, на чем покоится сама возможность рассудка. От этого единства Кант отличает субъективное единство сознания, единство представления – вопрос о том, сознаю ли я некоторое многообразное как одновременное или как последовательное, что, дескать, зависит от эмпирических условий. Напротив, принципы объективного определения представлений должны быть, по Канту, выведены исключительно только из основоположения трансцендентального единства апперцепции. Посредством категорий, представляющих собой эти объективные определения, многообразие данных представлений определяется так, что оно приводится к единству сознания. Согласно этому учению, единство понятия есть то, через что нечто есть не голое определение чувства, созерцание или голое представление, а объект, каковое объективное единство есть единство «я» с самим собой. Постижение какого-либо предмета состоит в самом деле не в чем ином, как в том, что «я» усваивает себе этот предмет, пронизывает его и приводит его в свою собственную форму, т. е. во всеобщность, которая есть непосредственно определенность, или в определенность, которая есть непосредственно всеобщность. В созерцании или даже в представлении предмет есть еще нечто внешнее, чуждое. Через постижение то в-себе-и-для-себя-бытие, которым он обладает в процессе созерцания и представления, превращается в некоторую положенность; «я» пронизывает его мыслительно. Но лишь в том виде, в каком он есть в мышлении, он впервые есть в себе и для себя; а в том виде, в каком он выступает в созерцании или в представлении, он есть явление; мышление снимает ту его непосредственность, с которой он сначала предстает перед нами, и делает его, таким образом, положенностью; но эта его положенность есть его в-себе-и-для-себя-бытие или его объективность. Этой объективностью предмет, стало быть, обладает в понятии, и последнее есть то единство самосознания, в которое он был вобран; его объективность или понятие само есть поэтому не что иное, как природа самосознания, и не обладает никакими другими моментами или определениями, кроме тех, какими обладает само «я».
Согласно этому то обстоятельство, что для того, чтобы познать, что такое понятие, мы напоминаем о природе «я», оправдывается одним из главных положений кантовской философии. Но и наоборот, для этого необходимо, чтобы предварительно было постигнуто понятие «я» так, как оно было только что изложено нами. Если остановиться на голом представлении о «я», как оно предносится нашему обычному сознанию, то «я» есть лишь простая вещь (именуемая также и душой), которой понятие присуще как некоторое достояние или свойство. Это представление, не дающее понимания ни «я», ни понятия, не может служить к тому, чтобы облегчить понимание понятия или приблизить к нему.
Вышеприведенное учение Канта содержит в себе еще две стороны, касающиеся понятия и делающие необходимыми некоторые дальнейшие замечания. Во-первых, ступени рассудка у Канта предпосланы ступени чувства и созерцания; и одно из существенных положений кантовой трансцендентальной философии состоит в том, что понятия без созерцания пусты и что они обладают значимостью исключительно только как соотношения данного в созерцании многообразия. Во-вторых, Кант указывает на понятие как на объективное в познании и тем самым как на истину. Но, с другой стороны, понятие признается у Канта чем-то только субъективным, из чего нельзя выколупать реальность, под которой, ввиду того что она противопоставляется Кантом субъективности, следует разуметь объективность; и вообще, понятие и логическое объявляются у Канта чем-то только формальным, которое, ввиду того, что оно отвлекается от содержания, не содержит в себе истины.
Что касается, во-первых, указанного отношения рассудка или понятия к предпосланным ему ступеням, то все зависит от того, какая наука занимается определением формы этих ступеней. В нашей науке, как чистой логике, эти ступени суть бытие и сущность. В психологии рассудку предпосылаются чувство и созерцание, а затем вообще представление. В феноменологии духа, как учении о сознании, мы совершили восхождение к рассудку по ступеням чувственного сознания, а затем по ступеням восприятия. Кант предпосылает ему лишь чувство и созерцание. В какой мере эта лестница, прежде всего, неполна, это он уже сам дает понять тем, что присоединяет в виде приложения к трансцендентальной логике или учению о рассудке еще рассуждение о рефлективных понятиях, – область, лежащую между созерцанием и рассудком или между бытием и понятием.
Обращаясь к самой сути дела, следует, во-первых, заметить, что все эти образы созерцания, представления и т. п. принадлежат самосознательному духу, который как таковой не рассматривается в науке логики. Чистые определения бытия, сущности и понятия образуют собой, правда, основу и внутренний простой остов также и форм духа; дух, как созерцающий, а равным образом и как чувственное сознание, имеет определенность непосредственного бытия, а дух, как представляющий, и также дух, как воспринимающее сознание, поднялся от бытия на ступень сущности или рефлексии. Но эти конкретные образы столь же мало касаются науки логики, как и те конкретные формы, которые логические определения принимают в природе, а именно: пространство и время, затем наполненное пространство и время, как неорганическая природа, и, наконец, органическая природа. Равным образом и понятие здесь следует рассматривать не как акт самосознательного рассудка, не как субъективный рассудок, а как понятие в себе и для себя, образующее ступень как природы, так и духа. Жизнь или органическая природа есть та ступень природы, на которой выступает понятие, но как слепое, не постигающее само себя, т. е. не мыслящее; как мыслящее оно присуще лишь духу. Но логическая форма понятия независима как от того недуховного, так и от этого духовного вида понятия; об этом мы уже сделали необходимое предварительное указание во введении. Это такое вразумление, которое не должно быть оправдано впервые в рамках логики, а должно быть твердо уяснено еще до нее.
Но каковы бы ни были формы, предшествующие понятию, важно, во-вторых, знать, как мыслится отношение к ним понятия. Это отношение как в обычном психологическом представлении, так и в кантовой трансцендентальной философии понимается так, что эмпирическая материя, многообразие созерцания и представления существует сначала само по себе и что затем рассудок подходит к нему, вносит в него единство и возводит его посредством абстрагирования в форму всеобщности. Рассудок есть, таким образом, некоторая сама по себе пустая форма, которая отчасти получает реальность лишь через указанное данное содержание, отчасти же абстрагирует от него, а именно, опускает его как нечто непригодное, но непригодное лишь для понятия. В том и другом действиях понятие не есть нечто независимое, не есть существенное и истинное содержание этой предшествующей ему материи, представляющей собой, наоборот, реальность в себе и для себя, которую, дескать, невозможно выколупать из понятия.
Правда, нужно согласиться с тем, что понятие как таковое еще не полно: оно должно еще возвести себя в идею, которая только и есть единство понятия и реальности, как это должно получиться в дальнейшем путем рассмотрения природы самого понятия. Ибо реальность, которую оно сообщает себе, должна быть не подобрана, как нечто внешнее, а выведена согласно требованию науки из него самого. Но поистине не упомянутая выше, данная через созерцание и представление материя должна быть выдвинута в противоположность понятию как реальное. «Это только понятие», – так говорят обыкновенно, противопоставляя понятию, как нечто более превосходное, не только идею, но и чувственное, пространственное и временно?е осязаемое существование. Абстрактное считается в таком случае по той причине менее значительным, чем конкретное, что из него, дескать, опущено так много указанного рода материи. Абстрагирование получает согласно этому мнению тот смысл, что из конкретного вынимается (лишь для нашего субъективного употребления) тот или иной признак, так что с опущением стольких других свойств и модификаций предмета их не лишают ничего из их ценности и достоинства, а они по-прежнему оставляются как реальное, лишь находящееся на другой стороне, сохраняют по-прежнему полное свое значение, и лишь немощь рассудка приводит согласно этому взгляду к тому, что ему невозможно вобрать в себя все это богатство и приходится довольствоваться скудной абстракцией. Если данная материя созерцания и многообразие представления понимаются как реальное в противоположность мыслимому и понятию, то это есть такой взгляд, предварительный отказ от которого представляет собой не только условие философствования, но уже предполагается религией. Каким образом возможна потребность в религии и чувство религии, если мимолетное и поверхностное явление чувственного и единичного все еще считается истинным? Философия же дает нам постигнутое в понятии усмотрение того, как обстоит дело с реальностью чувственного бытия, и предпосылает рассудку вышеуказанные ступени чувства и созерцания, чувственного сознания и т. п. постольку, поскольку они суть в ходе его становления его условия, причем, однако, они суть его условия только в том смысле, что из их диалектики и ничтожности понятие возникает как их основание, а не в том смысле, что оно, мол, обусловлено их реальностью. Поэтому абстрагирующее мышление должно рассматриваться не просто как оставление в стороне чувственной материи, которая при этом не терпит, дескать, никакого ущерба в своей реальности; оно скорее есть снятие последней и сведение ее как простого явления к существенному, проявляющемуся только в понятии. Конечно, если та сторона конкретного явления, которую мы, согласно рассматриваемому воззрению, вбираем в понятие, должна служить лишь признаком или знаком, то она и в самом деле может быть тоже каким-нибудь лишь чувственным, единичным определением предмета, которое из-за какого-либо внешнего интереса избирается среди других, выделяется из них и имеет ту же природу, что и прочие.
Главное недоразумение, имеющее здесь место, заключается в том мнении, будто естественный принцип или то начало, которое служит исходным пунктом в естественном развитии или в истории развивающегося индивидуума, есть истинное и первое также и в понятии. Созерцание или бытие суть, правда, по природе первое или условие для понятия, но это отнюдь не значит, что они суть безусловное в себе и для себя. В понятии скорее снимается их реальность и, стало быть, вместе с тем снимается и та видимость, которую они имели как обусловливающее реальное. Если дело идет не об истине, а лишь об истории о том, как все это происходит в представлении и являющемся мышлении, то можно, конечно, не идти дальше рассказа о том, что мы начинаем с чувств и созерцаний и что рассудок из всего их многообразия извлекает некоторую всеобщность или некоторое абстрактное и, разумеется, нуждается для этого в вышеупомянутой основе, каковая при этом абстрагировании все еще остается для представления во всей той реальности, с которой она явила себя вначале. Но философия не должна быть рассказом о том, что совершается, а должна быть познанием того, что в этом совершающемся истинно, и из истинного она должна постигнуть далее то, что в рассказе выступает как простое событие (Geschehen).
Если при поверхностном представлении о том, что такое понятие, всякое многообразие стоит вне понятия, и последнему присуща лишь форма абстрактной всеобщности или пустого рефлективного тождества, то можно прежде всего напомнить уже о том, что и независимо от сказанного всегда определительно требуется для указания какого-нибудь понятия или для дефиниции, чтобы к роду, который уже сам, собственно говоря, не есть чисто абстрактная всеобщность, присоединилась также и специфическая определенность. Если мы только сообразим в некоторой мере мыслительно, что? это означает, то мы убедимся, что тем самым различение рассматривается как столь же существенный момент понятия. Кант положил начало этому рассмотрению той в высшей степени важной мыслью, что существуют априорные синтетические суждения. Этот первоначальный синтез апперцепции представляет собой один из глубочайших принципов спекулятивного развертывания; он содержит в себе первый шаг к истинному пониманию природы понятия и совершенно противоположен вышеупомянутому пустому тождеству или абстрактной всеобщности, которая не есть внутри себя синтез. Однако этому первому шагу мало соответствует дальнейшая разработка. Уже выражение «синтез» легко снова приводит к представлению о некотором внешнем единстве и голом сочетании таких элементов, которые сами по себе раздельны. Затем, кантовская философия остановилась только на психологическом рефлексе понятия и снова возвратилась к утверждению о непрекращающейся обусловленности понятия некоторым многообразием созерцания. Эта философия признала рассудочные познания и опыт некоторым являющимся содержанием не потому, что сами категории суть лишь конечные, а потому, что руководилась психологическим идеализмом, тем соображением, что они суть лишь определения, происходящие из самосознания. К тому же понятие согласно учению Канта опять-таки бессодержательно и пусто без многообразия созерцания, несмотря на то что оно есть a priori некоторый синтез; а ведь поскольку оно есть синтез, оно имеет определенность и различие внутри себя самого. Поскольку эта определенность есть определенность понятия и тем самым абсолютная определенность, единичность, понятие есть основание и источник всякой конечной определенности и всякого многообразия.
То формальное положение, которое понятие занимает как рассудок, завершается в кантовом изложении природы разума. Можно было бы ожидать, что в разуме, этой наивысшей ступени мышления, понятие утратит ту обусловленность, в которой оно еще выступает на ступени рассудка, и достигнет завершенной истины. Но это ожидание не оправдывается. Так как Кант определяет отношение разума к категориям как лишь диалектическое и притом безоговорочно понимает результат этой диалектики исключительно только как бесконечное ничто, то бесконечное единство разума утрачивает еще также и синтез, а тем самым и упомянутое выше начало спекулятивного, истинно бесконечного понятия; оно становится известным, совершенно формальным, только регулятивным единством систематического употребления рассудка. Кант объявляет злоупотреблением со стороны логики то обстоятельство, что она, которая должна быть только каноном логической оценки, рассматривается как органон для образования объективных усмотрений. Понятия разума, в которых мы должны были бы ожидать более высокую силу и более глубокое содержание, уже не имеют в себе ничего конститутивного, как это еще имело место у категорий; они суть голые идеи; их-де, правда, вполне дозволительно употреблять, но эти умопостигаемые сущности, в которых, согласно докантовским воззрениям, должна была раскрываться вся истина, означают не что иное, как гипотезы, приписывать которым истину в себе и для себя было бы полным произволом и безумным дерзновением, так как они не могут встретиться ни в каком опыте. Можно ли было когда-нибудь подумать, что философия станет отрицать истину умопостигаемых сущностей потому, что они лишены пространственной и временно?й, воспринимаемой чувственностью материи?
С этим непосредственно связана та точка зрения, с которой следует вообще рассматривать понятие и назначение логики и которая в философии Канта понимается таким же образом, как это обычно делается: мы имеем в виду отношение понятия и науки о нем к самой истине. Мы уже привели выше тот пункт кантовской дедукции категорий, который гласит, что объект, в котором объединяется многообразие созерцания, есть это единство лишь через единство самосознания. Здесь, следовательно, определенно высказана объективность мышления, то тождество понятия и вещи, которое и есть истина. Подобным образом и обычно все соглашаются с тем, что когда мышление усваивает себе какой-нибудь данный предмет, то последний, вследствие этого, претерпевает некоторое изменение и превращается из чувственного в мыслимый, но что это изменение не только ничего не изменяет в его существенности, но он, напротив, истинен именно в своем понятии, в непосредственности же, в которой он дан, он есть лишь явление и случайность; что познание предмета, постигающее его в понятии, есть познание его таким, каков он в себе и для себя, и что понятие и есть сама его объективность. Однако, с другой стороны, тут вместе с тем опять-таки утверждается[7 - Имеется в виду трансцендентальная философия Канта.], что мы все же не можем познавать вещей, каковы они в себе и для себя, и что истина недоступна познающему разуму; что упомянутая выше истина, состоящая в единстве объекта и понятия, есть все же лишь явление и притом опять-таки потому, что содержание-де есть лишь многообразие созерцания. По этому поводу мы уже указали выше, что, напротив, это многообразие, поскольку оно принадлежит области созерцания в противоположность понятию, именно и снимается в понятии и что через понятие предмет приводится обратно к своей неслучайной существенности; последняя выступает в явлении, и именно поэтому явление есть не просто нечто лишенное сущности, а проявление сущности. Но ставшее вполне свободным проявление сущности и есть понятие. Эти положения, о которых мы здесь напоминаем, не суть догматические утверждения, ибо они представляют собой результаты, получившиеся сами собой из всего имманентного развития сущности. Теперешняя точка зрения, к которой привело это развитие, состоит в том, что понятие есть та форма абсолютного, которая выше бытия и сущности. Так как оказалось, что с этой стороны оно подчинило себе бытие и сущность, к которым при других исходных точках принадлежит также и чувство, созерцание и представление и которые явились его предшествующими ему условиями, и что оно есть их безусловное основание, то теперь остается еще вторая сторона, изложению которой и посвящена эта третья книга логики, а именно, остается показать, каким образом понятие внутри самого себя и из себя образует ту реальность, которая в нем исчезла[8 - Краткая, но чрезвычайно глубокая критика гегелевского учения о понятии как о «конкретной тотальности», «образующей (или «порождающей») из себя реальность», дана Марксом в третьей главе «Введения к Критике политической экономии». Маркс вышелушивает рациональное зерно, имеющееся в гегелевском учении о восхождении от абстрактного к конкретному. Он показывает, что научное мышление действительно движется от абстрактных определений к «конкретной тотальности» (Маркс даже сам употребляет несколько раз этот гегелевский термин). Но вместе с тем Маркс с гениальной силой вскрывает фундаментальную ложь в построениях Гегеля, притом ложь двоякого рода: 1) неверно, будто «реальное есть результат мышления, синтезирующего воедино свои определения внутри самого себя, углубляющегося в себя и движущегося из самого себя»: в действительности «метод восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его духовно как конкретное, а отнюдь не процесс возникновения самого конкретного»; 2) неверно, будто конкретная тотальность определений мысли является продуктом такого «понятия, которое мыслит вне созерцания и представления или над ними и само порождает себя»: в действительности эта конкретная тотальность представляет собою «продукт переработки представления и созерцания в понятия» (Marx, Zur Kritik der politischen Oekonomie, M. – L., 1934, S. 236–237). Там же Маркс показывает, что соответствие между ходом абстрактного мышления, с одной стороны, и действительным историческим процессом, идущим от простого к сложному, с другой стороны, хотя и имеет место в общем и целом, но не может быть сведено к простому тождеству, так как в действительности дело обстоит гораздо сложнее.]. Мы поэтому, конечно, согласились с тем, что познание, не идущее дальше лишь понятия чисто как такового еще неполно и дошло пока что только до абстрактной истины. Но его неполнота состоит не в том, что оно лишено той мнимой реальности, которая, дескать, дана в чувстве и созерцании, а в том, что понятие еще не сообщило себе своей собственной, из него самого порожденной реальности. В том-то и состоит выявленная в противоположность эмпирической материи и на ней, а точнее на ее категориях и определениях рефлексии, абсолютность понятия, что материя эта истинна не в том виде, в каком она является вне и до понятия, а исключительно в своей идеальности или в своем тождестве с понятием. Выведение из него реального, если это угодно называть выведением, состоит, по существу, ближайшим образом в том, что понятие в своей формальной абстрактности оказывается незавершенным и через имеющую свое основание в нем самом диалектику переходит к реальности так, что производит ее из себя, а не так, что снова возвращается к некоторой готовой, найденной в противоположность ему реальности и ищет прибежища в чем-то таком, что показало себя несущественным в явлении, потому что, мол, понятие, оглядываясь вокруг, искало лучшего, но не нашло его. Навсегда останется удивительным, что кантовская философия признала то отношение мышления к чувственному существованию, на котором она остановилась, лишь за релятивное отношение голого явления, и, хотя и допускала и утверждала их более высокое единство в идее вообще и, например, в идее некоторого созерцающего рассудка, не пошла, однако, дальше того релятивного отношения и дальше утверждения, что понятие всецело отделено и остается отделенным от реальности; тем самым она признала истиной то, что сама объявила конечным познанием, а то, что она признала истиной и определенное понятие чего она установила, объявила чем-то непомерным, недозволительным и лишь мысленным, а не реальным (Gedankendinge).
Так как здесь идет ближайшим образом речь об отношении логики (а не науки вообще) к истине, то следует далее согласиться также и с тем, что логика, как формальная наука, не может и не должна содержать в себе также и той реальности, которая составляет содержание дальнейших частей философии, наук о природе и духе. Эти конкретные науки, несомненно, имеют дело с более реальной формой идеи, чем логика, но вместе с тем не в том смысле, что они возвращаются опять к той реальности, от которой уже отказалось сознание, возвысившееся от своего явления до науки, или же к употреблению таких форм (каковы категории и определения рефлексии), конечность и неистинность которых выяснились в логике. Напротив, логика показывает, как идея поднимается на такую ступень, где она становится творцом природы и переходит к форме конкретной непосредственности, понятие которой, однако, снова разрушает и этот образ для того, чтобы стать самим собой в виде конкретного духа. По сравнению с этими конкретными науками, имеющими и сохраняющими, однако, в себе логическое или понятие в качестве внутреннего образователя, точно так же как оно [логическое] было их подготовителем и прообразом, сама логика есть, конечно, формальная наука, но наука об абсолютной форме, которая есть внутри себя тотальность и содержит в себе чистую идею самой истины. Эта абсолютная форма имеет в себе самой свое содержание или свою реальность; так как понятие не есть тривиальное, пустое тождество, то оно имеет в моменте своей отрицательности или абсолютного процесса определения различенные определения; содержание есть вообще не что иное, как такие определения абсолютной формы, есть положенное самой этой формой и потому адекватное ей содержание. Эта форма имеет поэтому совершенно иную природу, чем обычно приписываемая логической форме. Она уже сама по себе есть истина, так как это содержание адекватно своей форме или эта реальность адекватна своему понятию, и притом она есть чистая истина, так как определения этого содержания еще не имеют формы абсолютного инобытия или абсолютной непосредственности. Когда Кант («Критика чистого разума», стр. 83) начинает обсуждать в отношении логики старый и знаменитый вопрос: что есть истина? – он пренебрежительно допускает, прежде всего, как нечто тривиальное, номинальное объяснение, гласящее, что она есть согласие познания с его предметом[9 - В действительности это место находится на стр. 82 второго издания «Критики чистого разума». См. Кант, «Критика чистого разума», пер. Лосского, Пгр. 1915, стр. 64.], – дефиницию, имеющую громадную, даже величайшую ценность. Если мы об этой дефиниции вспомним при чтении основного утверждения трансцендентального идеализма, что разумное познание не может постигнуть вещей в себе, что безоговорочная реальность лежит вне понятия, то тотчас же станет ясно, что такой разум, который не может привести себя в согласие со своим предметом, с вещами в себе, и такие вещи в себе, которое не согласуются с понятиями разума, такое понятие, которое не согласуется с реальностью, и такая реальность, которая не согласуется с понятием, суть неистинные представления. Если бы Кант сопоставил идею созерцающего рассудка с упомянутой дефиницией истины, то он отнесся бы к этой идее, выражающей требуемое согласие реальности и понятия, не как к чему-то лишь мысленному, а, наоборот, как к истине.
«Что тут желают знать, – указывает далее Кант, – это всеобщий и надежный критерий истины всякого познания; […] он должен был бы быть таким, который имел бы силу в применении ко всем познаниям без различия их предметов; […] но так как в таком случае мы отвлекаемся от всякого содержания познания (от отношения к его объекту), а истина касается именно этого содержания познания, то было бы совершенно невозможно и несуразно спрашивать, в чем заключается признак истинности этого содержания познаний»[10 - Кант, «Критика чистого разума», стр. 82–83 по 2-му немецкому изданию. Курсив принадлежит Гегелю.]. Здесь очень определенно выражено обычное представление о формальной функции логики, и приведенное рассуждение кажется весьма убедительным. Но, во-первых, мы должны заметить, что обычная участь такого рода формального рассуждения – забывать в своем словесном изложении то, что оно сделало своей основой и о чем оно говорит. Было бы несуразно, слышим мы, спрашивать о критерии истинности содержания познания; но, согласно приведенной выше дефиниции, истину составляет не содержание, а его соответствие понятию. Такого рода содержание, как то, о котором говорится здесь, без понятия есть нечто лишенное понятия и, стало быть, лишенное и сущности; о критерии истинности такого содержания, конечно, нельзя спрашивать, но по противоположному основанию: нельзя спрашивать потому, что оно из-за своей непричастности понятию не есть требуемое соответствие, а может быть лишь чем-то принадлежащим области непричастного истине мнения. Если мы оставим в стороне упоминание о содержании, создающем здесь путаницу, в которую, однако, формализм постоянно впадает и которая заставляет его, как только он вдается в разъяснения, говорить обратное тому, что он хочет сказать, и остановимся лишь на том абстрактном взгляде, согласно которому логическое есть нечто лишь формальное и отвлекается от всякого содержания, то в таком случае мы получим одностороннее знание, которое, согласно этому взгляду, не содержит в себе никакого предмета, пустую, лишенную определений форму, которая, стало быть, столь же мало есть соответствие (ибо для соответствия обязательно требуются две стороны), – форму, которая равным образом не есть истина. В лице априорного синтеза понятия Кант обладал более высоким принципом, в котором могла быть познана двойственность в единстве, стало быть, то, что требуется для истины; но чувственная материя, многообразие созерцания слишком сильно властвовали над ним, так что он не мог отойти от них и обратиться к рассмотрению понятия и категорий, взятых сами по себе, и к спекулятивному философствованию.
Так как логика есть наука об абсолютной форме, то это формальное для того, чтобы быть истинным, должно иметь в себе самом некоторое содержание, адекватное своей форме; это тем более верно, что логический формальный элемент должен быть чистой формой и, следовательно, логическая истина должна быть само?й чистой истиной. Вследствие этого указанное формальное должно быть внутри себя гораздо богаче определениями и содержанием, а также должно обладать бесконечно большей силой воздействия на конкретное, чем это обыкновенно принимают[11 - Ср. замечание Маркса о том, что «до Гегеля логики по профессии упускали из вида формальное содержание (den Forminhalt) различных типов суждений и умозаключений» (Маркс, Das Kapital, Bd. 1, Hamburg 1867, S. 21), т. е. то реальное содержание, которое имеется в логической форме суждений и умозаключений.]. Логические законы сами по себе (если вычесть все то, что и помимо этого гетерогенно, – прикладную логику и прочий психологический и антропологический материал) сводятся обыкновенно, кроме предложения о противоречии, еще к нескольким скудным предложениям об обращении суждений и о формах умозаключений. Даже сюда относящиеся формы, равно как и их дальнейшие определения, излагаются здесь лишь как бы исторически, не подвергаются критике с целью установить, истинны ли они в себе и для себя. Так, например, форма положительного суждения рассматривается как нечто вполне правильное в себе, причем считается, что только от содержания данного суждения всецело зависит, истинно ли оно. Есть ли эта форма в себе и для себя форма истины, не диалектично ли внутри себя высказываемое ею предложение («единичное есть некоторое всеобщее»), – об исследовании этого вопроса не думают. Без околичностей признаётся, что это суждение само по себе способно содержать в себе истину и что вышеуказанное предложение, высказываемое всяким положительным суждением, истинно, хотя непосредственно явствует, что ему не хватает того, что требуется определением истины, а именно, согласия понятия со своим предметом. Если принимать сказуемое, которое есть здесь всеобщее, за понятие, а подлежащее, которое есть единичное, за предмет, то они не согласуются одно с другим. Если же абстрактное всеобщее, которое сказуемое представляет собой, еще не составляет понятия (для понятия, без сомнения, требуется нечто большее) и если такое подлежащее равным образом имеет еще немногим больше, чем грамматический смысл, то как может суждение содержать в себе истину, коль скоро его понятие и предмет между собой не согласуются или ему даже вообще недостает понятия и, пожалуй, также и предмета? Поэтому невозможным и несуразным оказывается именно желание облечь истину в такие формы, как положительное суждение или суждение вообще. Точно так же как философия Канта не рассматривала категорий в себе и для себя, а лишь на том неудачном основании, что они, дескать, суть субъективные формы самосознания, объявила их конечными определениями, неспособными содержать в себе истину, так она еще в меньшей мере подвергла критике формы понятия, составляющие содержание обычной логики. Эта философия, напротив, использовала часть указанных форм (а именно, функции суждений) для определения категорий и признала их правильными предпосылками. Если даже не видеть в логических формах ничего другого, кроме формальных функций мышления, то и в таком случае они заслуживали бы исследования, в какой мере они сами по себе соответствуют истине. Логика, не дающая такого исследования, может изъявлять притязание самое большее на значение естественно-исторического описания явлений мышления в том виде, в каком мы их преднаходим. Аристотелю принадлежит бесконечная заслуга, которая должна наполнять нас величайшим уважением перед силой этого ума, впервые предпринявшего такое описание. Но необходимо идти дальше и познать отчасти систематическую связь[12 - Ср. слова Энгельса: «Диалектическая логика, в противоположность старой, чисто формальной логике, не довольствуется тем, чтобы перечислить и сопоставить без связи формы движения мышления, т. е. различные формы суждения и умозаключения. Она, наоборот, выводит эти формы одну из другой, устанавливает между ними отношение субординации, а не координации, она развивает высшие формы из низших» (Энгельс, «Диалектика природы», М., 1936, стр. 100).], отчасти же ценность этих форм.
Подразделение
Понятие, как оно было рассмотрено выше, оказывается единством бытия и сущности. Сущность есть первое отрицание бытия, которое вследствие этого стало видимостью; понятие есть второе отрицание или отрицание этого отрицания; следовательно, понятие есть восстановленное бытие, но восстановленное как его бесконечное опосредствование и отрицательность внутри себя самого. Поэтому в понятии бытие и сущность уже не имеют того определения, в котором они суть бытие и сущность, и равным образом не находятся лишь в таком единстве, при котором каждое светится в другом. Понятие поэтому дифференцирует себя не на эти определения. Оно есть истина субстанциального отношения, в котором бытие и сущность достигают друг через друга своей исполненной самостоятельности и своего определения. Истиной субстанциальности оказалось субстанциальное тождество, которое есть равным образом и только положенность. Положенность есть наличное бытие и различение; поэтому в-себе-и-для-себя-бытие достигло в понятии адекватного себе и истинного наличного бытия, ибо указанная положенность есть само в-себе-и-для-себя-бытие. Эта положенность образует собой различие понятия внутри его самого; его различия, ввиду того что оно[13 - Немецкий текст тут испорчен. Напечатано: «weil sie unmittelbar das An-und-fursichsein ist». Между тем ни в этой, ни в предыдущей фразе нет ни одного существительного женского рода, к которому могло бы относиться местоимение «sie». Приходится прибегать к конъектурам. Лассон предлагает читать: «es…ist». Покойный Б. Г. Столпнер предлагал: «sie…sind». Нам представляется более обоснованным чтение: «er (т. е. der Begriff)… ist». Перевод сделан в соответствии с этой последней конъектурой, в подтверждение которой можно сослаться на два обстоятельства: 1) под словами «seine Unterschiede», непосредственно предшествующими вышеприведенному придаточному предложению, могут иметься в виду только «различия понятия»; 2) третья фраза следующего абзаца начинается словами: «Weil er (т. е. der Begriff) das An-und-fursichsein ist».] непосредственно есть в-себе-и-для-себя-бытие, суть сами все понятие целиком; они суть всеобщие в своей определенности и тождественны со своим отрицанием.
Это вот и есть само понятие понятия. Но это пока что есть только его понятие, или, иначе говоря, само оно есть также только понятие. Так как оно есть в-себе-и-для-себя-бытие, поскольку последнее есть положенность, или, иначе говоря, абсолютная субстанция, поскольку она обнаруживает необходимость различенных субстанций как тождество, то это тождество само должно положить то, что оно есть. Моменты движения отношения субстанциальности, через которые понятие возникло, и реальность, которую они представляют собой, находятся пока что лишь в состоянии перехода к понятию; эта реальность еще не есть собственное определение понятия, происшедшее из него; она принадлежала сфере необходимости, его же реальность может быть лишь его свободным определением – таким наличным бытием, в котором оно (понятие) тождественно с собой и моменты которого суть понятия и положены самим понятием.
Поэтому понятие, во-первых, есть истина лишь в себе; так как оно есть только нечто внутреннее, то оно есть в такой же степени только нечто внешнее. Оно есть вначале вообще нечто непосредственное, и в этом виде его моменты имеют форму непосредственных, неподвижных определений. Оно выступает как определенное понятие, как сфера голого рассудка. Так как эта форма непосредственности есть пока что еще не адекватное его природе наличное бытие (ибо понятие есть соотносящееся только с собой самим свободное), то она есть некоторая внешняя форма, в которой понятие может иметь значение не чего-то в-себе-и-для-себя сущего, а чего-то лишь положенного или субъективного. Фаза непосредственного понятия образует собой ту стадию, на которой понятие есть субъективное мышление, некоторая внешняя для предмета (der Sache) рефлексия. Эта ступень образует собой поэтому субъективность или формальное понятие. Его внешний характер проявляется в неподвижном бытии его определений, вследствие чего каждое из них выступает особо, как нечто изолированное, качественное, находящееся лишь во внешнем соотношении со своим другим. Но тождество понятия, которое именно и составляет их внутреннюю или субъективную сущность, приводит их в диалектическое движение, посредством которого снимается их обособленность друг от друга, а вместе с тем и отделение понятия от предмета, и, как их истина, возникает тотальность, образующая собой объективное понятие.
Во-вторых, понятие в своей объективности есть сам сущий в себе и для себя предмет. Своим необходимым дальнейшим определением формальное понятие обращает само себя в предмет и тем самым утрачивает характер субъективного и внешнего отношения к последнему. Или, обратно, объективность оказывается выступившим из своей внутренности и перешедшим в наличное бытие реальным понятием. В этом тождестве с предметом оно имеет тем самым собственное и свободное наличное бытие. Но это еще непосредственная, еще не отрицательная свобода. Как единое с предметом, понятие погружено в него; его различия суть объективные существования, в которых оно само снова есть нечто внутреннее. Как душа объективного наличного бытия, оно должно сообщить себе ту форму субъективности, которой оно в качестве формального понятия обладало непосредственно; таким образом, оно в форме свободного понятия, которой оно еще не обладало в объективности, выступает рядом с последней и при этом обращает то тождество с нею, которым оно, как объективное понятие, обладает в себе и для себя, также и в положенное тождество.
В этом своем завершении, в котором оно в своей объективности обладает также и формой свободы, адекватное понятие есть идея. Разум, который есть сфера идеи, есть раскрывшаяся сама себе истина, в которой понятие имеет безоговорочно адекватную себе реализацию и свободно постольку, поскольку оно познает этот свой объективный мир в своей субъективности и последнюю – в том объективном мире.
Первый отдел
Субъективность
Понятие есть, прежде всего, формальное, понятие в начале или понятие как непосредственное. В непосредственном единстве его различенность или положенность, во-первых, сама ближайшим образом проста и есть только некоторая видимость, так что моменты различия суть непосредственно тотальность понятия и образуют собой только понятие как таковое.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Философия в кармане
Георг Гегель – один из основоположников немецкой классической философии, создатель учения, построенного на принципах «абсолютного идеализма», диалектики, системности, историзма. Важнейшее место в его научной деятельности занимает произведение «Наука логики», в котором философ определяет основную задачу логики, исследует пути, ведущие к истине, а также развитие этих путей. Во второй том мы включили третью часть знаменитого труда – «Учение о понятии», в которую вошли три главных раздела: «Субъективность», «Объективность», «Идея».
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Георг Гегель
Наука логики. Том 2
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
III. Учение о понятии
Предисловие
Эта часть логики, содержащая в себе учение о понятии и составляющая третью часть целого, выпускается под особым названием «Система субъективной логики»; мы это делаем для удобства тех друзей этой науки, которые привыкли более интересоваться рассматриваемыми здесь материями, входящими в состав обычной так называемой логики, чем теми дальнейшими логическими предметами, о которых мы трактовали в первых двух частях. По отношению к предыдущим частям я мог притязать на снисхождение справедливых судей ввиду малого числа подготовительных работ, которые могли бы доставить мне опору, материалы и путеводную нить для движения вперед. Выпуская настоящую часть, я смею притязать на снисхождение скорее по противоположному основанию, так как для логики понятия имеется налицо вполне готовый и отвердевший, можно сказать, окостеневший материал, и задача состоит в том, чтобы привести его в текучее состояние и снова возжечь живое понятие в таком мертвом материале. Если имеются свои трудности в предприятии построить в пустынной местности новый город, то в тех случаях, когда дело идет о новой распланировке старого, прочно построенного города, сохранившегося благодаря тому, что он никогда не оставался бесхозяйным и необитаемым, нет, правда, недостатка в материале, но зато встречаются тем большие препятствия другого рода; при этом приходится, между прочим, решиться не делать никакого употребления из значительной части того готового материала, который, вообще говоря, признается ценным.
Но в первую очередь я должен сослаться в качестве извинения несовершенства выполнения на величие самого предмета. Ибо какой предмет возвышеннее для познания, чем сама истина[1 - «Понятие» рассматривается Гегелем как та «конкретная тотальность» определений мысли или то «целое», которое и составляет истину, согласно известному положению Гегеля о том, что «das Wahre ist das Ganze», причем это «целое» мыслится у Гегеля как некоторый процесс самостановления, как некоторое развитие или развертывание (см. Предисловие к «Феноменологии духа», стр. 14 в немецком издании Лассона; стр. 8 в русском переводе под ред. Радлова). Поэтому именно здесь, в предисловии к «Учению о понятии», Гегель и определяет предмет логики как самоё истину (die Wahrheit selbst). Ср. замечание Энгельса о том, что Гегель в ряде своих произведений, и в особенности в «Логике», подчеркивает, что истина есть процесс (Engels, L. Feuerbach, Moskau 1932, S. 19).Немецкое слово «Begriff» очень удобно для того, чтобы толковать его так, как это делает Гегель, т. е. в смысле тотальности определений или совокупности всех моментов рассматриваемого предмета: «Begriff» происходит от глагола «begreifen», который означает «обнимать собою», «охватывать воедино», а затем «понимать, постигать умом». От глагола «begreifen» происходит, далее, существительное «Inbegriff», означающее «совокупность, суть, содержание, сущность». У Гегеля слово «Begriff» нередко употребляется в смысле, близком к значению слова «Inbegriff». Вообще, «Begriff» имеет у Гегеля по преимуществу объективное значение (объективное в смысле объективного и абсолютного идеализма), в отличие от того обычного субъективного смысла этого слова, который имеет в виду «понятие» как идею, образуемую человеческим умом, как умственное отображение предмета в человеческом сознании. Например, на стр. 82 Гегель пишет: «понятие есть ушедшая внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи». Ср. замечание Энгельса: «в суждении понятия о субъекте высказывается, в какой мере он соответствует своей всеобщей природе или, как говорит Гегель, своему понятию» (Engels, Anti-Duhring und Dialektik der Natur, M. – L. 1935, S. 662).]. Однако сомнение насчет того, не нуждается ли в извинении именно этот предмет, не вполне неуместно, если вспомним тот смысл, в котором Пилат задал вопрос: что есть истина? – как говорит поэт[2 - Клопшток в поэме «Мессиада», песнь 7-я.], «с миной светского человека, близоруко, но с улыбкой осуждающего серьезное отношение к делу». В таком случае этот вопрос заключает в себе тот смысл (на который можно смотреть, как на момент светскости) и напоминание о том, что цель познания истины есть нечто такое, от чего, мол, как известно, давно отказались, с чем давно покончили, и что недостижимость истины есть, дескать, нечто общепризнанное также и среди профессиональных философов и логиков. Но если в наше время вопрос религии о ценности вещей, воззрений и действий, который по своему содержанию имеет тот же смысл, все более и более отвоевывает обратно свое право на существование, то и философия должна, конечно, надеяться, что уже больше не будут находить очень странным, если она снова, прежде всего в своей непосредственной области, будет настаивать на своей истинной цели и, после того как она опустилась до уровня других наук, уподобившись им по своим приемам и отсутствию притязания на истину, будет снова стремиться подняться к этой цели. Извиняться за эту попытку, собственно говоря, неизвинительно; но для извинения за несовершенство ее осуществления я разрешу себе еще заметить, что мои служебные дела и другие личные обстоятельства дозволяли мне лишь спорадические занятия в области такой науки, которая требует и достойна непрерываемых и нераздельных усилий.
Нюрнберг, 21 июля 1816 г.
О понятии вообще
Указать непосредственно, в чем состоит природа понятия, так же мало возможно, как невозможно установить непосредственно понятие какого бы то ни было другого предмета. Может, пожалуй, казаться, что для указания понятия какого-либо предмета уже предполагается в качестве предпосылки логическое и что поэтому последнее уже не может само, в свою очередь, ни иметь своей предпосылкой что-нибудь другое, ни быть чем-то выводным, подобно тому как в геометрии логические предложения в том виде, как они выступают в применении к величине и употребляются в этой науке, предпосылаются ей в форме аксиом, не выведенных и не выводимых определений познания. Но хотя мы должны смотреть на понятие не только как на субъективную предпосылку, а как на абсолютную основу, оно все же может быть таковой лишь постольку, поскольку оно сделало себя основой. Абстрактно-непосредственное есть, правда, нечто первое; но, как абстрактное, оно есть скорее нечто опосредствованное, основу которого, таким образом, мы, если желаем постигнуть его в его истине, еще должны отыскать. Эта основа, хотя она и должна поэтому быть чем-то непосредственным, должна все же быть этим непосредственным лишь таким образом, что она сделала себя непосредственной через снятие опосредствования.
Взятое с этой стороны понятие должно быть рассматриваемо прежде всего вообще как третье к бытию и сущности, к непосредственному и рефлексии. Бытие и сущность суть постольку моменты его становления; понятие же есть их основа и истина, как то тождество, в котором они затонули и содержатся. Они в нем содержатся, так как оно есть их результат, но содержатся уже не как бытие и сущность; это определение они имеют лишь постольку, поскольку они еще не возвратились в это их единство.
Объективная логика, рассматривающая бытие и сущность, составляет поэтому, собственно говоря, генетическую экспозицию понятия. Говоря точнее, уже субстанция представляет собой реальную сущность или сущность, поскольку она соединилась с бытием и вступила в действительность. Поэтому понятие имеет своей непосредственной предпосылкой субстанцию, она есть в себе то, что понятие есть как проявившееся. Диалектическое движение субстанции через причинность и взаимодействие есть поэтому непосредственный генезис понятия и изображает ход становления последнего. Но его становление, как и повсюду становление, имеет то значение, что оно есть рефлексия переходящего в свое основание и что кажущееся сперва другим, в которое перешло первое, составляет истину этого первого. Таким образом, понятие есть истина субстанции, а так как необходимость есть определенный способ отношения субстанции, то свобода оказывается истиной необходимости и способом отношения понятия.
Специально свойственным субстанции, необходимым дальнейшим ее определением служит полагание того, что есть в себе и для себя; и вот понятие есть абсолютное единство бытия и рефлексии, состоящее в том, что в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь благодаря тому, что оно есть равным образом рефлексия или положенность, и что положенность есть в-себе-и-для-себя-бытие. Этот абстрактный результат находит себе разъяснение в изображении его конкретного генезиса; оно содержит в себе природу понятия; но оно должно было предшествовать рассмотрению последнего. Главные моменты этой экспозиции (рассмотренной подробно во второй книге «Объективной логики») должны быть поэтому здесь вкратце резюмированы.
Субстанция есть абсолютное, есть сущее в себе и для себя действительное: в себе – как простое тождество возможности и действительности, абсолютная сущность, содержащая внутри себя всяческую действительность и возможность; для себя – это тождество как абсолютная мощь или безоговорочно соотносящаяся с собой отрицательность. Движение субстанциальности, положенное через эти моменты, состоит в том, что:
1. Субстанция, как абсолютная мощь или соотносящаяся с собою отрицательность, дифференцирует себя так, что становится некоторым отношением, в котором они (моменты) суть сперва лишь простые моменты как субстанции и как первоначальные предпосылки. Определенное отношение между ними есть отношение между некоторой пассивной и некоторой активной субстанцией – между первоначальностью простого в-себе-бытия, которое, лишенное мощи, есть не полагающее само себя, а лишь первоначальная положенность, и соотносящеюся с собой отрицательностью, которая как таковая положила себя как другое и соотносится с этим другим. Это другое именно и есть пассивная субстанция, которую она в первоначальности своей мощи пред-положила себе как условие. Это пред-полагание следует понимать так, что движение самой субстанции совершается ближайшим образом под формой одного из моментов ее понятия, под формой в-себе-бытия, что определенность одной из находящихся между собой в отношении субстанций есть вместе с тем и определенность самого этого отношения.
2. Вторым моментом служит для-себя-бытие, или, иначе говоря, он состоит в том, что мощь полагает себя как соотносящую себя с самой собой отрицательность и тем самым вновь снимает пред-положенное. Активная субстанция есть причина; она действует; это означает, что она есть теперь полагание, подобно тому как перед тем она была пред-полаганием, означает, что: а) мощи сообщается также и видимость мощи, положенности также и видимость положенности. То, что в пред-полагании было первоначальным, становится в причинности через соотношение с другим тем, что оно есть в себе; причина производит действие, и притом в некоторой другой субстанции; она есть теперь мощь по отношению к некоторому другому; постольку она являет себя как причина, но есть таковая лишь через этот процесс явления. b) В пассивную субстанцию привходит действие, вследствие чего она теперь также и являет себя как положенность, но есть пассивная субстанция впервые лишь в этом процессе.
3. Но здесь имеется еще нечто большее, чем только это явление, а именно: а) причина действует на пассивную субстанцию, изменяет (делает другим) ее определение; но последнее есть положенность, в ней нет ничего иного, что можно было бы изменять; а то, другое, определение, которое она получает, есть определение причинности; пассивная субстанция становится, следовательно, причиной, мощью и деятельностью. b) Действие полагается в ней причиной; но положенное причиной есть сама тождественная с собой в процессе действия причина; эта-то причина и ставит себя на место пассивной субстанции. Равным образом, что касается активной субстанции, то: а) воздействие есть перевод причины в действие, в ее другое, в положенность, и b) в действии причина обнаруживает себя тем, что? она есть; действие тождественно с причиной, а не есть некоторое другое; причина, следовательно, обнаруживает в процессе действия положенность как то, что она есть по существу. Таким образом, каждое из этих определений[3 - Т. е. причина и действие, активная субстанция и пассивная субстанция.] становится противоположностью самого себя, и это имеет место с обеих сторон, т. е. как со стороны тождественного, так и со стороны отрицательного соотнесения с ним его другого; но каждое становится этой противоположностью так, что другое определение, следовательно, тоже каждое, остается тождественным с самим собою. Но и то и другое, и тождественное и отрицательное соотнесение, суть одно и то же; субстанция тождественна с самой собой лишь в своей противоположности, и это составляет абсолютное тождество субстанций, положенных как две. Активная субстанция проявляется как причина или первоначальная субстанциальность через процесс действия, т. е. когда она полагает себя как противоположность самой себя, что вместе с тем есть снятие ее пред-положенного инобытия, пассивной субстанции. Обратно, через процесс воздействия положенность проявляется как положенность, отрицательное – как отрицательное, и, стало быть, пассивная субстанция – как соотносящаяся с собой отрицательность; и причина в этом другом себя самой безоговорочно сливается лишь с собою. Следовательно, через это полагание пред-положенная или сущая в себе первоначальность становится для себя; но это в-себе-и-для-себя-бытие имеется лишь благодаря тому, что это полагание есть равным образом и снятие пред-положенного, или, иначе говоря, благодаря тому, что абсолютная субстанция возвратилась к себе самой лишь из своей положенности и в своей положенности и потому абсолютна. Это взаимодействие есть тем самым снова снимающее себя явление, заявление той видимости причинности, в которой причина имеет бытие как причина, что она есть видимость. Эта бесконечная рефлексия в самого себя, состоящая в том, что в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь благодаря тому, что оно есть положенность, есть завершение субстанции. Но это завершение не есть уже сама субстанция, оно есть нечто более высокое, понятие, субъект. Переход отношения субстанциальности совершается по его собственной имманентной необходимости и есть не что иное, как проявление самой этой необходимости, проявление того, что понятие есть истина субстанциальности и что свобода есть истина необходимости.
Уже ранее, во второй книге объективной логики (стр. 432 и сл., примечание), было упомянуто, что философия, которая становится и продолжает стоять на точке зрения субстанции, есть система Спинозы. Там же мы вместе с тем вскрыли неудовлетворительность этой системы как по форме, так и по содержанию. Но иное дело опровержение этой системы. Относительно опровержения какой-либо философской системы мы равным образом сделали в другом месте то общее замечание, что при этом следует отвергнуть превратное представление, будто система должна быть изображена как совершенно ложная, а истинная система, напротив, как лишь противоположная ложной. Из той связи, в которой здесь выступает система Спинозы, само собой выясняется настоящая точка зрения на нее и на вопрос о том, истинна ли она или ложна. Отношение субстанциальности породило себя через природу сущности; это отношение, равно как и его расширение до целой системы, есть поэтому необходимая точка зрения, на которую становится абсолютное. На такую точку зрения не следует поэтому смотреть как на некоторое мнение, как на субъективный, произвольный способ представления и мышления некоторого индивидуума, как на заблуждение спекуляции; напротив, последняя на своем пути необходимо перемещается на эту точку зрения, и постольку эта система совершенно истинна. Но эта точка зрения не есть наивысшая. Тем не менее система постольку не может рассматриваться как ложная, требующая опровержения и могущая быть опровергнутой, а в ней следует рассматривать как ложное лишь признание ее точки зрения за наивысшую. Истинная система не может поэтому и находиться к ней в таком отношении, что она лишь противоположна последней; ибо в таком случае эта противоположная система сама была бы односторонней. Напротив, как более высокая, она должна содержать в себе низшую.
Далее, опровержение не должно приходить извне, т. е. не должно исходить из допущений, лежащих вне опровергаемой системы, допущений, которым последняя не соответствует. В этом случае опровергаемой системе нужно только не признавать этих допущений; недостаток есть недостаток лишь для того, кто исходит из основанных на них потребностей и требований. В этом смысле была высказана мысль, что для того, кто не решил для себя положительно вопроса о свободе и самостоятельности самосознательного субъекта и не исходит из этой предпосылки, не может иметь места никакое опровержение спинозизма[4 - Гегель имеет в виду высказывания Фихте, который в «Первом введении в наукоучение» (1797) писал: «Всякий последовательный догматик – неизбежно фаталист; он не отрицает того факта сознания, что мы считаем себя свободными; ибо это было бы противно разуму; но он доказывает из своего принципа ложность этого мнения. Он совершенно отрицает самостоятельность «Я», на которой строит свое учение идеалист, и делает его простым продуктом вещей, случайной принадлежностью мира; последовательный догматик – неизбежно материалист. Он мог бы быть опровергнут только из постулата свободы и самостоятельности «Я»: но это – то самое, что он отрицает» (J. G Fichte, Werke, hrsg. v. Medicus, Bd III, S. 14–15; в русском издании «Избранных сочинений» Фихте, т. I, M. 1916, это место находится на стр. 421). То, что под «последовательным догматизмом» Фихте имел в виду философию Спинозы, видно из многих других мест его сочинений, например из следующего места в «Основах общего наукоучения» (1794): «Поскольку догматизм может быть последовательным, спинозизм является наиболее последовательным его продуктом» [Fichte, Werke, Bd. I, S. 314; в русском издании – стр. 96).До Фихте о строгой внутренней последовательности спинозизма и о невозможности его опровергнуть без обращения к другим принципам говорил Ф.-Г. Якоби.]. Да и, кроме того, такая высокая и в самой себе уже такая богатая точка зрения, как отношение субстанциальности, не игнорирует эти допущения, а тоже содержит их в себе: одним из атрибутов спинозовской субстанции служит мышление. Эта точка зрения, наоборот, умеет растворить определения, под которыми эти допущения противоречат ей, и вовлечь их в себя, так что они выступают в этой же системе, но в соответствующих ей модификациях. Нерв внешнего опровержения покоится в таком случае лишь на том, чтобы со своей стороны упорно и твердо настаивать на противоположных формах указанных допущений, например на абсолютном самодовлении мыслящего индивидуума – в противоположность той форме, в какой мышление полагается тождественным с протяжением в абсолютной субстанции. Истинное опровержение должно вникнуть в сильную сторону противника и стать в диапазоне этой силы; нападать же на него вне его сферы и одерживать над ним верх там, где его нет, не помогает делу. Единственное опровержение спинозизма может поэтому состоять лишь в том, что его точка зрения признается, во-первых, существенной и необходимой, но что, во-вторых, эта точка зрения, исходя из нее же самой, поднимается на уровень более высокой точки зрения. Отношение субстанциальности, рассматриваемое всецело лишь в себе самом и само по себе, переводит себя в свою противоположность, в понятие. Поэтому содержащаяся в предыдущей книге экспозиция субстанции, приводящая к понятию, есть единственное и истинное опровержение спинозизма. Она есть раскрытие субстанции, а это раскрытие есть генезис понятия, главные моменты которого резюмированы выше. Единство субстанции есть ее отношение необходимости; но последняя есть, таким образом, лишь внутренняя необходимость; полагая себя через момент абсолютной отрицательности, она становится проявившимся или положенным тождеством и тем самым свободой, которая есть тождество понятия. Понятие, как получающаяся из взаимодействия тотальность, есть единство обеих взаимодействующих субстанций, но такое единство, при котором они отныне принадлежат свободе, поскольку они теперь уже обладают тождеством не как чем-то слепым, т. е. внутренним, а имеют, по существу, определение быть видимостью или моментами рефлексии; вследствие чего каждая столь же непосредственно слилась со своим другим или со своей положенностью и каждая содержит свою положенность внутри себя самой и, стало быть, положена в своем другом безоговорочно лишь как тождественная с собой.
В понятии открылось поэтому царство свободы. Понятие есть свободное (das Freie), потому что то в-себе-и-для-себя-сущее тождество, которое составляет необходимость субстанции, выступает вместе с тем как снятое или как положенность, а эта положенность, как соотносящаяся с самой собой, как раз и есть то тождество. Темнота друг для друга находящихся в причинном отношении субстанций исчезла, ибо первоначальность их самостоятельного существования перешла в положенность и благодаря этому стала прозрачной для себя самой ясностью; первоначальная вещь[5 - В немецком тексте: «die ursprungliche Sache». Гегель намекает на этимологию немецкого слова «Ur-sache» (причина; буквально: перво-вещь).] первоначальна лишь постольку, поскольку она есть причина самой себя, а это и есть субстанция, освобожденная, чтобы стать понятием.
Из этого для понятия сразу же вытекает следующее, более детальное определение. Так как в-себе-и-для-себя-бытие непосредственно выступает как положенность, то понятие в своем простом соотношении с самим собой есть абсолютная определенность, но такая определенность, которая, как соотносящаяся только с собой, есть вместе с тем непосредственно простое тождество. Но это соотношение определенности с самой собой, как ее слияние с собой, есть равным образом и отрицание определенности, и понятие, как сказанное равенство с самим собой, есть всеобщее. Но это тождество имеет в равной мере и определение отрицательности; оно есть отрицание или определенность, которая соотносится с собой; взятое, таким образом, понятие есть единичное. Каждое из них есть тотальность, каждое содержит в себе определение другого, и поэтому указанные тотальности суть в такой же мере безоговорочно лишь одна тотальность, в какой это единство есть расщепление себя самого, превращение в свободную видимость указанной двойности – двойности, выступающей в различии единичного и всеобщего как совершенная противоположность, которая, однако, настолько есть видимость, что когда постигается и высказывается одно, то вместе с этим непосредственно постигается и высказывается другое.
Только что изложенное должно быть рассматриваемо как понятие понятия. Может показаться, что это понятие отступает от того, что обычно понимают под понятием, и нам можно было бы предъявить требование, чтобы мы указали, каким образом то, что здесь получилось как понятие, содержится в других представлениях или объяснениях. Однако, с одной стороны, здесь не может идти речь о подтверждении, основанном на авторитете обычного понимания; в науке понятия его содержание и определение может быть удостоверено исключительно только посредством имманентной дедукции, содержащей его генезис, и эта дедукция уже лежит позади нас. С другой же стороны, должно быть действительно возможно распознать в том, что обычно предлагается как понятие понятия, дедуцированное здесь понятие. Но не так-то легко найти то, что другие говорили о природе понятия. Ибо, по большей части, они вовсе не занимаются отыскиванием этой природы и предполагают, что когда говорят о понятии, то каждый уже само собой понимает, о чем идет речь. В Новейшее время можно было тем более считать себя освобожденными от хлопот с понятием, что, как некоторое время признавалось хорошим тоном всячески поносить силу воображения, а затем и память, так теперь в философии уже довольно давно сделалось привычкой, сохранившейся отчасти еще и поныне, говорить всевозможные дурные вещи о понятии, делать его, эту вершину мышления, предметом презрения и, напротив, считать наивысшей вершиной научности и моральности непостижимое и отсутствие постижения[6 - Гегель, по-видимому, имеет в виду иррационализм Фридриха-Генриха Якоби (1743–1819). Ср. замечания Гегеля об этом философе в «Малой логике» (Гегель, Соч., т. I, стр. 114–118) и в «Истории философии» (т. XI, стр. 405–415).].
Я ограничиваюсь здесь одним замечанием, которое может послужить к пониманию развитых здесь понятий и облегчить читателю ориентироваться в них. Понятие, поскольку оно достигло такого существования, которое само свободно, есть не что иное, как «я» или чистое самосознание. Я, правда, обладаю понятиями, т. е. определенными понятиями, но «я» есть само чистое понятие, которое как понятие достигло наличного бытия. Поэтому, если я напоминаю об основных определениях, составляющих природу «я», то я имею право предполагать, что напоминаю о чем-то знакомом, т. е. привычном для представления. Но «я» есть, во-первых, это чистое, соотносящееся с собой единство, и оно таково не непосредственно, а только тогда, когда оно абстрагирует от всякой определенности и всякого содержания и возвращается к свободе безграничного равенства с самим собой. Взятое таким образом, оно есть всеобщность – единство, которое лишь через то отрицательное отношение, которое выступает как абстрагирование, есть единство с собой и вследствие этого содержит в себе растворенной всякую определенность. Во-вторых, «я» как соотносящаяся с самой собой отрицательность есть столь же непосредственно единичность, абсолютная определенность, противопоставляющая себя другому и исключающая это другое, индивидуальная личность. Указанная абсолютная всеобщность, которая непосредственно есть равным образом и абсолютная единичность, и такое в-себе-и-для-себя-бытие, которое безоговорочно есть положенность и есть это в-себе-и-для-себя-бытие лишь через единство с положенностью, составляют как природу «я», так и природу понятия; в том и в другом нельзя ничего постигнуть, если не мыслить указанных обоих моментов одновременно и в их абстрактности, и в их совершенном единстве.
Когда, как это обычно принято, говорят о рассудке, которым я обладаю, то под этим понимают некоторую способность или свойство, находящееся в таком отношении к «я», в каком свойство вещи находится к самой вещи, – к некоторому неопределенному субстрату, который не есть истинное основание своего свойства и то, что определяет его. Согласно этому представлению, я обладаю понятиями и понятием точно так же, как я обладаю сюртуком, цветом и другими внешними свойствами. Кант пошел дальше этого внешнего отношения рассудка (взятого как способность понятий) и самих понятий к «я». К глубочайшим и правильнейшим взглядам, находящимся в «Критике разума», принадлежит взгляд, признающий, что единство, составляющее сущность понятия, есть первоначально-синтетическое единство апперцепции, единство «я мыслю» (des: Ich denke) или самосознания. Это положение образует собой так называемую трансцендентальную дедукцию категорий; но указанная дедукция издавна считалась одной из труднейших частей кантовской философии – несомненно, не почему-либо иному, как потому, что она требует от нас, чтобы мы пошли дальше голого представления об отношении, в котором «я» и рассудок или понятия находятся к какой-нибудь вещи и ее свойствам или акциденциям, – чтобы мы перешли к мысли. Объект, говорит Кант («Критика чистого разума», стр. 137, 2-е изд.), есть то, в понятии чего объединено многообразие некоторого данного созерцания, а всякое объединение представлений требует единства сознания в их синтезе. Следовательно, это единство сознания есть то, что одно только и составляет отнесение представлений к некоторому предмету и, стало быть, их объективную значимость, и то, на чем покоится сама возможность рассудка. От этого единства Кант отличает субъективное единство сознания, единство представления – вопрос о том, сознаю ли я некоторое многообразное как одновременное или как последовательное, что, дескать, зависит от эмпирических условий. Напротив, принципы объективного определения представлений должны быть, по Канту, выведены исключительно только из основоположения трансцендентального единства апперцепции. Посредством категорий, представляющих собой эти объективные определения, многообразие данных представлений определяется так, что оно приводится к единству сознания. Согласно этому учению, единство понятия есть то, через что нечто есть не голое определение чувства, созерцание или голое представление, а объект, каковое объективное единство есть единство «я» с самим собой. Постижение какого-либо предмета состоит в самом деле не в чем ином, как в том, что «я» усваивает себе этот предмет, пронизывает его и приводит его в свою собственную форму, т. е. во всеобщность, которая есть непосредственно определенность, или в определенность, которая есть непосредственно всеобщность. В созерцании или даже в представлении предмет есть еще нечто внешнее, чуждое. Через постижение то в-себе-и-для-себя-бытие, которым он обладает в процессе созерцания и представления, превращается в некоторую положенность; «я» пронизывает его мыслительно. Но лишь в том виде, в каком он есть в мышлении, он впервые есть в себе и для себя; а в том виде, в каком он выступает в созерцании или в представлении, он есть явление; мышление снимает ту его непосредственность, с которой он сначала предстает перед нами, и делает его, таким образом, положенностью; но эта его положенность есть его в-себе-и-для-себя-бытие или его объективность. Этой объективностью предмет, стало быть, обладает в понятии, и последнее есть то единство самосознания, в которое он был вобран; его объективность или понятие само есть поэтому не что иное, как природа самосознания, и не обладает никакими другими моментами или определениями, кроме тех, какими обладает само «я».
Согласно этому то обстоятельство, что для того, чтобы познать, что такое понятие, мы напоминаем о природе «я», оправдывается одним из главных положений кантовской философии. Но и наоборот, для этого необходимо, чтобы предварительно было постигнуто понятие «я» так, как оно было только что изложено нами. Если остановиться на голом представлении о «я», как оно предносится нашему обычному сознанию, то «я» есть лишь простая вещь (именуемая также и душой), которой понятие присуще как некоторое достояние или свойство. Это представление, не дающее понимания ни «я», ни понятия, не может служить к тому, чтобы облегчить понимание понятия или приблизить к нему.
Вышеприведенное учение Канта содержит в себе еще две стороны, касающиеся понятия и делающие необходимыми некоторые дальнейшие замечания. Во-первых, ступени рассудка у Канта предпосланы ступени чувства и созерцания; и одно из существенных положений кантовой трансцендентальной философии состоит в том, что понятия без созерцания пусты и что они обладают значимостью исключительно только как соотношения данного в созерцании многообразия. Во-вторых, Кант указывает на понятие как на объективное в познании и тем самым как на истину. Но, с другой стороны, понятие признается у Канта чем-то только субъективным, из чего нельзя выколупать реальность, под которой, ввиду того что она противопоставляется Кантом субъективности, следует разуметь объективность; и вообще, понятие и логическое объявляются у Канта чем-то только формальным, которое, ввиду того, что оно отвлекается от содержания, не содержит в себе истины.
Что касается, во-первых, указанного отношения рассудка или понятия к предпосланным ему ступеням, то все зависит от того, какая наука занимается определением формы этих ступеней. В нашей науке, как чистой логике, эти ступени суть бытие и сущность. В психологии рассудку предпосылаются чувство и созерцание, а затем вообще представление. В феноменологии духа, как учении о сознании, мы совершили восхождение к рассудку по ступеням чувственного сознания, а затем по ступеням восприятия. Кант предпосылает ему лишь чувство и созерцание. В какой мере эта лестница, прежде всего, неполна, это он уже сам дает понять тем, что присоединяет в виде приложения к трансцендентальной логике или учению о рассудке еще рассуждение о рефлективных понятиях, – область, лежащую между созерцанием и рассудком или между бытием и понятием.
Обращаясь к самой сути дела, следует, во-первых, заметить, что все эти образы созерцания, представления и т. п. принадлежат самосознательному духу, который как таковой не рассматривается в науке логики. Чистые определения бытия, сущности и понятия образуют собой, правда, основу и внутренний простой остов также и форм духа; дух, как созерцающий, а равным образом и как чувственное сознание, имеет определенность непосредственного бытия, а дух, как представляющий, и также дух, как воспринимающее сознание, поднялся от бытия на ступень сущности или рефлексии. Но эти конкретные образы столь же мало касаются науки логики, как и те конкретные формы, которые логические определения принимают в природе, а именно: пространство и время, затем наполненное пространство и время, как неорганическая природа, и, наконец, органическая природа. Равным образом и понятие здесь следует рассматривать не как акт самосознательного рассудка, не как субъективный рассудок, а как понятие в себе и для себя, образующее ступень как природы, так и духа. Жизнь или органическая природа есть та ступень природы, на которой выступает понятие, но как слепое, не постигающее само себя, т. е. не мыслящее; как мыслящее оно присуще лишь духу. Но логическая форма понятия независима как от того недуховного, так и от этого духовного вида понятия; об этом мы уже сделали необходимое предварительное указание во введении. Это такое вразумление, которое не должно быть оправдано впервые в рамках логики, а должно быть твердо уяснено еще до нее.
Но каковы бы ни были формы, предшествующие понятию, важно, во-вторых, знать, как мыслится отношение к ним понятия. Это отношение как в обычном психологическом представлении, так и в кантовой трансцендентальной философии понимается так, что эмпирическая материя, многообразие созерцания и представления существует сначала само по себе и что затем рассудок подходит к нему, вносит в него единство и возводит его посредством абстрагирования в форму всеобщности. Рассудок есть, таким образом, некоторая сама по себе пустая форма, которая отчасти получает реальность лишь через указанное данное содержание, отчасти же абстрагирует от него, а именно, опускает его как нечто непригодное, но непригодное лишь для понятия. В том и другом действиях понятие не есть нечто независимое, не есть существенное и истинное содержание этой предшествующей ему материи, представляющей собой, наоборот, реальность в себе и для себя, которую, дескать, невозможно выколупать из понятия.
Правда, нужно согласиться с тем, что понятие как таковое еще не полно: оно должно еще возвести себя в идею, которая только и есть единство понятия и реальности, как это должно получиться в дальнейшем путем рассмотрения природы самого понятия. Ибо реальность, которую оно сообщает себе, должна быть не подобрана, как нечто внешнее, а выведена согласно требованию науки из него самого. Но поистине не упомянутая выше, данная через созерцание и представление материя должна быть выдвинута в противоположность понятию как реальное. «Это только понятие», – так говорят обыкновенно, противопоставляя понятию, как нечто более превосходное, не только идею, но и чувственное, пространственное и временно?е осязаемое существование. Абстрактное считается в таком случае по той причине менее значительным, чем конкретное, что из него, дескать, опущено так много указанного рода материи. Абстрагирование получает согласно этому мнению тот смысл, что из конкретного вынимается (лишь для нашего субъективного употребления) тот или иной признак, так что с опущением стольких других свойств и модификаций предмета их не лишают ничего из их ценности и достоинства, а они по-прежнему оставляются как реальное, лишь находящееся на другой стороне, сохраняют по-прежнему полное свое значение, и лишь немощь рассудка приводит согласно этому взгляду к тому, что ему невозможно вобрать в себя все это богатство и приходится довольствоваться скудной абстракцией. Если данная материя созерцания и многообразие представления понимаются как реальное в противоположность мыслимому и понятию, то это есть такой взгляд, предварительный отказ от которого представляет собой не только условие философствования, но уже предполагается религией. Каким образом возможна потребность в религии и чувство религии, если мимолетное и поверхностное явление чувственного и единичного все еще считается истинным? Философия же дает нам постигнутое в понятии усмотрение того, как обстоит дело с реальностью чувственного бытия, и предпосылает рассудку вышеуказанные ступени чувства и созерцания, чувственного сознания и т. п. постольку, поскольку они суть в ходе его становления его условия, причем, однако, они суть его условия только в том смысле, что из их диалектики и ничтожности понятие возникает как их основание, а не в том смысле, что оно, мол, обусловлено их реальностью. Поэтому абстрагирующее мышление должно рассматриваться не просто как оставление в стороне чувственной материи, которая при этом не терпит, дескать, никакого ущерба в своей реальности; оно скорее есть снятие последней и сведение ее как простого явления к существенному, проявляющемуся только в понятии. Конечно, если та сторона конкретного явления, которую мы, согласно рассматриваемому воззрению, вбираем в понятие, должна служить лишь признаком или знаком, то она и в самом деле может быть тоже каким-нибудь лишь чувственным, единичным определением предмета, которое из-за какого-либо внешнего интереса избирается среди других, выделяется из них и имеет ту же природу, что и прочие.
Главное недоразумение, имеющее здесь место, заключается в том мнении, будто естественный принцип или то начало, которое служит исходным пунктом в естественном развитии или в истории развивающегося индивидуума, есть истинное и первое также и в понятии. Созерцание или бытие суть, правда, по природе первое или условие для понятия, но это отнюдь не значит, что они суть безусловное в себе и для себя. В понятии скорее снимается их реальность и, стало быть, вместе с тем снимается и та видимость, которую они имели как обусловливающее реальное. Если дело идет не об истине, а лишь об истории о том, как все это происходит в представлении и являющемся мышлении, то можно, конечно, не идти дальше рассказа о том, что мы начинаем с чувств и созерцаний и что рассудок из всего их многообразия извлекает некоторую всеобщность или некоторое абстрактное и, разумеется, нуждается для этого в вышеупомянутой основе, каковая при этом абстрагировании все еще остается для представления во всей той реальности, с которой она явила себя вначале. Но философия не должна быть рассказом о том, что совершается, а должна быть познанием того, что в этом совершающемся истинно, и из истинного она должна постигнуть далее то, что в рассказе выступает как простое событие (Geschehen).
Если при поверхностном представлении о том, что такое понятие, всякое многообразие стоит вне понятия, и последнему присуща лишь форма абстрактной всеобщности или пустого рефлективного тождества, то можно прежде всего напомнить уже о том, что и независимо от сказанного всегда определительно требуется для указания какого-нибудь понятия или для дефиниции, чтобы к роду, который уже сам, собственно говоря, не есть чисто абстрактная всеобщность, присоединилась также и специфическая определенность. Если мы только сообразим в некоторой мере мыслительно, что? это означает, то мы убедимся, что тем самым различение рассматривается как столь же существенный момент понятия. Кант положил начало этому рассмотрению той в высшей степени важной мыслью, что существуют априорные синтетические суждения. Этот первоначальный синтез апперцепции представляет собой один из глубочайших принципов спекулятивного развертывания; он содержит в себе первый шаг к истинному пониманию природы понятия и совершенно противоположен вышеупомянутому пустому тождеству или абстрактной всеобщности, которая не есть внутри себя синтез. Однако этому первому шагу мало соответствует дальнейшая разработка. Уже выражение «синтез» легко снова приводит к представлению о некотором внешнем единстве и голом сочетании таких элементов, которые сами по себе раздельны. Затем, кантовская философия остановилась только на психологическом рефлексе понятия и снова возвратилась к утверждению о непрекращающейся обусловленности понятия некоторым многообразием созерцания. Эта философия признала рассудочные познания и опыт некоторым являющимся содержанием не потому, что сами категории суть лишь конечные, а потому, что руководилась психологическим идеализмом, тем соображением, что они суть лишь определения, происходящие из самосознания. К тому же понятие согласно учению Канта опять-таки бессодержательно и пусто без многообразия созерцания, несмотря на то что оно есть a priori некоторый синтез; а ведь поскольку оно есть синтез, оно имеет определенность и различие внутри себя самого. Поскольку эта определенность есть определенность понятия и тем самым абсолютная определенность, единичность, понятие есть основание и источник всякой конечной определенности и всякого многообразия.
То формальное положение, которое понятие занимает как рассудок, завершается в кантовом изложении природы разума. Можно было бы ожидать, что в разуме, этой наивысшей ступени мышления, понятие утратит ту обусловленность, в которой оно еще выступает на ступени рассудка, и достигнет завершенной истины. Но это ожидание не оправдывается. Так как Кант определяет отношение разума к категориям как лишь диалектическое и притом безоговорочно понимает результат этой диалектики исключительно только как бесконечное ничто, то бесконечное единство разума утрачивает еще также и синтез, а тем самым и упомянутое выше начало спекулятивного, истинно бесконечного понятия; оно становится известным, совершенно формальным, только регулятивным единством систематического употребления рассудка. Кант объявляет злоупотреблением со стороны логики то обстоятельство, что она, которая должна быть только каноном логической оценки, рассматривается как органон для образования объективных усмотрений. Понятия разума, в которых мы должны были бы ожидать более высокую силу и более глубокое содержание, уже не имеют в себе ничего конститутивного, как это еще имело место у категорий; они суть голые идеи; их-де, правда, вполне дозволительно употреблять, но эти умопостигаемые сущности, в которых, согласно докантовским воззрениям, должна была раскрываться вся истина, означают не что иное, как гипотезы, приписывать которым истину в себе и для себя было бы полным произволом и безумным дерзновением, так как они не могут встретиться ни в каком опыте. Можно ли было когда-нибудь подумать, что философия станет отрицать истину умопостигаемых сущностей потому, что они лишены пространственной и временно?й, воспринимаемой чувственностью материи?
С этим непосредственно связана та точка зрения, с которой следует вообще рассматривать понятие и назначение логики и которая в философии Канта понимается таким же образом, как это обычно делается: мы имеем в виду отношение понятия и науки о нем к самой истине. Мы уже привели выше тот пункт кантовской дедукции категорий, который гласит, что объект, в котором объединяется многообразие созерцания, есть это единство лишь через единство самосознания. Здесь, следовательно, определенно высказана объективность мышления, то тождество понятия и вещи, которое и есть истина. Подобным образом и обычно все соглашаются с тем, что когда мышление усваивает себе какой-нибудь данный предмет, то последний, вследствие этого, претерпевает некоторое изменение и превращается из чувственного в мыслимый, но что это изменение не только ничего не изменяет в его существенности, но он, напротив, истинен именно в своем понятии, в непосредственности же, в которой он дан, он есть лишь явление и случайность; что познание предмета, постигающее его в понятии, есть познание его таким, каков он в себе и для себя, и что понятие и есть сама его объективность. Однако, с другой стороны, тут вместе с тем опять-таки утверждается[7 - Имеется в виду трансцендентальная философия Канта.], что мы все же не можем познавать вещей, каковы они в себе и для себя, и что истина недоступна познающему разуму; что упомянутая выше истина, состоящая в единстве объекта и понятия, есть все же лишь явление и притом опять-таки потому, что содержание-де есть лишь многообразие созерцания. По этому поводу мы уже указали выше, что, напротив, это многообразие, поскольку оно принадлежит области созерцания в противоположность понятию, именно и снимается в понятии и что через понятие предмет приводится обратно к своей неслучайной существенности; последняя выступает в явлении, и именно поэтому явление есть не просто нечто лишенное сущности, а проявление сущности. Но ставшее вполне свободным проявление сущности и есть понятие. Эти положения, о которых мы здесь напоминаем, не суть догматические утверждения, ибо они представляют собой результаты, получившиеся сами собой из всего имманентного развития сущности. Теперешняя точка зрения, к которой привело это развитие, состоит в том, что понятие есть та форма абсолютного, которая выше бытия и сущности. Так как оказалось, что с этой стороны оно подчинило себе бытие и сущность, к которым при других исходных точках принадлежит также и чувство, созерцание и представление и которые явились его предшествующими ему условиями, и что оно есть их безусловное основание, то теперь остается еще вторая сторона, изложению которой и посвящена эта третья книга логики, а именно, остается показать, каким образом понятие внутри самого себя и из себя образует ту реальность, которая в нем исчезла[8 - Краткая, но чрезвычайно глубокая критика гегелевского учения о понятии как о «конкретной тотальности», «образующей (или «порождающей») из себя реальность», дана Марксом в третьей главе «Введения к Критике политической экономии». Маркс вышелушивает рациональное зерно, имеющееся в гегелевском учении о восхождении от абстрактного к конкретному. Он показывает, что научное мышление действительно движется от абстрактных определений к «конкретной тотальности» (Маркс даже сам употребляет несколько раз этот гегелевский термин). Но вместе с тем Маркс с гениальной силой вскрывает фундаментальную ложь в построениях Гегеля, притом ложь двоякого рода: 1) неверно, будто «реальное есть результат мышления, синтезирующего воедино свои определения внутри самого себя, углубляющегося в себя и движущегося из самого себя»: в действительности «метод восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его духовно как конкретное, а отнюдь не процесс возникновения самого конкретного»; 2) неверно, будто конкретная тотальность определений мысли является продуктом такого «понятия, которое мыслит вне созерцания и представления или над ними и само порождает себя»: в действительности эта конкретная тотальность представляет собою «продукт переработки представления и созерцания в понятия» (Marx, Zur Kritik der politischen Oekonomie, M. – L., 1934, S. 236–237). Там же Маркс показывает, что соответствие между ходом абстрактного мышления, с одной стороны, и действительным историческим процессом, идущим от простого к сложному, с другой стороны, хотя и имеет место в общем и целом, но не может быть сведено к простому тождеству, так как в действительности дело обстоит гораздо сложнее.]. Мы поэтому, конечно, согласились с тем, что познание, не идущее дальше лишь понятия чисто как такового еще неполно и дошло пока что только до абстрактной истины. Но его неполнота состоит не в том, что оно лишено той мнимой реальности, которая, дескать, дана в чувстве и созерцании, а в том, что понятие еще не сообщило себе своей собственной, из него самого порожденной реальности. В том-то и состоит выявленная в противоположность эмпирической материи и на ней, а точнее на ее категориях и определениях рефлексии, абсолютность понятия, что материя эта истинна не в том виде, в каком она является вне и до понятия, а исключительно в своей идеальности или в своем тождестве с понятием. Выведение из него реального, если это угодно называть выведением, состоит, по существу, ближайшим образом в том, что понятие в своей формальной абстрактности оказывается незавершенным и через имеющую свое основание в нем самом диалектику переходит к реальности так, что производит ее из себя, а не так, что снова возвращается к некоторой готовой, найденной в противоположность ему реальности и ищет прибежища в чем-то таком, что показало себя несущественным в явлении, потому что, мол, понятие, оглядываясь вокруг, искало лучшего, но не нашло его. Навсегда останется удивительным, что кантовская философия признала то отношение мышления к чувственному существованию, на котором она остановилась, лишь за релятивное отношение голого явления, и, хотя и допускала и утверждала их более высокое единство в идее вообще и, например, в идее некоторого созерцающего рассудка, не пошла, однако, дальше того релятивного отношения и дальше утверждения, что понятие всецело отделено и остается отделенным от реальности; тем самым она признала истиной то, что сама объявила конечным познанием, а то, что она признала истиной и определенное понятие чего она установила, объявила чем-то непомерным, недозволительным и лишь мысленным, а не реальным (Gedankendinge).
Так как здесь идет ближайшим образом речь об отношении логики (а не науки вообще) к истине, то следует далее согласиться также и с тем, что логика, как формальная наука, не может и не должна содержать в себе также и той реальности, которая составляет содержание дальнейших частей философии, наук о природе и духе. Эти конкретные науки, несомненно, имеют дело с более реальной формой идеи, чем логика, но вместе с тем не в том смысле, что они возвращаются опять к той реальности, от которой уже отказалось сознание, возвысившееся от своего явления до науки, или же к употреблению таких форм (каковы категории и определения рефлексии), конечность и неистинность которых выяснились в логике. Напротив, логика показывает, как идея поднимается на такую ступень, где она становится творцом природы и переходит к форме конкретной непосредственности, понятие которой, однако, снова разрушает и этот образ для того, чтобы стать самим собой в виде конкретного духа. По сравнению с этими конкретными науками, имеющими и сохраняющими, однако, в себе логическое или понятие в качестве внутреннего образователя, точно так же как оно [логическое] было их подготовителем и прообразом, сама логика есть, конечно, формальная наука, но наука об абсолютной форме, которая есть внутри себя тотальность и содержит в себе чистую идею самой истины. Эта абсолютная форма имеет в себе самой свое содержание или свою реальность; так как понятие не есть тривиальное, пустое тождество, то оно имеет в моменте своей отрицательности или абсолютного процесса определения различенные определения; содержание есть вообще не что иное, как такие определения абсолютной формы, есть положенное самой этой формой и потому адекватное ей содержание. Эта форма имеет поэтому совершенно иную природу, чем обычно приписываемая логической форме. Она уже сама по себе есть истина, так как это содержание адекватно своей форме или эта реальность адекватна своему понятию, и притом она есть чистая истина, так как определения этого содержания еще не имеют формы абсолютного инобытия или абсолютной непосредственности. Когда Кант («Критика чистого разума», стр. 83) начинает обсуждать в отношении логики старый и знаменитый вопрос: что есть истина? – он пренебрежительно допускает, прежде всего, как нечто тривиальное, номинальное объяснение, гласящее, что она есть согласие познания с его предметом[9 - В действительности это место находится на стр. 82 второго издания «Критики чистого разума». См. Кант, «Критика чистого разума», пер. Лосского, Пгр. 1915, стр. 64.], – дефиницию, имеющую громадную, даже величайшую ценность. Если мы об этой дефиниции вспомним при чтении основного утверждения трансцендентального идеализма, что разумное познание не может постигнуть вещей в себе, что безоговорочная реальность лежит вне понятия, то тотчас же станет ясно, что такой разум, который не может привести себя в согласие со своим предметом, с вещами в себе, и такие вещи в себе, которое не согласуются с понятиями разума, такое понятие, которое не согласуется с реальностью, и такая реальность, которая не согласуется с понятием, суть неистинные представления. Если бы Кант сопоставил идею созерцающего рассудка с упомянутой дефиницией истины, то он отнесся бы к этой идее, выражающей требуемое согласие реальности и понятия, не как к чему-то лишь мысленному, а, наоборот, как к истине.
«Что тут желают знать, – указывает далее Кант, – это всеобщий и надежный критерий истины всякого познания; […] он должен был бы быть таким, который имел бы силу в применении ко всем познаниям без различия их предметов; […] но так как в таком случае мы отвлекаемся от всякого содержания познания (от отношения к его объекту), а истина касается именно этого содержания познания, то было бы совершенно невозможно и несуразно спрашивать, в чем заключается признак истинности этого содержания познаний»[10 - Кант, «Критика чистого разума», стр. 82–83 по 2-му немецкому изданию. Курсив принадлежит Гегелю.]. Здесь очень определенно выражено обычное представление о формальной функции логики, и приведенное рассуждение кажется весьма убедительным. Но, во-первых, мы должны заметить, что обычная участь такого рода формального рассуждения – забывать в своем словесном изложении то, что оно сделало своей основой и о чем оно говорит. Было бы несуразно, слышим мы, спрашивать о критерии истинности содержания познания; но, согласно приведенной выше дефиниции, истину составляет не содержание, а его соответствие понятию. Такого рода содержание, как то, о котором говорится здесь, без понятия есть нечто лишенное понятия и, стало быть, лишенное и сущности; о критерии истинности такого содержания, конечно, нельзя спрашивать, но по противоположному основанию: нельзя спрашивать потому, что оно из-за своей непричастности понятию не есть требуемое соответствие, а может быть лишь чем-то принадлежащим области непричастного истине мнения. Если мы оставим в стороне упоминание о содержании, создающем здесь путаницу, в которую, однако, формализм постоянно впадает и которая заставляет его, как только он вдается в разъяснения, говорить обратное тому, что он хочет сказать, и остановимся лишь на том абстрактном взгляде, согласно которому логическое есть нечто лишь формальное и отвлекается от всякого содержания, то в таком случае мы получим одностороннее знание, которое, согласно этому взгляду, не содержит в себе никакого предмета, пустую, лишенную определений форму, которая, стало быть, столь же мало есть соответствие (ибо для соответствия обязательно требуются две стороны), – форму, которая равным образом не есть истина. В лице априорного синтеза понятия Кант обладал более высоким принципом, в котором могла быть познана двойственность в единстве, стало быть, то, что требуется для истины; но чувственная материя, многообразие созерцания слишком сильно властвовали над ним, так что он не мог отойти от них и обратиться к рассмотрению понятия и категорий, взятых сами по себе, и к спекулятивному философствованию.
Так как логика есть наука об абсолютной форме, то это формальное для того, чтобы быть истинным, должно иметь в себе самом некоторое содержание, адекватное своей форме; это тем более верно, что логический формальный элемент должен быть чистой формой и, следовательно, логическая истина должна быть само?й чистой истиной. Вследствие этого указанное формальное должно быть внутри себя гораздо богаче определениями и содержанием, а также должно обладать бесконечно большей силой воздействия на конкретное, чем это обыкновенно принимают[11 - Ср. замечание Маркса о том, что «до Гегеля логики по профессии упускали из вида формальное содержание (den Forminhalt) различных типов суждений и умозаключений» (Маркс, Das Kapital, Bd. 1, Hamburg 1867, S. 21), т. е. то реальное содержание, которое имеется в логической форме суждений и умозаключений.]. Логические законы сами по себе (если вычесть все то, что и помимо этого гетерогенно, – прикладную логику и прочий психологический и антропологический материал) сводятся обыкновенно, кроме предложения о противоречии, еще к нескольким скудным предложениям об обращении суждений и о формах умозаключений. Даже сюда относящиеся формы, равно как и их дальнейшие определения, излагаются здесь лишь как бы исторически, не подвергаются критике с целью установить, истинны ли они в себе и для себя. Так, например, форма положительного суждения рассматривается как нечто вполне правильное в себе, причем считается, что только от содержания данного суждения всецело зависит, истинно ли оно. Есть ли эта форма в себе и для себя форма истины, не диалектично ли внутри себя высказываемое ею предложение («единичное есть некоторое всеобщее»), – об исследовании этого вопроса не думают. Без околичностей признаётся, что это суждение само по себе способно содержать в себе истину и что вышеуказанное предложение, высказываемое всяким положительным суждением, истинно, хотя непосредственно явствует, что ему не хватает того, что требуется определением истины, а именно, согласия понятия со своим предметом. Если принимать сказуемое, которое есть здесь всеобщее, за понятие, а подлежащее, которое есть единичное, за предмет, то они не согласуются одно с другим. Если же абстрактное всеобщее, которое сказуемое представляет собой, еще не составляет понятия (для понятия, без сомнения, требуется нечто большее) и если такое подлежащее равным образом имеет еще немногим больше, чем грамматический смысл, то как может суждение содержать в себе истину, коль скоро его понятие и предмет между собой не согласуются или ему даже вообще недостает понятия и, пожалуй, также и предмета? Поэтому невозможным и несуразным оказывается именно желание облечь истину в такие формы, как положительное суждение или суждение вообще. Точно так же как философия Канта не рассматривала категорий в себе и для себя, а лишь на том неудачном основании, что они, дескать, суть субъективные формы самосознания, объявила их конечными определениями, неспособными содержать в себе истину, так она еще в меньшей мере подвергла критике формы понятия, составляющие содержание обычной логики. Эта философия, напротив, использовала часть указанных форм (а именно, функции суждений) для определения категорий и признала их правильными предпосылками. Если даже не видеть в логических формах ничего другого, кроме формальных функций мышления, то и в таком случае они заслуживали бы исследования, в какой мере они сами по себе соответствуют истине. Логика, не дающая такого исследования, может изъявлять притязание самое большее на значение естественно-исторического описания явлений мышления в том виде, в каком мы их преднаходим. Аристотелю принадлежит бесконечная заслуга, которая должна наполнять нас величайшим уважением перед силой этого ума, впервые предпринявшего такое описание. Но необходимо идти дальше и познать отчасти систематическую связь[12 - Ср. слова Энгельса: «Диалектическая логика, в противоположность старой, чисто формальной логике, не довольствуется тем, чтобы перечислить и сопоставить без связи формы движения мышления, т. е. различные формы суждения и умозаключения. Она, наоборот, выводит эти формы одну из другой, устанавливает между ними отношение субординации, а не координации, она развивает высшие формы из низших» (Энгельс, «Диалектика природы», М., 1936, стр. 100).], отчасти же ценность этих форм.
Подразделение
Понятие, как оно было рассмотрено выше, оказывается единством бытия и сущности. Сущность есть первое отрицание бытия, которое вследствие этого стало видимостью; понятие есть второе отрицание или отрицание этого отрицания; следовательно, понятие есть восстановленное бытие, но восстановленное как его бесконечное опосредствование и отрицательность внутри себя самого. Поэтому в понятии бытие и сущность уже не имеют того определения, в котором они суть бытие и сущность, и равным образом не находятся лишь в таком единстве, при котором каждое светится в другом. Понятие поэтому дифференцирует себя не на эти определения. Оно есть истина субстанциального отношения, в котором бытие и сущность достигают друг через друга своей исполненной самостоятельности и своего определения. Истиной субстанциальности оказалось субстанциальное тождество, которое есть равным образом и только положенность. Положенность есть наличное бытие и различение; поэтому в-себе-и-для-себя-бытие достигло в понятии адекватного себе и истинного наличного бытия, ибо указанная положенность есть само в-себе-и-для-себя-бытие. Эта положенность образует собой различие понятия внутри его самого; его различия, ввиду того что оно[13 - Немецкий текст тут испорчен. Напечатано: «weil sie unmittelbar das An-und-fursichsein ist». Между тем ни в этой, ни в предыдущей фразе нет ни одного существительного женского рода, к которому могло бы относиться местоимение «sie». Приходится прибегать к конъектурам. Лассон предлагает читать: «es…ist». Покойный Б. Г. Столпнер предлагал: «sie…sind». Нам представляется более обоснованным чтение: «er (т. е. der Begriff)… ist». Перевод сделан в соответствии с этой последней конъектурой, в подтверждение которой можно сослаться на два обстоятельства: 1) под словами «seine Unterschiede», непосредственно предшествующими вышеприведенному придаточному предложению, могут иметься в виду только «различия понятия»; 2) третья фраза следующего абзаца начинается словами: «Weil er (т. е. der Begriff) das An-und-fursichsein ist».] непосредственно есть в-себе-и-для-себя-бытие, суть сами все понятие целиком; они суть всеобщие в своей определенности и тождественны со своим отрицанием.
Это вот и есть само понятие понятия. Но это пока что есть только его понятие, или, иначе говоря, само оно есть также только понятие. Так как оно есть в-себе-и-для-себя-бытие, поскольку последнее есть положенность, или, иначе говоря, абсолютная субстанция, поскольку она обнаруживает необходимость различенных субстанций как тождество, то это тождество само должно положить то, что оно есть. Моменты движения отношения субстанциальности, через которые понятие возникло, и реальность, которую они представляют собой, находятся пока что лишь в состоянии перехода к понятию; эта реальность еще не есть собственное определение понятия, происшедшее из него; она принадлежала сфере необходимости, его же реальность может быть лишь его свободным определением – таким наличным бытием, в котором оно (понятие) тождественно с собой и моменты которого суть понятия и положены самим понятием.
Поэтому понятие, во-первых, есть истина лишь в себе; так как оно есть только нечто внутреннее, то оно есть в такой же степени только нечто внешнее. Оно есть вначале вообще нечто непосредственное, и в этом виде его моменты имеют форму непосредственных, неподвижных определений. Оно выступает как определенное понятие, как сфера голого рассудка. Так как эта форма непосредственности есть пока что еще не адекватное его природе наличное бытие (ибо понятие есть соотносящееся только с собой самим свободное), то она есть некоторая внешняя форма, в которой понятие может иметь значение не чего-то в-себе-и-для-себя сущего, а чего-то лишь положенного или субъективного. Фаза непосредственного понятия образует собой ту стадию, на которой понятие есть субъективное мышление, некоторая внешняя для предмета (der Sache) рефлексия. Эта ступень образует собой поэтому субъективность или формальное понятие. Его внешний характер проявляется в неподвижном бытии его определений, вследствие чего каждое из них выступает особо, как нечто изолированное, качественное, находящееся лишь во внешнем соотношении со своим другим. Но тождество понятия, которое именно и составляет их внутреннюю или субъективную сущность, приводит их в диалектическое движение, посредством которого снимается их обособленность друг от друга, а вместе с тем и отделение понятия от предмета, и, как их истина, возникает тотальность, образующая собой объективное понятие.
Во-вторых, понятие в своей объективности есть сам сущий в себе и для себя предмет. Своим необходимым дальнейшим определением формальное понятие обращает само себя в предмет и тем самым утрачивает характер субъективного и внешнего отношения к последнему. Или, обратно, объективность оказывается выступившим из своей внутренности и перешедшим в наличное бытие реальным понятием. В этом тождестве с предметом оно имеет тем самым собственное и свободное наличное бытие. Но это еще непосредственная, еще не отрицательная свобода. Как единое с предметом, понятие погружено в него; его различия суть объективные существования, в которых оно само снова есть нечто внутреннее. Как душа объективного наличного бытия, оно должно сообщить себе ту форму субъективности, которой оно в качестве формального понятия обладало непосредственно; таким образом, оно в форме свободного понятия, которой оно еще не обладало в объективности, выступает рядом с последней и при этом обращает то тождество с нею, которым оно, как объективное понятие, обладает в себе и для себя, также и в положенное тождество.
В этом своем завершении, в котором оно в своей объективности обладает также и формой свободы, адекватное понятие есть идея. Разум, который есть сфера идеи, есть раскрывшаяся сама себе истина, в которой понятие имеет безоговорочно адекватную себе реализацию и свободно постольку, поскольку оно познает этот свой объективный мир в своей субъективности и последнюю – в том объективном мире.
Первый отдел
Субъективность
Понятие есть, прежде всего, формальное, понятие в начале или понятие как непосредственное. В непосредственном единстве его различенность или положенность, во-первых, сама ближайшим образом проста и есть только некоторая видимость, так что моменты различия суть непосредственно тотальность понятия и образуют собой только понятие как таковое.