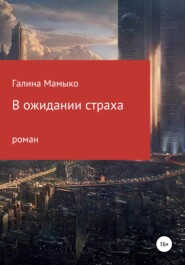По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Двойная жизнь профессора Ястребова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он чувствовал себя виноватым. Вот, он, отец, без завихрений, а сын… Печально или нет, но Андрей о своей придурковатости не догадывается. Если бы догадывался, тогда это было бы другое дело. Тогда обычное актёрство, полбеды. А тут, на полном серьёзе, Андрей Михайлович Ястребов живёт в выдуманном им мире, по своим выдуманным дорогам ходит, придаёт значение выдуманным им искусственным ситуациям, и думает, что это не кураж, а жизнь избранного человека. Он верит, что является уникальным Человечищем вне времени. А на самом деле у него нет ничего святого, нет Родины, нет друзей, всё это лишь бутафория, это сцена, на которой он играет. И лишь одно для него реальность – это не реальность, то есть – Наполеон, ему и молится. Интересно, а если бы Наполеона не существовало, кого бы ему на замену выбрал мой сын? Александра Македонского? Фридриха Ницше? Гитлера? Бабу Вангу? Хм… Ну да-ну да…
Нет, это не врождённое, думает отец. И это не по наследству. В этом он убеждён. Не хочется думать, что в его роду дурная наследственность. Не слышал он о шизофрениках в их роду. А раз человек родился нормальным, значит, всё последующее – дело такое, житейское. Упал, очнулся – гипс. С Андрюшей такого, слава Богу, не случалось. А что тогда? Воспитание? Нет, с этим о`кей. Остаётся – что? Дурное влияние общества?
Михаил Ястребов уцепился с некоторым облегчением за эту мысль – вот он, ключ. А дальше Михаил Борисович погрузился в философию. Человеку свойственно искать жизненный идеал. Для исключительной личности это важно вдвойне, потому что исключительная личность наделена исключительной энергией, исключительным умом, а значит, ей требуются исключительные условия для выражения энергии, воли и ума. В противном случае человек замыкается на примитиве, его сила не может получить выхода, и человек превращается в умную обезьяну. Он становится вот таким, каким стал сын Михаила Ястребова. Но что в нашем обществе было не так?
Михаил решил, что, кажется, нашёл причину случившейся с его сыном трагедии. «У нас отняли Бога. Нас похоронили в скорлупе как не вылупившихся цыплят». Лишь теперь, к концу жизни, Михаил уверен, что понял идею Бога, ему кажется, он открыл для себя Его. Но разве скажешь это тем, кто живёт с закрытыми глазами, сонной душой и слепым сердцем, вот как его жена, как его сын, как в целом жили, можно сказать, все в Советском Союзе. «Мы – жертвы безбожной идеологии и бездуховного строя. И счастливы те, кто хоть к концу жизни сумел очнуться…» Да, так. Но он, Михаил, отец убийцы, не знает, счастлив ли он. Когда вот, такое горе. И ведь он, отец, всю жизнь ждал его, это самое горе, предчувствовал его, он видел это горе каждый день, когда глядел на своего сына и читал в его безумных глазах будущий ужас…
«Как тяжко жить тому, кто обручился с чёртом, кто знает только тьму, кто вечно глух и слеп в своём безумстве дней…» Уж не стал ли он, Михаил Ястребов, поэтом, а значит, начал сходить с ума. С какой такой хрени родились эти стихотворные строки в голове. А может, сумасшествие – штука заразная? Ха… Он кхекает, пытаясь засмеяться. «Ну, так на чём же я остановился. Стихи не в счёт. Даже посвящённые собственному сыну. А ведь хорошо звучит: «Как тяжко жить тому, кто обручился с чёртом». Может, он, мой сын, бесноватый? Тьфу. Не то. Надо вспомнить. Мои мысли перескакивают».
А, вот, вспомнил: «Если бы Наполеона не существовало, кого бы ему на замену выбрал мой сын? Александра Македонского? Фридриха Ницше? Гитлера? Бабу Вангу?» Ха… Ну да-ну да… В какую нишу нырнула бы беспокойная душа сына? Научная деятельность, исторические исследования – это наркотик, с его помощью Андрей уходит туда, где можно забыть себя и приблизиться к истине. Истина в Андреевой жизни – это то, что даёт силу, энергию. Для него, Андрея Ястребова, истина – это Наполеон. Наполеон для Андрея Ястребова – это символ человеческого всемогущества. Всё остальное в этой жизни для него – декорации.
В бездуховном обществе, построенном на отрицании Бога, по-другому быть не может. Теперь в этом отец убийцы, Михаил Ястребов, уверен. Женщины, любовь, вино – это для моего сына-гения средства к получению иллюзии того, что жизнь вокруг есть. В женщин можно влюбляться и повелевать ими, вино можно пить, и остальное – всё-всё-превсё – исключительному человеку можно! Потом приходить в себя, чтобы увидеть, но не признать собственную никчёмность, и тогда – снова уходить от себя в исторические труды, жевать книжную пыль, слушать скрип двери в потусторонний мир, тянуться на зов призраков из ада. Призраки преследуют. Тогда можно вскочить на коня.
И он, мой сын, так и делал. Он купил себе белую лошадь. Он громоздился на эту свою белую лошадь, чтобы бегать от навязчивых теней. И белая кляча тащила его к новым призракам, а он рубил их саблей, орал, выпучив глаза, и чувствовал себя героем… И так по кругу… Круги ада… Мой бедный мальчик… Счастливчик, он не знает, что он сумасшедший. От жалости к сыну-убийце у отца сдавливает грудь, он вспоминает, что вокруг журналисты, что у него горе, и ему не хочется жить. У него свистит в груди, будто не одышка, а его личное горе издаёт такие плачевные звуки.
«Какой же он убийца. Он спятивший человек. Разве можно таких судить. Ему давно надо было купить смирительную рубаху и позволить заняться реконструкцией обитания в сумасшедших домах. Его коллеги, друзья, подруги – неужели они не видели: их кумир – идиот? Такое не заметить невозможно. Значит, они все и виноваты в этой беде. И нечего винить того, кто лишь жертва равнодушия ближних. Но тогда, значит, и я виноват? Что, я должен был донести на сумасшествие сына в полицию? В клинику? В горсовет? Потребовать экспертизы? Нет, это невозможно», – отец понимает – он запутался в мыслях, но убеждение, что все вокруг виноваты в случившемся с сыном, не отпускает его.
– Мы его потеряли, Миша. Навсегда, – снова заговорила мать убийцы о том же.
Она говорила таким доверительным тоном в обращении к мужу, будто они сидели в пустой комнате, и на них не дышали два десятка чужих человек.
Она старалась больше не плакать. Она помнила, что вокруг люди, хотя ей хотелось не помнить этого, и она продолжала говорить с мужем так, будто вокруг никого нет.
Журналистам не хватило мест, некоторые уселись на полу. «Как у себя дома. Теперь с нами можно не церемониться, мы изгои», – ей обидно от понимания, что они изгои, и оттого ещё больше неприятны чужаки в её квартире. Они толпятся в двери, тянут головы, чтобы лучше расслышать и разглядеть родителей убийцы. Всюду жужжит, щёлкает, сверкает.
«Хорошо, что на подоконниках цветы, а то бы и туда залезли», – она сдерживает раздражение и старается выглядеть приветливо.
На чужих лицах напряжённое любопытство.
– У нас с ним, – мать убийцы кивнула на мужа, – был знакомый историк.
Она помолчала и добавила:
– Знаменитый.
Он не был знаменит, тот историк. Но ей захотелось придать значимость словам.
Слушатели напряглись, подвинулись к старикам и как будто перестали дышать.
– Не историк, – перебил отец убийцы. – Так, любитель.
– Этот историк, который знаменитый, был нашим знакомым, – снова сказала мать убийцы. – И у него была большая домашняя библиотека. Наш когда увидел в первый раз…
Мать убийцы запнулась на слове «наш» и бросила взгляд на журналистов. Ей хотелось сказать «сын», но она вспомнила, теперь её сын – убийца, и журналисты здесь именно потому, что её сын – убийца. Никого больше не интересует, что её сын – всемирно известный профессор. И она проглотила слово «сын».
– Когда наш увидел эти книги, – повторила она, – то заинтересовался… Ну, теми, где про Наполеона. И стал ходить к тому человеку. С этого всё и началось.
Она замолчала. Она ждала вопросов. Она знала, сейчас её спросят, что именно «началось». Она дождалась этого вопроса:
– Началось – что?
Она стала говорить про его детство, юность. Как взрослел, как учился. Как умел дружить. Как… Она знала, не это от неё хотят. «Они хотят смаковать всё, что может указать им на его страшное будущее. Но ведь он был хорошим, и зачем искать то, чего я не хочу искать», – думала она. Она вспоминала об убитой, и ловила себя на радостной мысли, что убита она, а не сын, и что сын жив. Да, он в тюрьме, да, мир вокруг сошёл с ума от этой новости, и все кричат так, будто его уже нет в живых. Но ведь он жив. И мать радовалась этому. Она вспоминала множество подробностей из его детства, заново переживала то, что когда-то уже было пережито, снова ощущала то счастье, которое осталось там, где осталось детство сына. Её вежливо слушали, но не записывали.
«Они ждут, как шакалы», – думала мать убийцы с внезапной злобой. Она думала о том, что тоскует по сыну, жалеет его. Он в тюрьме. Что может быть страшнее этого. Он плакал. Она видела в теленовостях, он плакал в суде. А потом он плакал, когда какой-то человек наедине расспрашивал его, хорошо ли кормят, не бьют ли, нормально ли в камере. Когда сын сказал, что не может без очков и без книг, то мать заплакала вместе с сыном. Она и сейчас хочет заплакать. Но чтобы этого не случилось, она вспоминает ещё больше счастливых подробностей из его детства.
– Они подружились, – сказала она.
– Кто «они?» – спросили её.
– Они подружились, – повторила она и снова стала рассказывать про «того историка». – Он ходил к нему, чтобы читать про Наполеона. Брал книги. А тот с ним занимался. Историк стал его другом.
– Он жив? – спросили её.
«Зачем он им… Ни одного плохого слова они не вытащат из меня», – подумала она и не стала говорить, что историк умер. Ведь он был стар. И как хорошо, что он умер раньше, чем сын стал убийцей. Она удивлялась, что думает о том историке. Причём этот мертвец, когда такое случилось с сыном. Но её мысли возвращались к мертвецу, и она поняла, почему думает о нём. Потому что этот мертвец виноват в том, что случилось с сыном, неуверенно подумала она. Ей хотелось зацепиться за кого-то или за что-то, чтобы успокоить себя в той мысли, что её сын не причём в этой гнусной истории.
Ну да, конечно, подумала она уже более уверенно, этот проклятый историк, это он виноват, это он приучил моего сына к тому проклятому прошлому. Это он передал моему сыну эту проклятую любовь к проклятому Наполеону. Это он поселил в моём сыне бациллу Наполеона. Она поняла – она нашла то, что искала. И стала успокаиваться. Да, его сына с детства заставили стать не тем, каким он был на самом деле. В него каждый день запихивали этого чёртова Наполеона. Она удивилась, что была такой глупой, и позволяла сыну дружить с тем идиотом. «Почему я так поздно заметила, что Андрюша стал идиотом?» – подумала она. Нет, поправила она себя, я давно это знала. Надо быть честной хотя бы с собой. Это была её тайна, она не говорила мужу о своих подозрениях насчёт ненормальности сына.
Так же, как муж не признавался ей в том же. Они оба скрывали друг от друга одну и ту же тайну.
«Я всегда говорил – фанатизм не доведёт до добра», – вспомнила она слова мужа. Он сказал это, когда услышал в теленовостях, что их сын стал убийцей-расчленителем. Да, это фанатизм, и в этом виноват тот историк, снова подумала она. Потом она вспомнила всю прошедшую жизнь, всех людей, каких знала в этой жизни, людей, кого знал её сын. Ей стало казаться, что не только историк, но и вся жизнь, всё общество в целом виноваты в том, в кого превратился её сын. Да, это «они» сделали его идиотом и убийцей, думала она с ненавистью. «Они» виноваты в том, что стряслось с её сыном. Нет, это не он убийца. Это они – убийцы. Они убили его сына. И продолжают его убивать. Хотя он давно убит ими.
Ей стало не по себе. Она не хотела больше так думать. Но эти мысли её мучили.
– Ваш сын сказал, у неё был чудовищный характер. Это правда? – спросили её.
– Да, это правда, – сказала она, вспомнив о жертве, и обрадовалась в душе, что своей солидарностью с мнением сына может поддержать его.
Она взглянула на мужа. В её взгляде было желание, чтобы муж тоже поддержал сына. Муж это понял. Он чувствовал сильную тоску. Он успокаивался, когда жена хорошо говорила о сыне. Он внимательно слушал её воспоминания. Когда её перебивали, или когда она запиналась и возникала пауза, к нему возвращалась тоска. Поэтому он сразу понял её взгляд. Он был рад этому взгляду. Он был рад их взаимопониманию. Он сказал:
– Да, это так.
– Вы тоже считаете, что убитая вашим сыном девушка имела скверный характер? – обратились к отцу убийцы.
– Конечно, – сказал он.
Он думал, его хотят поймать на слове, или уличить во лжи. Он чувствовал себя так, будто находится в ловушке. Он понимал, что очень нервничает, и старался ничем не выдать своего состояния.
– Почему? – спросили его.
– Она изводила нашего сына, – ответила вместо него жена.
В ней возник протест. Она подумала о том, что шестьдесят три года назад родила мальчика, и этот мальчик ничуть не хуже всего остального человечества на этой земле. Он абсолютно такой же, как все, и какое право имеют эти сволочи смотреть на неё с презрением. Она была уверена в том, что они, сволочи, смотрят с презрением на неё и мужа.
Она с внутренней гордостью приподняла подбородок. Она чувствовала, как гнев подкатывает к горлу. Её тяготила необходимость говорить об убитой, потому что говорить хотелось только плохое, и как можно больше плохого. Она сдержалась и сказала лишь малую часть из клокотавшего в её сердце:
– Она действительно была чудовищем.
– Вам приходилось с ней встречаться, Анна Николаевна? – журналисты оживились.