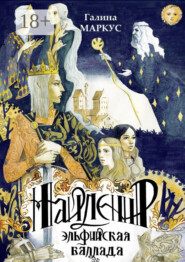По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказка со счастливым началом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ку-узя-я-я… – только и выговорил мальчик.
Соня перевела взгляд на клетку – она была пуста. Решив, что зверёк пропал, Соня принялась сочинять, что хомячок сбежал в поисках своих родственников.
– Не сбежал… – ещё больше зашёлся Вадик. – Людмила Алексеевна мне показа-ала…
Выяснилось, что воспитательница, придя утром, первым делом обнаружила мертвого питомца, и, вместо того, чтобы тайком унести его, демонстрировала приходящим в группу ребятам. Так что дети встретили опоздавшего Вадика громким криком: «А твой Кузя – сдох!»
– Ничего, пусть знают правду жизни! В жизни много горя! – гордо покачивая седой, мудрой головой изрекла Людмила Алексеевна на робкий Сонин упрёк.
Соня вспомнила, как однажды не могла найти Бориса и решила, что Вова, отчим, выбросил его на помойку. И другой раз, когда искала его… в тот ужасный день, в больнице. И подумала, что один из таких уроков можно было бы в жизни Вадика и пропустить – будут ещё учителя, не щадящие чужих сердец. А Людмила Алексеевна ещё долго после этого, усадив его на коленки, вспоминала, каким хорошим и милым был его белый Кузя, вызывая у мальчика, общими стараниями подзабывшего всю историю, новые приступы горя. Вот тогда-то Соня и заподозрила добрейшую женщину в скрытом садизме, тогда-то навсегда и испортила с ней отношения. Впрочем, таких садистов, скрытых или явных, среди людей, призванных детей любить, было не так уж мало… Процентов девяносто.
Сама Соня в своё время струсила и работать в детский дом, как планировала после окончания пединститута, не пошла. Пожалела себя, не захотела надрывать сердце. Но и в престижном, элитном садике, куда переманила её из обычной начальной школы заведующая, сердце, как оказалось, надрывалось не меньше. К слову сказать, садиком руководила та самая бывшая воспитательница, наблюдавшая первую встречу Сони, Мары и лиса, и сделавшая неплохую для их города карьеру. Они с Марой сохранили дружеские отношения – мать часто советовалась с Ниной Степановной по поводу ребёнка, особенно в первые годы. Себе Мара не доверяла, во всём искала непререкаемые авторитеты.
Садик открылся при лицее – лучшей школе в городе. Обучение в ней строилось на плавном переходе из подготовительной группы в первый класс. Просто так сюда на работу не брали – только по знакомству, так что заведующая оказала Соне хорошую протекцию. Ей сразу, к возмущению остальных педагогов, которым доверяли возрастных детей в зависимости от стажа и квалификации, досталась средняя группа. А значит, два следующих года Соня будет с ними и подготовит их к школе – это ведь так интересно! С такими ребятами уже можно говорить обо всём. И её собственные слова и мысли отзывались, преломлялись в них настолько быстро и неожиданно, что порой ставили в тупик саму воспитательницу.
Но и терять бдительности не стоило. Многие малыши только казались сознательными, а на самом деле могли вытворять такое! Оглянись, заболтайся – одна секунда, и вот уже кто-то ревёт, застряв в окошке деревянного домика, кто-то с пол-оборота заработал от соседа ложкой в лоб, кто-то решил, что ему пора домой и двинулся в сторону ворот. Пересчитывать, пересчитывать и ещё раз пересчитывать! Соня не забывала об этом никогда, и ещё и поэтому не любила трепаться с коллегами на прогулках. Её считали чудачкой и нелюдимкой, и Соню это устраивало: с дружбой и всеми вытекающими отсюда сплетнями и интригами никто не приставал.
Вечерняя прогулка имела одну сложность: за детьми приходили родители, надо было внимательно отслеживать, кто и кого забрал. А то многие взяли привычку махать своему чаду ещё от будки охранника и у воспитательницы не отмечаться. Дети убегали за её спиной, и Соня в ужасе пыталась понять – куда делся малыш. Пришлось потратить немало сил, чтобы внушить каждому – уйти он может только, когда отпустит она, даже если пришли любимая мама или бабушка. А уж никаким соседям, братьям-школьникам или чужим родителям Соня ребёнка не отдавала. В ней включался тот же инстинкт, что и у беспокойной Мары. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», – говорила та и была права. Многие родители роптали и даже пару раз жаловались, но Нина Степановна, заведующая, свою протеже одобряла и терпеливо объясняла, что все меры безопасности придуманы только в интересах детей.
Кое-кто так и остался недовольным: какая-то воспитательница призывает их к порядку! С родителями здесь оказалось гораздо сложнее, чем в школе. Конечно, не все из них были высокомерные снобы, многие вели себя очень вежливо и приветливо. Но большинство относились к работникам садика со скрытым, еле сдерживаемым, а то и откровенным презрением – как к обслуживающему персоналу, горничной или водителю. Находились и такие, кто ревновал к Соне собственного ребёнка. Если бы она могла, то сказала бы, что лекарство от чрезмерной любви к чужим людям есть только одно – уделять достаточно внимания малышу. Но…
Вот и сейчас Соня выдержала недовольный взгляд бабушки, которую послушная внучка заставила подойти прямо к беседке, чтобы привлечь внимание воспитателя.
– Хотите сказать, вы меня не увидели? – возмутилась моложавая, одетая по последней моде дама. – Не заметили, как я подъехала? Или вам просто нравится людей гонять?
Женщина сама управляла автомобилем, маленькой праворульной иномаркой.
– Простите, не увидела. Я смотрю на детей, а не на ворота.
– Лучше бы вы на забор смотрели. Там маньяк кого-то выглядывает, вот украдёт ребёнка, а вы в тюрьму сядете!
– Какой ещё маньяк? – подняла брови Соня и невольно оглянулась.
От веранды до забора было далековато, чтобы что-нибудь разглядеть – темнело теперь рано. Но Соне показалось, что в тот же момент метнулась и скрылась за деревьями чья-то фигура.
«Вот это да… – подумала Соня, и сердце у неё тревожно заколотилось. – Наверное, какая-нибудь семейная история, папа с мамой ребёнка не поделили. Надо обязательно сказать Нине Степановне!»
Правда, сколько она ни всматривалась в этот вечер в тревожную чёрную улицу, никто на ней больше не появился.
– Как ты думаешь, что ещё за напасть? – спросила она вечером у Бориса, вспомнив об этой истории.
Неприятные предчувствия, ощущения тяжести и тоски в это время суток – после ужина, когда спать ложиться ещё рано, а Анька где-то шляется, теперь постоянно мучили Соню. А сейчас стало особенно не по себе. Она даже готова была позвать Женю. Впрочем, Женя сегодня на дежурстве.
– Напасть… пропасть… напал… пропал… – пропел, непонятно-темно глядя своими, давно уже просто чёрными глазами, лис.
– Ну, знаешь ли… Тоже мне, стихоплет! – возмутилась на явную издёвку Соня и отвернула его от себя, мордой к окну. – Нету сегодня звёзд, нету. Смотри сам.
* * *
Вообще-то, они редко спорили и почти всегда сходились во мнениях. Анька могла сколько угодно показывать ей на мозги – но только одно существо на земле знало и понимало про Соню всё.
К тому же, он всегда выполнял обещания. Правда, домой к ним лис переехал не сразу, но Соня очень часто его видела – на спектаклях и после них, в «гримёрках», как называли любое подсобное помещение, даже чулан, где порой приходилось готовиться к представлению, Мара и тётя Ира. Там, в этих гримёрках, обычно и происходили самые интересные разговоры с Борисом. Не перед спектаклем, нет: Соня понимала – артист должен собраться, морально настроиться; а после, когда он, довольный собой, становился расположенным к откровенности. Тогда-то он и сказал ей: «Наконец-то у меня появился собственный, личный ребёнок!»
– У тебя и так полно детей, – с притворной ревностью буркнула Соня. – Ты всегда говоришь в конце спектакля, как ты их всех любишь!
– Это работа, – не моргнув зелёным, с чёрным блестящим зрачком, глазом, признался лис.
Не хитрое у него было выражение «лица», но хитроумное – это точно.
– А вот я всегда говорю только то, что думаю! И никогда не вру! – гордо заявила девочка.
– Ну и дура, – хмыкнул Борис. – Как наша Мара – лепит всем, что ни попадя.
Он, наглец, повторял слова тёти Иры. Но Соня на него не сердилась, ему позволялось говорить правду в глаза, даже если Соня с его правдой и не соглашалась.
Борис был очень талантлив, сыграть мог кого угодно и часто заменял актеров на другие роли – кукол всегда не хватало, а вывозить одну и ту же сказку в одни и те же заведения, разумеется, не имело смысла. Как-то он даже сыграл кота, а однажды – щенка.
Директор небольшого кукольного театра, пытаясь повысить сборы, в своё время разработал этот разъездной вариант, разделил труппу и куклы по содержанию спектаклей и отправлял по два-три артиста на гастроли – в детские сады, школы, дома пионеров – и не только по городу, но и в окрестные посёлки. Он же, этот директор, и оказался тем самым талантливым мастером, когда-то произведшим на свет Бориса. Теперь уже глаза и руки у него стали не те. Дядя Лёша – так его звали, вёл заодно на полставки кружок мягкой игрушки во Дворце пионеров, а вдобавок был не молодым, но замечательным мужем очаровательной тёти Иры. Со временем они оба превратились в единственных, самых лучших и проверенных друзей семьи.
Полагая, что ребёнку будет интересно, Мара как-то привела Соню на кружок к дяде Лёше, но там с ней неожиданно случилась истерика. Девочка восприняла процесс рождения игрушек извращённо болезненно, словно стала свидетелем анатомического вскрытия. Она не хотела верить, что и внутри Бориса находится только вот эта серая вата или поролон. Соня разревелась, оплакивая недошитые игрушки. Даром дядя Лёша её успокаивал:
– Что ты, смотри, сейчас мы их все зашьём, и они будут здоровенькими и живыми!
– Каки-и-ими живы-ы-ыми… – надрывалась девочка. – Вы им сердце, сердце не положи-и-или… и мозгов у них нет, они думать не смогут!
У Бориса, она была совершенно убеждена, имелись и сердце, и мозги, и душа, да, да, кроме сердца и мозгов обязательно нужна душа, Соня это точно знала, только не понятно, откуда. Но у неё-то ведь есть что-то такое… что находится совсем не в голове и не в сердце, а где-то здесь, чуть повыше середины груди, где всегда болит, если грустно, обидно или стыдно…
Мара как-то решила постирать Бориса – тогда он уже жил у них и только у них, но Соня успела в последний момент спасти его из стиральной машины:
– Господи, Мара, он же там задохнётся!
С тех пор, щадя чувства «этого чудного ребёнка», мать допускала по отношению к любимцу только косметические процедуры и пылесос. С Соней она всегда считалась, к привязанности девочки к лису относилась серьёзно. Он ведь и для Мары давно стал не просто реквизитом или детской игрушкой, а личностью, соавтором, коллегой. Она же работала с ним, ей приходилось учитывать и его образ, и характер. Как поверит тебе сотня детских глаз, если ты не веришь сама?
Во время роли Мара оживала. Казалось странным, что такая женщина – крупная, резкая, иногда даже чопорная, необщительная с посторонними, может преображаться и разговаривать языком своих персонажей. Но у неё была душа настоящей актрисы, и во многих бытовых делах и событиях она себя проявляла – не показательной артистичностью, не игрой, а фантастической способностью воспринимать, как истину, совершенно вымышленные ситуации (причем вымышленные ею самой). Это и было тем самым вживанием в роль, полным погружением, только не искусственным, а растущим из глубины её странной души.
Вообще в матери жило много противоречий. В моментах, требующих выбора между собственным и чужим интересом, она становилась покладистой, уступчивой (если только речь не шла о ночных Анькиных прогулках) и многотерпеливой, никогда не настаивала на своих правах, не требовала чего-то для себя лично. Её ворчливость и домашний бытовой ор никто всерьёз не принимал – таков был стиль, а не суть их общения. А уж с людьми, которые казались ей лучше неё самой, то есть практически со всеми, Мара вела себя кротко и даже смиренно.
Зато не дай Бог кому-то из них – невзначай, между делом, просто для поддержания разговора, высказать мысль или идею, казавшиеся Маре вредными или неправильными. Куда только девались тогда её кротость и смирение! Люди с недоумением наблюдали вспышку возбуждённой ненависти к инакомыслию. Нет, мать не умела быть толерантной к чужому мнению. Но и в этих вспышках не присутствовало личной злобы к оппоненту – Мара ненавидела не собеседника, а то, что он говорил, саму «ересь», что означало в её устах как обычную глупость, так и нечто более серьёзное. Промолчать, с её точки зрения – это согласиться, согласиться – значит предать. Кого или что – она не знала. Убеждения ли, или то, что она называла «высшими силами». Бесконечные споры, которые устраивала мать, могли вымотать обе стороны.
И всё-таки лучше всего к её характеру подходило слово «без-обидный» – не в смысле неумения постоять, если надо, за близких людей или свои убеждения, а в его буквальном смысле: на деле Мара не обидела ни одного человека – за всю свою жизнь.
И только однажды Соня увидела в её глазах настоящий, страшный, тихий гнев и подумала – горе тому, кто заслуживает такое. И всю жизнь боялась такое заслужить. Но – нет… Не было. Слава Богу, не было. С первого до последнего дня Мара сохраняла к своей воспитаннице осторожное, трепетно-мистическое отношение – как к посланнице высших сил от Аллочки с просьбой об ответной услуге за спасение жизни тогда, в колодце… глубиной не больше полутора метров.
Вообще мистику и смысл Мара видела в таких вещах, на которые иные люди не обратили бы и внимания. Она придавала значение всяческой ерунде. Попадала ли в какую-нибудь переделку или просто не досчитывалась сдачи после покупок, выводы она делала твёрдые: это мне за то, а вот это – за это… На самом деле, подобный мистицизм мешал жить и принимать мир таким, как он есть, без выдуманных подтекстов.
Оказалось, это заразно. Соня тоже привыкла искать скрытые смыслы и разгадывать ситуации, словно ребусы.
Она разобрала постель, легла и принялась думать о Жене. Говорить об этом с Борисом сейчас не хотелось – Соня боялась услышать его мнение. Эти мысли мучили её уже третий день – даже воспоминания о Маре отошли на второй план. Для матери всё, что касалось брака с Женей, считалось давно решённым, и Соне тоже хотелось однозначности в этом вопросе, но…
Соня перевела взгляд на клетку – она была пуста. Решив, что зверёк пропал, Соня принялась сочинять, что хомячок сбежал в поисках своих родственников.
– Не сбежал… – ещё больше зашёлся Вадик. – Людмила Алексеевна мне показа-ала…
Выяснилось, что воспитательница, придя утром, первым делом обнаружила мертвого питомца, и, вместо того, чтобы тайком унести его, демонстрировала приходящим в группу ребятам. Так что дети встретили опоздавшего Вадика громким криком: «А твой Кузя – сдох!»
– Ничего, пусть знают правду жизни! В жизни много горя! – гордо покачивая седой, мудрой головой изрекла Людмила Алексеевна на робкий Сонин упрёк.
Соня вспомнила, как однажды не могла найти Бориса и решила, что Вова, отчим, выбросил его на помойку. И другой раз, когда искала его… в тот ужасный день, в больнице. И подумала, что один из таких уроков можно было бы в жизни Вадика и пропустить – будут ещё учителя, не щадящие чужих сердец. А Людмила Алексеевна ещё долго после этого, усадив его на коленки, вспоминала, каким хорошим и милым был его белый Кузя, вызывая у мальчика, общими стараниями подзабывшего всю историю, новые приступы горя. Вот тогда-то Соня и заподозрила добрейшую женщину в скрытом садизме, тогда-то навсегда и испортила с ней отношения. Впрочем, таких садистов, скрытых или явных, среди людей, призванных детей любить, было не так уж мало… Процентов девяносто.
Сама Соня в своё время струсила и работать в детский дом, как планировала после окончания пединститута, не пошла. Пожалела себя, не захотела надрывать сердце. Но и в престижном, элитном садике, куда переманила её из обычной начальной школы заведующая, сердце, как оказалось, надрывалось не меньше. К слову сказать, садиком руководила та самая бывшая воспитательница, наблюдавшая первую встречу Сони, Мары и лиса, и сделавшая неплохую для их города карьеру. Они с Марой сохранили дружеские отношения – мать часто советовалась с Ниной Степановной по поводу ребёнка, особенно в первые годы. Себе Мара не доверяла, во всём искала непререкаемые авторитеты.
Садик открылся при лицее – лучшей школе в городе. Обучение в ней строилось на плавном переходе из подготовительной группы в первый класс. Просто так сюда на работу не брали – только по знакомству, так что заведующая оказала Соне хорошую протекцию. Ей сразу, к возмущению остальных педагогов, которым доверяли возрастных детей в зависимости от стажа и квалификации, досталась средняя группа. А значит, два следующих года Соня будет с ними и подготовит их к школе – это ведь так интересно! С такими ребятами уже можно говорить обо всём. И её собственные слова и мысли отзывались, преломлялись в них настолько быстро и неожиданно, что порой ставили в тупик саму воспитательницу.
Но и терять бдительности не стоило. Многие малыши только казались сознательными, а на самом деле могли вытворять такое! Оглянись, заболтайся – одна секунда, и вот уже кто-то ревёт, застряв в окошке деревянного домика, кто-то с пол-оборота заработал от соседа ложкой в лоб, кто-то решил, что ему пора домой и двинулся в сторону ворот. Пересчитывать, пересчитывать и ещё раз пересчитывать! Соня не забывала об этом никогда, и ещё и поэтому не любила трепаться с коллегами на прогулках. Её считали чудачкой и нелюдимкой, и Соню это устраивало: с дружбой и всеми вытекающими отсюда сплетнями и интригами никто не приставал.
Вечерняя прогулка имела одну сложность: за детьми приходили родители, надо было внимательно отслеживать, кто и кого забрал. А то многие взяли привычку махать своему чаду ещё от будки охранника и у воспитательницы не отмечаться. Дети убегали за её спиной, и Соня в ужасе пыталась понять – куда делся малыш. Пришлось потратить немало сил, чтобы внушить каждому – уйти он может только, когда отпустит она, даже если пришли любимая мама или бабушка. А уж никаким соседям, братьям-школьникам или чужим родителям Соня ребёнка не отдавала. В ней включался тот же инстинкт, что и у беспокойной Мары. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», – говорила та и была права. Многие родители роптали и даже пару раз жаловались, но Нина Степановна, заведующая, свою протеже одобряла и терпеливо объясняла, что все меры безопасности придуманы только в интересах детей.
Кое-кто так и остался недовольным: какая-то воспитательница призывает их к порядку! С родителями здесь оказалось гораздо сложнее, чем в школе. Конечно, не все из них были высокомерные снобы, многие вели себя очень вежливо и приветливо. Но большинство относились к работникам садика со скрытым, еле сдерживаемым, а то и откровенным презрением – как к обслуживающему персоналу, горничной или водителю. Находились и такие, кто ревновал к Соне собственного ребёнка. Если бы она могла, то сказала бы, что лекарство от чрезмерной любви к чужим людям есть только одно – уделять достаточно внимания малышу. Но…
Вот и сейчас Соня выдержала недовольный взгляд бабушки, которую послушная внучка заставила подойти прямо к беседке, чтобы привлечь внимание воспитателя.
– Хотите сказать, вы меня не увидели? – возмутилась моложавая, одетая по последней моде дама. – Не заметили, как я подъехала? Или вам просто нравится людей гонять?
Женщина сама управляла автомобилем, маленькой праворульной иномаркой.
– Простите, не увидела. Я смотрю на детей, а не на ворота.
– Лучше бы вы на забор смотрели. Там маньяк кого-то выглядывает, вот украдёт ребёнка, а вы в тюрьму сядете!
– Какой ещё маньяк? – подняла брови Соня и невольно оглянулась.
От веранды до забора было далековато, чтобы что-нибудь разглядеть – темнело теперь рано. Но Соне показалось, что в тот же момент метнулась и скрылась за деревьями чья-то фигура.
«Вот это да… – подумала Соня, и сердце у неё тревожно заколотилось. – Наверное, какая-нибудь семейная история, папа с мамой ребёнка не поделили. Надо обязательно сказать Нине Степановне!»
Правда, сколько она ни всматривалась в этот вечер в тревожную чёрную улицу, никто на ней больше не появился.
– Как ты думаешь, что ещё за напасть? – спросила она вечером у Бориса, вспомнив об этой истории.
Неприятные предчувствия, ощущения тяжести и тоски в это время суток – после ужина, когда спать ложиться ещё рано, а Анька где-то шляется, теперь постоянно мучили Соню. А сейчас стало особенно не по себе. Она даже готова была позвать Женю. Впрочем, Женя сегодня на дежурстве.
– Напасть… пропасть… напал… пропал… – пропел, непонятно-темно глядя своими, давно уже просто чёрными глазами, лис.
– Ну, знаешь ли… Тоже мне, стихоплет! – возмутилась на явную издёвку Соня и отвернула его от себя, мордой к окну. – Нету сегодня звёзд, нету. Смотри сам.
* * *
Вообще-то, они редко спорили и почти всегда сходились во мнениях. Анька могла сколько угодно показывать ей на мозги – но только одно существо на земле знало и понимало про Соню всё.
К тому же, он всегда выполнял обещания. Правда, домой к ним лис переехал не сразу, но Соня очень часто его видела – на спектаклях и после них, в «гримёрках», как называли любое подсобное помещение, даже чулан, где порой приходилось готовиться к представлению, Мара и тётя Ира. Там, в этих гримёрках, обычно и происходили самые интересные разговоры с Борисом. Не перед спектаклем, нет: Соня понимала – артист должен собраться, морально настроиться; а после, когда он, довольный собой, становился расположенным к откровенности. Тогда-то он и сказал ей: «Наконец-то у меня появился собственный, личный ребёнок!»
– У тебя и так полно детей, – с притворной ревностью буркнула Соня. – Ты всегда говоришь в конце спектакля, как ты их всех любишь!
– Это работа, – не моргнув зелёным, с чёрным блестящим зрачком, глазом, признался лис.
Не хитрое у него было выражение «лица», но хитроумное – это точно.
– А вот я всегда говорю только то, что думаю! И никогда не вру! – гордо заявила девочка.
– Ну и дура, – хмыкнул Борис. – Как наша Мара – лепит всем, что ни попадя.
Он, наглец, повторял слова тёти Иры. Но Соня на него не сердилась, ему позволялось говорить правду в глаза, даже если Соня с его правдой и не соглашалась.
Борис был очень талантлив, сыграть мог кого угодно и часто заменял актеров на другие роли – кукол всегда не хватало, а вывозить одну и ту же сказку в одни и те же заведения, разумеется, не имело смысла. Как-то он даже сыграл кота, а однажды – щенка.
Директор небольшого кукольного театра, пытаясь повысить сборы, в своё время разработал этот разъездной вариант, разделил труппу и куклы по содержанию спектаклей и отправлял по два-три артиста на гастроли – в детские сады, школы, дома пионеров – и не только по городу, но и в окрестные посёлки. Он же, этот директор, и оказался тем самым талантливым мастером, когда-то произведшим на свет Бориса. Теперь уже глаза и руки у него стали не те. Дядя Лёша – так его звали, вёл заодно на полставки кружок мягкой игрушки во Дворце пионеров, а вдобавок был не молодым, но замечательным мужем очаровательной тёти Иры. Со временем они оба превратились в единственных, самых лучших и проверенных друзей семьи.
Полагая, что ребёнку будет интересно, Мара как-то привела Соню на кружок к дяде Лёше, но там с ней неожиданно случилась истерика. Девочка восприняла процесс рождения игрушек извращённо болезненно, словно стала свидетелем анатомического вскрытия. Она не хотела верить, что и внутри Бориса находится только вот эта серая вата или поролон. Соня разревелась, оплакивая недошитые игрушки. Даром дядя Лёша её успокаивал:
– Что ты, смотри, сейчас мы их все зашьём, и они будут здоровенькими и живыми!
– Каки-и-ими живы-ы-ыми… – надрывалась девочка. – Вы им сердце, сердце не положи-и-или… и мозгов у них нет, они думать не смогут!
У Бориса, она была совершенно убеждена, имелись и сердце, и мозги, и душа, да, да, кроме сердца и мозгов обязательно нужна душа, Соня это точно знала, только не понятно, откуда. Но у неё-то ведь есть что-то такое… что находится совсем не в голове и не в сердце, а где-то здесь, чуть повыше середины груди, где всегда болит, если грустно, обидно или стыдно…
Мара как-то решила постирать Бориса – тогда он уже жил у них и только у них, но Соня успела в последний момент спасти его из стиральной машины:
– Господи, Мара, он же там задохнётся!
С тех пор, щадя чувства «этого чудного ребёнка», мать допускала по отношению к любимцу только косметические процедуры и пылесос. С Соней она всегда считалась, к привязанности девочки к лису относилась серьёзно. Он ведь и для Мары давно стал не просто реквизитом или детской игрушкой, а личностью, соавтором, коллегой. Она же работала с ним, ей приходилось учитывать и его образ, и характер. Как поверит тебе сотня детских глаз, если ты не веришь сама?
Во время роли Мара оживала. Казалось странным, что такая женщина – крупная, резкая, иногда даже чопорная, необщительная с посторонними, может преображаться и разговаривать языком своих персонажей. Но у неё была душа настоящей актрисы, и во многих бытовых делах и событиях она себя проявляла – не показательной артистичностью, не игрой, а фантастической способностью воспринимать, как истину, совершенно вымышленные ситуации (причем вымышленные ею самой). Это и было тем самым вживанием в роль, полным погружением, только не искусственным, а растущим из глубины её странной души.
Вообще в матери жило много противоречий. В моментах, требующих выбора между собственным и чужим интересом, она становилась покладистой, уступчивой (если только речь не шла о ночных Анькиных прогулках) и многотерпеливой, никогда не настаивала на своих правах, не требовала чего-то для себя лично. Её ворчливость и домашний бытовой ор никто всерьёз не принимал – таков был стиль, а не суть их общения. А уж с людьми, которые казались ей лучше неё самой, то есть практически со всеми, Мара вела себя кротко и даже смиренно.
Зато не дай Бог кому-то из них – невзначай, между делом, просто для поддержания разговора, высказать мысль или идею, казавшиеся Маре вредными или неправильными. Куда только девались тогда её кротость и смирение! Люди с недоумением наблюдали вспышку возбуждённой ненависти к инакомыслию. Нет, мать не умела быть толерантной к чужому мнению. Но и в этих вспышках не присутствовало личной злобы к оппоненту – Мара ненавидела не собеседника, а то, что он говорил, саму «ересь», что означало в её устах как обычную глупость, так и нечто более серьёзное. Промолчать, с её точки зрения – это согласиться, согласиться – значит предать. Кого или что – она не знала. Убеждения ли, или то, что она называла «высшими силами». Бесконечные споры, которые устраивала мать, могли вымотать обе стороны.
И всё-таки лучше всего к её характеру подходило слово «без-обидный» – не в смысле неумения постоять, если надо, за близких людей или свои убеждения, а в его буквальном смысле: на деле Мара не обидела ни одного человека – за всю свою жизнь.
И только однажды Соня увидела в её глазах настоящий, страшный, тихий гнев и подумала – горе тому, кто заслуживает такое. И всю жизнь боялась такое заслужить. Но – нет… Не было. Слава Богу, не было. С первого до последнего дня Мара сохраняла к своей воспитаннице осторожное, трепетно-мистическое отношение – как к посланнице высших сил от Аллочки с просьбой об ответной услуге за спасение жизни тогда, в колодце… глубиной не больше полутора метров.
Вообще мистику и смысл Мара видела в таких вещах, на которые иные люди не обратили бы и внимания. Она придавала значение всяческой ерунде. Попадала ли в какую-нибудь переделку или просто не досчитывалась сдачи после покупок, выводы она делала твёрдые: это мне за то, а вот это – за это… На самом деле, подобный мистицизм мешал жить и принимать мир таким, как он есть, без выдуманных подтекстов.
Оказалось, это заразно. Соня тоже привыкла искать скрытые смыслы и разгадывать ситуации, словно ребусы.
Она разобрала постель, легла и принялась думать о Жене. Говорить об этом с Борисом сейчас не хотелось – Соня боялась услышать его мнение. Эти мысли мучили её уже третий день – даже воспоминания о Маре отошли на второй план. Для матери всё, что касалось брака с Женей, считалось давно решённым, и Соне тоже хотелось однозначности в этом вопросе, но…