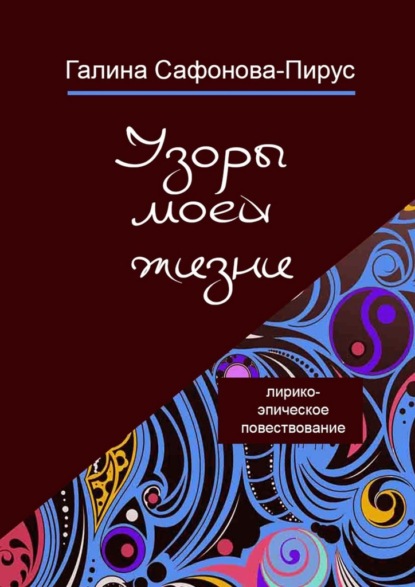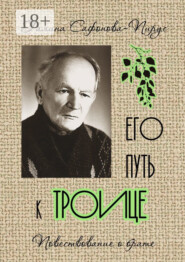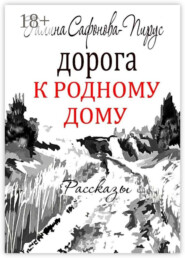По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Узоры моей жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Узоры моей жизни
Галина Сафонова-Пирус
Как распутать разноцветные «нити клубка», изкоторых соткался «ковёр» моей жизни? Ведь «нити» оборваны, спутаны и поэтому при написании повести обратилась за помощью к когда-то сделанным запискам, зарисовкам, наброскам, переписке с интересными людьми, а «холстом» послужил временной период с 2010 по 2020 год.
Узоры моей жизни
Галина Сафонова-Пирус
© Галина Сафонова-Пирус, 2023
ISBN 978-5-0060-8432-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Как распутать разноцветные «нити клубка», из которых соткалась моя жизнь? Найти бы ту, единственную, которая потянула за собой остальные! Но «нити» оборваны, спутаны и поэтому буду ждать подсказок от воспоминаний, ассоциаций, чтобы из предлагаемого ими калейдоскопа выбрать то или иное событие, образ и, найдя новые оттенки, вплести проявленное в узор своего «ковра» жизни. И не будет в нём чётких рельефных орнаментов, а станет он больше похож на полотна абстракционистов.
Всё, всё конечно в этой жизни бренной, —
явления и жизни промелькнут чредою сменной
лишь сохранив во мне тот самый свет,
который соткёт клубки фантасмагорий.
И стану их распутывать старательно,
и буду вглядываться в них внимательно…
А «холстом» для моего узора послужит временной период с 2010 по 2020 год, и вплету в него когда-то сделанные записки, наброски, зарисовки, воспоминания, переписку с интересными людьми, миниатюры о природе и даже сны, ну а воспоминания… Память своевольна, капризна, она спонтанно и вдруг подсовывает то, что, казалось бы, навсегда затерялось во времени, и делает это тогда… Нет, не знаю тот день и час, когда подбросит то или иное воспоминание и лишь буду доверяться ей.
Но только б не грустить!
Ведь если я пред сменой жизней так бессильна,
то предстоящему оставлю вклад посильный, —
детей, деревья, да и всё, что сделаю на этом свете.
И то – моё участие в извечной эстафете.
Часть 1
Солнечно, тепло, – весенний день?.. Я стою и смотрю на только что вымытые широкие половицы крылечка, на свои голубые туфельки и рукав синего пальто в красных, желтых, зеленых точках-капельках. Сколько лет мне было? Не знаю. Но жили мы тогда в воинской части под Лепелем, куда папу перевели в очередной раз. А если так, то ниточка тянется к воспоминаниям мамы, которая рассказывала о тех белорусских местах:
«Там же вокруг всё болота да леса дремучие были, и деревья такие стояли, что только вдвоем и можно было обхватить. А сколько ж змей и гадюк в них водилося! Повесила я раз гамак во дворе, выхожу утром, глядь… Что ж это мой гамак такой серый? А на нем – ужи. Обвили его весь и висять[1 - Буду часто вставлять рассказанное мамой о своей жизни, сохраняя местный выговор слов.]. Господи, умерла я прямо!.. А раз за бойцом гадюка погналася, да такая здоровенная! Ну, как удав всёодно. Так что ж, как догонять его станить, а он прыг за дерево! А этот змей ка-ак налятить на это дерево да как ударится об него! Пока опомнится, солдат убегать. Так и ушел».
В Белоруссии жили мы недолго и, вернувшись за два года до начала войны[2 - Великая Отечественная Война. 1941—1945.] на родину, в Карачев[3 - Карачев – районный город Брянской области.], где и пережили оккупацию. (до августа 1943 года) Тщусь что-то выхватить из памяти, оживить, «отряхнув пыль забвения» о тех днях, но была еще совсем маленькой и удержалось немногое.
Я сижу на коленях у брата Николая (заехал к нам перед отправкой на фронт) и громко плачу, а он держит перед моими глазами бутылку, вроде как собирая слезы и говорит:
– Посмотри сколько наплакала! Может, хватит?
И я, удивлённая тем, что бутылка почти полная, успокаиваюсь.
…От шалаша, построенного над вырытой ямой (немцы выгнали нас из хаты) я бегу к нашему дому, возле которого стоит немец с коробкой в руках, из которой… я знаю, знаю!.. сейчас достанет горстку лакомства, – маленькие квадратные печеники.
…Стою на табуретке у окна и вижу, как в туманной изморози растворяются, удаляясь, два человека. Наверное, в тот момент слишком плотная аура горя соткалась в семье, если в моей детской головке сохранилась эта «картинка»: те удаляющиеся были немецким солдатом и сестрой мамы тетей Диной, которую арестовали за участи в подполье.
…Передо мной бесконечно высокая стена из спрессованного песка, я запрокидываю голову, чтобы взглядом дотянуться до ее края, увидеть небо, но только – песок, песок… Он же – и под ногами. И было это уже в 43-м, когда немцы опять выгнали нас из хаты, и мы ушли в противотанковый ров, чтобы прятаться там от угона в Германию.
…Из того самого рва в день освобождения Карачева возвращаемся к нашей сгоревшей хате по предосеннему скошенному полю ржи, по нему едут машины, суетятся солдаты и вдруг!.. Все лежат, прижавшись к земле, а я стою и смотрю на вздыбившийся и уже медленно оседающий столб земли. А когда пришли к нашему сожженному дому… Да, вижу и теперь то обгоревшее дерево с черными грушами и даже ощущаю их горьковатый вкус.
…Еду готовили на костре, ели из жестяных банок, оставшихся после солдат и вот… Я плачу, из пальца течет кровь, а брат стоит напротив и что-то делает с консервной банкой, из которой я только что ела и о край которой порезала руку.
…А это память сохранила довольно ярко, и я как бы смотрю на себя со стороны: на подоконнике сидит бледная, лысая, темноглазая девочка, до самого подбородка закутанная в серое одеяльце, смотрит в окно. И вдруг по дороге катится мячик, большой синий мячик!.. и – никого… и мячик одиноко лежит в пыли. Девочка хочет позвать маму, сказать о мячике, но не может, – после тифа онемела. Но мячик лежит, лежит!.. его никто не берёт! И вдруг:
– Ма-ма… Мячик…
И подбегает мать:
– Дочка заговорила! Ну, слава богу! Думала, что немой останется.
Когда, с каких лет на моём «белом листе» юной человеческой души начали проявляться «письмена», начертанные генной памятью и желание удержать ускользающие мгновения? Может с четырнадцати лет, когда открыла тетрадку и написала в ней первые несколько строк?
Из записок. 1954.
«Почти весь день падает и падают лохматые снежинки. Очень красиво. Но я сижу на печке, слушаю по радио музыку и пишу эти строчки. Как же хорошо за шторочками!»
Как же отрадно было, прибежав с улицы и сунув промокшие варежки в печурку, залезть на печку по лесенке, сколоченной папой из толстых досок, задернуть шторки и читать книжки или слушать репродуктор, похожий на чёрную вьетнамскую шляпу. И был он для меня учителем более интересным, чем школьные, ведь предлагал сколько постановок, классической музыки, стихов и поэм! И до сих пор помню строки:
…И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой…
И забыто – не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.
И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены прийти, до дому, —
Где жена и где тот дом?
А читал тогда эту поэму Твардовского[4 - Александр Твардовский (1910—1971) – Писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный корреспондент, главный редактор журнала «Новый мир».] диктор Юрий Левитан[5 - Юрий Левитан (1914—1963) – Диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР.], и читал так, что и до сих пор почти слышу его голос:
И с опушки отдаленной
Из-за тысячи колес
Из конца в конец колонны:
«По машинам!» – донеслось.
И опять увалы, взгорки,
Снег да ёлки с двух сторон…
Едет дальше Вася Теркин, —
Это был, конечно, он.
Мой папа и старший брат Николай (в 41-м было ему 16 лет) прошли всю войну, и брат вначале попал на передовую, потом стал прифронтовым шофером, а папа, работая до войны в пожарной части, – после бомбёжек тушил пожары, – был ранен, контужен и, хотя с войны возвратился, но уже в 1946-м уехал в московский госпиталь, где вскоре умер от ползучей парализации.
Помню об отце очень мало, но вот такое иногда всплывает отчётливо: он сидит на нашей русской печке, свесив босые ноги, я щекочу его за пятки, он поднимает ноги выше, выше, я смеюсь, смеётся и он.
Галина Сафонова-Пирус
Как распутать разноцветные «нити клубка», изкоторых соткался «ковёр» моей жизни? Ведь «нити» оборваны, спутаны и поэтому при написании повести обратилась за помощью к когда-то сделанным запискам, зарисовкам, наброскам, переписке с интересными людьми, а «холстом» послужил временной период с 2010 по 2020 год.
Узоры моей жизни
Галина Сафонова-Пирус
© Галина Сафонова-Пирус, 2023
ISBN 978-5-0060-8432-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Как распутать разноцветные «нити клубка», из которых соткалась моя жизнь? Найти бы ту, единственную, которая потянула за собой остальные! Но «нити» оборваны, спутаны и поэтому буду ждать подсказок от воспоминаний, ассоциаций, чтобы из предлагаемого ими калейдоскопа выбрать то или иное событие, образ и, найдя новые оттенки, вплести проявленное в узор своего «ковра» жизни. И не будет в нём чётких рельефных орнаментов, а станет он больше похож на полотна абстракционистов.
Всё, всё конечно в этой жизни бренной, —
явления и жизни промелькнут чредою сменной
лишь сохранив во мне тот самый свет,
который соткёт клубки фантасмагорий.
И стану их распутывать старательно,
и буду вглядываться в них внимательно…
А «холстом» для моего узора послужит временной период с 2010 по 2020 год, и вплету в него когда-то сделанные записки, наброски, зарисовки, воспоминания, переписку с интересными людьми, миниатюры о природе и даже сны, ну а воспоминания… Память своевольна, капризна, она спонтанно и вдруг подсовывает то, что, казалось бы, навсегда затерялось во времени, и делает это тогда… Нет, не знаю тот день и час, когда подбросит то или иное воспоминание и лишь буду доверяться ей.
Но только б не грустить!
Ведь если я пред сменой жизней так бессильна,
то предстоящему оставлю вклад посильный, —
детей, деревья, да и всё, что сделаю на этом свете.
И то – моё участие в извечной эстафете.
Часть 1
Солнечно, тепло, – весенний день?.. Я стою и смотрю на только что вымытые широкие половицы крылечка, на свои голубые туфельки и рукав синего пальто в красных, желтых, зеленых точках-капельках. Сколько лет мне было? Не знаю. Но жили мы тогда в воинской части под Лепелем, куда папу перевели в очередной раз. А если так, то ниточка тянется к воспоминаниям мамы, которая рассказывала о тех белорусских местах:
«Там же вокруг всё болота да леса дремучие были, и деревья такие стояли, что только вдвоем и можно было обхватить. А сколько ж змей и гадюк в них водилося! Повесила я раз гамак во дворе, выхожу утром, глядь… Что ж это мой гамак такой серый? А на нем – ужи. Обвили его весь и висять[1 - Буду часто вставлять рассказанное мамой о своей жизни, сохраняя местный выговор слов.]. Господи, умерла я прямо!.. А раз за бойцом гадюка погналася, да такая здоровенная! Ну, как удав всёодно. Так что ж, как догонять его станить, а он прыг за дерево! А этот змей ка-ак налятить на это дерево да как ударится об него! Пока опомнится, солдат убегать. Так и ушел».
В Белоруссии жили мы недолго и, вернувшись за два года до начала войны[2 - Великая Отечественная Война. 1941—1945.] на родину, в Карачев[3 - Карачев – районный город Брянской области.], где и пережили оккупацию. (до августа 1943 года) Тщусь что-то выхватить из памяти, оживить, «отряхнув пыль забвения» о тех днях, но была еще совсем маленькой и удержалось немногое.
Я сижу на коленях у брата Николая (заехал к нам перед отправкой на фронт) и громко плачу, а он держит перед моими глазами бутылку, вроде как собирая слезы и говорит:
– Посмотри сколько наплакала! Может, хватит?
И я, удивлённая тем, что бутылка почти полная, успокаиваюсь.
…От шалаша, построенного над вырытой ямой (немцы выгнали нас из хаты) я бегу к нашему дому, возле которого стоит немец с коробкой в руках, из которой… я знаю, знаю!.. сейчас достанет горстку лакомства, – маленькие квадратные печеники.
…Стою на табуретке у окна и вижу, как в туманной изморози растворяются, удаляясь, два человека. Наверное, в тот момент слишком плотная аура горя соткалась в семье, если в моей детской головке сохранилась эта «картинка»: те удаляющиеся были немецким солдатом и сестрой мамы тетей Диной, которую арестовали за участи в подполье.
…Передо мной бесконечно высокая стена из спрессованного песка, я запрокидываю голову, чтобы взглядом дотянуться до ее края, увидеть небо, но только – песок, песок… Он же – и под ногами. И было это уже в 43-м, когда немцы опять выгнали нас из хаты, и мы ушли в противотанковый ров, чтобы прятаться там от угона в Германию.
…Из того самого рва в день освобождения Карачева возвращаемся к нашей сгоревшей хате по предосеннему скошенному полю ржи, по нему едут машины, суетятся солдаты и вдруг!.. Все лежат, прижавшись к земле, а я стою и смотрю на вздыбившийся и уже медленно оседающий столб земли. А когда пришли к нашему сожженному дому… Да, вижу и теперь то обгоревшее дерево с черными грушами и даже ощущаю их горьковатый вкус.
…Еду готовили на костре, ели из жестяных банок, оставшихся после солдат и вот… Я плачу, из пальца течет кровь, а брат стоит напротив и что-то делает с консервной банкой, из которой я только что ела и о край которой порезала руку.
…А это память сохранила довольно ярко, и я как бы смотрю на себя со стороны: на подоконнике сидит бледная, лысая, темноглазая девочка, до самого подбородка закутанная в серое одеяльце, смотрит в окно. И вдруг по дороге катится мячик, большой синий мячик!.. и – никого… и мячик одиноко лежит в пыли. Девочка хочет позвать маму, сказать о мячике, но не может, – после тифа онемела. Но мячик лежит, лежит!.. его никто не берёт! И вдруг:
– Ма-ма… Мячик…
И подбегает мать:
– Дочка заговорила! Ну, слава богу! Думала, что немой останется.
Когда, с каких лет на моём «белом листе» юной человеческой души начали проявляться «письмена», начертанные генной памятью и желание удержать ускользающие мгновения? Может с четырнадцати лет, когда открыла тетрадку и написала в ней первые несколько строк?
Из записок. 1954.
«Почти весь день падает и падают лохматые снежинки. Очень красиво. Но я сижу на печке, слушаю по радио музыку и пишу эти строчки. Как же хорошо за шторочками!»
Как же отрадно было, прибежав с улицы и сунув промокшие варежки в печурку, залезть на печку по лесенке, сколоченной папой из толстых досок, задернуть шторки и читать книжки или слушать репродуктор, похожий на чёрную вьетнамскую шляпу. И был он для меня учителем более интересным, чем школьные, ведь предлагал сколько постановок, классической музыки, стихов и поэм! И до сих пор помню строки:
…И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой…
И забыто – не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.
И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены прийти, до дому, —
Где жена и где тот дом?
А читал тогда эту поэму Твардовского[4 - Александр Твардовский (1910—1971) – Писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный корреспондент, главный редактор журнала «Новый мир».] диктор Юрий Левитан[5 - Юрий Левитан (1914—1963) – Диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР.], и читал так, что и до сих пор почти слышу его голос:
И с опушки отдаленной
Из-за тысячи колес
Из конца в конец колонны:
«По машинам!» – донеслось.
И опять увалы, взгорки,
Снег да ёлки с двух сторон…
Едет дальше Вася Теркин, —
Это был, конечно, он.
Мой папа и старший брат Николай (в 41-м было ему 16 лет) прошли всю войну, и брат вначале попал на передовую, потом стал прифронтовым шофером, а папа, работая до войны в пожарной части, – после бомбёжек тушил пожары, – был ранен, контужен и, хотя с войны возвратился, но уже в 1946-м уехал в московский госпиталь, где вскоре умер от ползучей парализации.
Помню об отце очень мало, но вот такое иногда всплывает отчётливо: он сидит на нашей русской печке, свесив босые ноги, я щекочу его за пятки, он поднимает ноги выше, выше, я смеюсь, смеётся и он.