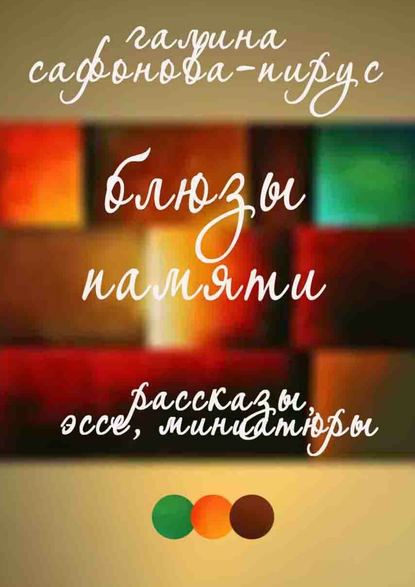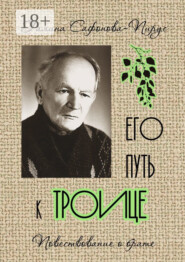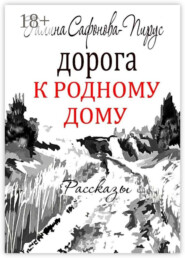По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Блюзы памяти. Рассказы, эссе, миниатюры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Браво Валера! Молодец! Не дал в обиду свою влюблённость! А что же Саня?
А Саня только заёрзал в кресле, что-то шепнул ассистентке рядом, кашлянул в кулачок…»
Что, и всё? – удивитесь вы. Ага, всё. А я тогда хотела сказать Жучкову: Ах ты… мой сильный, бодрый и уверенный в себе коллега, ну, что ж ты?.. Но не сказала. И потому, что знала: он может вот так… И в подтверждение этого еще одна запись, которая может несколько расшифровать такой «жест» Сани:
«Жучков вернулся из командировки по области и возмущался:
– Вот безобразие! Механизаторы взяли в аренду сто гектаров земли, а местные партаппаратчики не дают им распоряжаться ею так, как они хотят.
– Вот и сделайте об этом передачу, – подхватила.
Нет, не сделал передачу, а написал информацию: «Решения партконференции – в жизнь».
А пишет он штампами: «борясь и соревнуясь… заступая над предсъездовскую вахту… свой самоотверженный труд посвящают съезду партии…» Перед репетицией «Новостей» читала подобное и чуть не рассмеялась:
– Сань, ну какие же фразы ты пропускаешь! Послушай хотя бы вот эту: «Хорошую кормовую базу заложил в этом году совхоз „Найтоповичский“, и на заботу животноводов стадо ответило повышенными надоями молока».
А он вдруг и покраснел, как рак. С чего бы это? И тут взглянула на листок и увидела: ведь под информацией – его подпись!»
Вот поэтому и знала, что спрятать в себе вдруг взволновавшую правду Жучков мог запросто, так почему бы и чувство?.. А ведь Белле он, – всегда свеженький, уверенный и бодрый, – нравился больше, нежели робкий Валера. Когда она заходила к нам в кабинет, то мимо стола Поцелуйкина проходила… вроде бы его там и «не стояло», а вот рядом с двухтумбовым садилась, и тогда Саня откладывал ручку, выходил из-за стола и начинал прохаживаться по кабинету, демонстрируя все свои спортивные «достижения», через фразу делая ей комплименты. Нравилось ли ей это? Наверное. Но думаю, что забегала она подзарядиться энергией от этого бодрого и сильного с виду воздыхателя, так что, была, была у Сани перспектива, но…
Но снова – о Беллочке. В её журналистской судьбе стиральные порошки и обкомовские дачи уже сыграли определённую роль, но когда она, в поисках «правды и только…», пришла к Афронову с желанием рассказать «широкой общественности» о партийных распределителях продуктов и промтоваров и о банкете с фейерверками, который руководящие товарищи закатили на берегу Дубровского озера, то…
Да, конечно, теперь такие банкеты – привычное дело, а тогда выставлять напоказ «ликующий достаток» не поощрялось, в подполье он таился, но вот… Всё же не удержались, выдали себя фейерверками неосторожные «товарищи», а Белла… И телегеничную красавицу просто отстранили от эфира, передав ведение её «Панорам» дикторам. И как же повели себя воздыхатели в этой, критической для Беллы, ситуации, чтобы хоть как-то… хоть что-то – для неё? А вот как. Когда она, побледневшая, грустная и ставшая еще красивей, стояла в курилке, то некурящий Валера робко подходил к ней и, вдыхая очередное облачко дыма её сигаретки, что-то говорил и говорил… наверное, пытаясь утешить или предложить какой-либо выход. А, впрочем, не знаю о чём говорил, но одно то, что просто старался быть рядом, уже чего-то стоило.
Видела один раз около Беллы и Саню, но мог ли он сказать ей что-то утешительное, если понятие «правды» было им преломлено, приспособлено под среду, в которой пребывал? Что-то намудрила? Но постараюсь пояснить вот этим, «сохранённым» эпизодом из той жизни:
«В наш кабинет входят операторы, что-то шепчут Жучкову. Он снимает трубку, звонит:
– Ниночка? Здра-авствуйте! Как жизнь молодая-красивая? Привет вам от Поцелуйкина, он только что звонил из Москвы. – Я-то знаю, что «только что» никто не звонил, а Жучков уже хитровато мне улыбается: мол, как я ее! – Ниночка, что-нибудь из продуктов к празднику подкинули в ваш магазин?.. Значит, можно подъехать? Хорошо, спасибо. Еще раз привет и наилучшие пожелания от Поцелуйкина. – Кладет трубку и – к операторам: – Поезжайте. Даст что-нибудь.
И обрадованные операторы пожимают ему руку, выходят, а он… Ну вылитый петух-победитель!
– Хорош! – улыбаюсь. – Какие связи, какое влияние! Тебе бы, Василич, не здесь сидеть, а в руководстве области.
– А мне и здесь хорошо, – улыбается, довольный. – Вот сегодня… Проснулся в шесть утра, пробежал по морозцу три километра, позавтракал, приехал на работу, сделал «Новости». – И снова я: ну, победитель жизни! – А в обед поеду к любовнице, вечером – на день рождения к приятелю…
– Жучков, – прерываю список его «трудовых побед», – вот если б ко всему этому ты еще не «поимел» свою гражданскую совесть, а взял, да написал о тех мужиках, которым власти не дают работать на арендованных гектарах…
– А-а, – прерывает, махнув рукой и не обратив внимания на мою иронию, – всё равно наше начальство не пропустит».
Вот теперь и посудите, мог ли Жучков утешить своей «правдой» Беллу, которая имела свою «правду и только правду»?
Ну, а вскоре подкатил и «финал» отношений этих трёх. Как-то весь наш творческий коллектив собрался в холле, чтобы решить: стоит ли выдвигать кандидатуру Афронова в первый областной Совет, – наконец-то перестроечные симптомы доползли и до нас, вот и до кандидатов дело дошло, – но Белла… А дело было так, – помоги, дневник!
«В самую решительную минуту, когда все уже вот-вот были готовы дружно вскинуть руки «за», она… Бледная, взволнованная, красивая и решительная Белла встала перед «дружными» и спешащими по домам коллегами и заговорила:
– Может кто-то хочет выступить против этой кандидатуры? – Медленно обвела нас взглядом, вымученно улыбнулась и мне даже показалось: если донесёт эту самую улыбку до меня, то обожжет ею. – Никто не хочет?.. Похоже, никто. Ну, тогда я… – Помолчала, вдохнула: – И хочу сказать вот что: я не буду голосовать за Афронова потому, что его гражданская позиция антиперестроечная, – и испытующе взглянула на него… Ну да, она сейчас глушит удары своего сердца, набирает воздуха для следующей фразы: – К сожалению, все материалы, которые шли в эфир, я делала не по его инициативе, а вопреки ему. – И та самая вымученная улыбка по-прежнему висела на её губах, но… но лицо было прекрасно! – И теперь мне стыдно!.. стыдно за всех. Вы махнули рукой на всё, лишь бы уберечь себя и поскорее уйти домой. Но опомнитесь! Мы сейчас решаем свою судьбу! – Кажется, не может больше говорить, боится сорваться? – Ну, как? – повис в тишине её вопрос.
Неужели не откликнутся на отчаянный кличь хотя бы её two friendсы?
– Я хочу! – взвился вдруг Поцелуйкин… как флаг в своей красной рубашке, да еще и без пиджака. – Я буду говорить. – Давай, Валерочка, говори! Говори, робкий ты наш, смешной ты наш! – Во-первых, хочу сказать, что передачи должен вести автор, а не диктор, и поэтому отстранение Беллы от ведения считаю самодурством Афронова. А во-вторых… – Поправил красный воротничок, пригладил чубчик, взглянул на Беллу: – А во-вторых хочу во всем поддержать журналистку потому… – Чего по имени то не назвал? – Потому, что она по-настоящему честный человек. Да, Афронов стоит на позициях прошедших дней, и поэтому я тоже буду голосовать против него.
Молодец Валерочка! Ты не предал свою любовь, хотя… Хотя чуда не свершилось, – еще один кандидат-коммунист был избран в областной Совет».
А теперь – финал.
Ясное дело, что после такого ни Белле, ни Валере оставаться в Комитете было просто невыносимо, – при желании, к написанному журналистом, всегда можно придраться, – хотя уволить их при наступивших перестроечных временах было не так-то и просто, ибо Обкомы «сдулись»[28 - 23 августа 1991 года – Указ Президента России Б. Н. Ельцина о приостановлении деятельности Коммунистической партии на территории РСФСР.], утратив свою прежнюю силу, и пресса понемногу начинала выскальзывать из-под опеки «ведущей и направляющей», а вскоре Российской Думой было принято постановление о её относительной свободе[29 - 27 декабря 1991 года – «Закон о средствах массовой информации» о недопустимости цензуры, и о том, что учредителем газеты может стать любой гражданин России.]. Но не об этом я…
Припомнила сейчас: как-то в моей прямой передаче… с очередной накладкой Поцелуйкина, спускаюсь из аппаратной по лестнице, а он – навстречу: руки дрожат, лепечет, лепечет что-то в оправдание… Конечно, жаль его было, поэтому лишь на другой день говорю:
– Валерочка, не получается у тебя с прямым эфиром. – Стоит напротив красный, напряженный. – Не всем же дано свободно держаться перед аудиторией, – пытаюсь смягчить приговор. – Понимаю, такое больно слышать, но я очень хорошо отношусь к тебе, чтобы не сказать…
Присел… но глаз не поднял. И тут приоткрылась дверь, и кто-то бросил радостный клич: окорочка привезли, сейчас давать будут! А у меня как раз репетиция, некогда за ними… и тогда Валера тихо предлагает:
– Давайте я Вам возьму…
О-о!.. И до сих пор он таким – во мне!
А еще помню ассистентку Наташу, которая вот так же… Некрасивая была, тихая, замедленная, и далеко не всегда успевающая вовремя сдернуть с пюпитра фотографию, увлёкшись её содержанием.
А еще звукорежиссера, который из-за любви к симфонической музыке не раз пытался «подложить под колёса» хлебоуборочных комбайнов отрывки из «Лебединого озера», за что его наконец и…
А еще… Да сколько «таких» промелькнуло передо мною, – ведь в профессиях этих надо всё – точно, всё – вовремя и, не робея, а ведь не каждый мог… Отвлеклась? Да нет, всё – о том же: сила, слабость… Возможно ли распознать их, и что более почитаемо в жизни? Лично я не нашла ответа на этот вопрос, хотя почти доверялась и древнекитайскому философу Лао-Цзы: «Мы только слабостью своей сильны», и французскому драматургу Пьеру Корнелю: «Ранимы жалостью великие сердца, участье к слабому – не слабость храбреца».
А теперь так думаю: и силе, и слабости есть место на земле, – одно дополняет другое, – а каким быть, человек выбирает сам. И расплачивается за свой выбор тоже сам. Того же было не миновать и Валере, последовавшему за Беллой, которая ушла в созданную кем-то «Свободную газету».
А, может, поверил Поцелуйкин великому английскому драматургу Уильяму Шекспиру: «Завоевывай не силой, но слабостью»?
Граффити на асфальте
«Я люблю тебя!», «Я хочу всегда быть с тобой», «Ты моё всё», “ «Я хотел сказать, что…», «Извини, краски кончились». По этим откровениям, – на асфальте, белой краской, – мы шагали с ним несколько раз, и был он мне «не другом и товарищем», а просто нечаянным собеседником.
С недавних пор вечерами стала замечать его в скверике, что как раз напротив рощи старых лип и сосен. И обычно сидел он напротив детской площадки, на которой под звон детских голосов мелькают яркие пятна курточек, игрушек, шаров. Потом вставал с насиженного места и начинал ходить туда-сюда по аллее молодых лип, словно переваривая только что увиденное… или вспоминая и своё детство? А думалось так потому, что не смотрел по сторонам… боясь отвлечься от своих мыслей? И был похож на моего любимого поэта Тютчева[30 - Фёдор Тютчев (1803—1873) – русский поэт, дипломат.] поздних лет. «Симпатичный мужчина», – иногда мелькало, – любопытно было бы поговорить с ним и узнать: а есть ли в нём что-то от Федора Ивановича? И вот как-то…
Стояла, прислонившись к стволу вековой липы, и смотрела на противоположную сторону оврага под названием Нижний Судок, который пролёг от сквера к центру города и теперь, в пору разгулявшейся осени, являл собою дивную смесь оранжевых, красных, зеленных оттенков, и вдруг услышала:
– Как увядающее мило! Какая прелесть в нём для нас… не правда ли?
Как всегда, от неожиданности вздрогнула, обернулась, и узнав моего незнакомца, улыбнулась:
– Правда… – И, помедлив, с тою же улыбкой, продолжила строки Тютчева: – Когда, что так цвело и жило, теперь, так немощно и хило, в последний улыбнется раз!
И то был пароль. Незнакомец сразу же открыто улыбнулся, жестом пригласил меня в аллею старых лип и как-то сразу, – слово за слово, фраза за фразой, – завязался меж нами диалог, перетекая от Тютчева к другим поэтам, а потом и к художникам, о которых говорил со знанием терминологии, стилей, направлений. «Наверное, художник» – подумалось, но, постеснявшись, не спросила, а лишь слушала, иногда поддерживая его монологи своими скромными познаниями.
А потом из аллеи старых лип стали мы переходить улицу, чтобы перейти в сквер, и тут перед пятиэтажкой, прямо на тротуаре, под ногами и замелькали те самые надписи: «Я люблю тебя!», «Я хочу быть с тобой»… и он, вдруг остановившись, замолчал на полуфразе, прочитал одну из них: «Ты моё всё».
– Как же мало надо этому… написавшему, – пошутила, – чтобы почувствовать всю полноту жизни!
А Саня только заёрзал в кресле, что-то шепнул ассистентке рядом, кашлянул в кулачок…»
Что, и всё? – удивитесь вы. Ага, всё. А я тогда хотела сказать Жучкову: Ах ты… мой сильный, бодрый и уверенный в себе коллега, ну, что ж ты?.. Но не сказала. И потому, что знала: он может вот так… И в подтверждение этого еще одна запись, которая может несколько расшифровать такой «жест» Сани:
«Жучков вернулся из командировки по области и возмущался:
– Вот безобразие! Механизаторы взяли в аренду сто гектаров земли, а местные партаппаратчики не дают им распоряжаться ею так, как они хотят.
– Вот и сделайте об этом передачу, – подхватила.
Нет, не сделал передачу, а написал информацию: «Решения партконференции – в жизнь».
А пишет он штампами: «борясь и соревнуясь… заступая над предсъездовскую вахту… свой самоотверженный труд посвящают съезду партии…» Перед репетицией «Новостей» читала подобное и чуть не рассмеялась:
– Сань, ну какие же фразы ты пропускаешь! Послушай хотя бы вот эту: «Хорошую кормовую базу заложил в этом году совхоз „Найтоповичский“, и на заботу животноводов стадо ответило повышенными надоями молока».
А он вдруг и покраснел, как рак. С чего бы это? И тут взглянула на листок и увидела: ведь под информацией – его подпись!»
Вот поэтому и знала, что спрятать в себе вдруг взволновавшую правду Жучков мог запросто, так почему бы и чувство?.. А ведь Белле он, – всегда свеженький, уверенный и бодрый, – нравился больше, нежели робкий Валера. Когда она заходила к нам в кабинет, то мимо стола Поцелуйкина проходила… вроде бы его там и «не стояло», а вот рядом с двухтумбовым садилась, и тогда Саня откладывал ручку, выходил из-за стола и начинал прохаживаться по кабинету, демонстрируя все свои спортивные «достижения», через фразу делая ей комплименты. Нравилось ли ей это? Наверное. Но думаю, что забегала она подзарядиться энергией от этого бодрого и сильного с виду воздыхателя, так что, была, была у Сани перспектива, но…
Но снова – о Беллочке. В её журналистской судьбе стиральные порошки и обкомовские дачи уже сыграли определённую роль, но когда она, в поисках «правды и только…», пришла к Афронову с желанием рассказать «широкой общественности» о партийных распределителях продуктов и промтоваров и о банкете с фейерверками, который руководящие товарищи закатили на берегу Дубровского озера, то…
Да, конечно, теперь такие банкеты – привычное дело, а тогда выставлять напоказ «ликующий достаток» не поощрялось, в подполье он таился, но вот… Всё же не удержались, выдали себя фейерверками неосторожные «товарищи», а Белла… И телегеничную красавицу просто отстранили от эфира, передав ведение её «Панорам» дикторам. И как же повели себя воздыхатели в этой, критической для Беллы, ситуации, чтобы хоть как-то… хоть что-то – для неё? А вот как. Когда она, побледневшая, грустная и ставшая еще красивей, стояла в курилке, то некурящий Валера робко подходил к ней и, вдыхая очередное облачко дыма её сигаретки, что-то говорил и говорил… наверное, пытаясь утешить или предложить какой-либо выход. А, впрочем, не знаю о чём говорил, но одно то, что просто старался быть рядом, уже чего-то стоило.
Видела один раз около Беллы и Саню, но мог ли он сказать ей что-то утешительное, если понятие «правды» было им преломлено, приспособлено под среду, в которой пребывал? Что-то намудрила? Но постараюсь пояснить вот этим, «сохранённым» эпизодом из той жизни:
«В наш кабинет входят операторы, что-то шепчут Жучкову. Он снимает трубку, звонит:
– Ниночка? Здра-авствуйте! Как жизнь молодая-красивая? Привет вам от Поцелуйкина, он только что звонил из Москвы. – Я-то знаю, что «только что» никто не звонил, а Жучков уже хитровато мне улыбается: мол, как я ее! – Ниночка, что-нибудь из продуктов к празднику подкинули в ваш магазин?.. Значит, можно подъехать? Хорошо, спасибо. Еще раз привет и наилучшие пожелания от Поцелуйкина. – Кладет трубку и – к операторам: – Поезжайте. Даст что-нибудь.
И обрадованные операторы пожимают ему руку, выходят, а он… Ну вылитый петух-победитель!
– Хорош! – улыбаюсь. – Какие связи, какое влияние! Тебе бы, Василич, не здесь сидеть, а в руководстве области.
– А мне и здесь хорошо, – улыбается, довольный. – Вот сегодня… Проснулся в шесть утра, пробежал по морозцу три километра, позавтракал, приехал на работу, сделал «Новости». – И снова я: ну, победитель жизни! – А в обед поеду к любовнице, вечером – на день рождения к приятелю…
– Жучков, – прерываю список его «трудовых побед», – вот если б ко всему этому ты еще не «поимел» свою гражданскую совесть, а взял, да написал о тех мужиках, которым власти не дают работать на арендованных гектарах…
– А-а, – прерывает, махнув рукой и не обратив внимания на мою иронию, – всё равно наше начальство не пропустит».
Вот теперь и посудите, мог ли Жучков утешить своей «правдой» Беллу, которая имела свою «правду и только правду»?
Ну, а вскоре подкатил и «финал» отношений этих трёх. Как-то весь наш творческий коллектив собрался в холле, чтобы решить: стоит ли выдвигать кандидатуру Афронова в первый областной Совет, – наконец-то перестроечные симптомы доползли и до нас, вот и до кандидатов дело дошло, – но Белла… А дело было так, – помоги, дневник!
«В самую решительную минуту, когда все уже вот-вот были готовы дружно вскинуть руки «за», она… Бледная, взволнованная, красивая и решительная Белла встала перед «дружными» и спешащими по домам коллегами и заговорила:
– Может кто-то хочет выступить против этой кандидатуры? – Медленно обвела нас взглядом, вымученно улыбнулась и мне даже показалось: если донесёт эту самую улыбку до меня, то обожжет ею. – Никто не хочет?.. Похоже, никто. Ну, тогда я… – Помолчала, вдохнула: – И хочу сказать вот что: я не буду голосовать за Афронова потому, что его гражданская позиция антиперестроечная, – и испытующе взглянула на него… Ну да, она сейчас глушит удары своего сердца, набирает воздуха для следующей фразы: – К сожалению, все материалы, которые шли в эфир, я делала не по его инициативе, а вопреки ему. – И та самая вымученная улыбка по-прежнему висела на её губах, но… но лицо было прекрасно! – И теперь мне стыдно!.. стыдно за всех. Вы махнули рукой на всё, лишь бы уберечь себя и поскорее уйти домой. Но опомнитесь! Мы сейчас решаем свою судьбу! – Кажется, не может больше говорить, боится сорваться? – Ну, как? – повис в тишине её вопрос.
Неужели не откликнутся на отчаянный кличь хотя бы её two friendсы?
– Я хочу! – взвился вдруг Поцелуйкин… как флаг в своей красной рубашке, да еще и без пиджака. – Я буду говорить. – Давай, Валерочка, говори! Говори, робкий ты наш, смешной ты наш! – Во-первых, хочу сказать, что передачи должен вести автор, а не диктор, и поэтому отстранение Беллы от ведения считаю самодурством Афронова. А во-вторых… – Поправил красный воротничок, пригладил чубчик, взглянул на Беллу: – А во-вторых хочу во всем поддержать журналистку потому… – Чего по имени то не назвал? – Потому, что она по-настоящему честный человек. Да, Афронов стоит на позициях прошедших дней, и поэтому я тоже буду голосовать против него.
Молодец Валерочка! Ты не предал свою любовь, хотя… Хотя чуда не свершилось, – еще один кандидат-коммунист был избран в областной Совет».
А теперь – финал.
Ясное дело, что после такого ни Белле, ни Валере оставаться в Комитете было просто невыносимо, – при желании, к написанному журналистом, всегда можно придраться, – хотя уволить их при наступивших перестроечных временах было не так-то и просто, ибо Обкомы «сдулись»[28 - 23 августа 1991 года – Указ Президента России Б. Н. Ельцина о приостановлении деятельности Коммунистической партии на территории РСФСР.], утратив свою прежнюю силу, и пресса понемногу начинала выскальзывать из-под опеки «ведущей и направляющей», а вскоре Российской Думой было принято постановление о её относительной свободе[29 - 27 декабря 1991 года – «Закон о средствах массовой информации» о недопустимости цензуры, и о том, что учредителем газеты может стать любой гражданин России.]. Но не об этом я…
Припомнила сейчас: как-то в моей прямой передаче… с очередной накладкой Поцелуйкина, спускаюсь из аппаратной по лестнице, а он – навстречу: руки дрожат, лепечет, лепечет что-то в оправдание… Конечно, жаль его было, поэтому лишь на другой день говорю:
– Валерочка, не получается у тебя с прямым эфиром. – Стоит напротив красный, напряженный. – Не всем же дано свободно держаться перед аудиторией, – пытаюсь смягчить приговор. – Понимаю, такое больно слышать, но я очень хорошо отношусь к тебе, чтобы не сказать…
Присел… но глаз не поднял. И тут приоткрылась дверь, и кто-то бросил радостный клич: окорочка привезли, сейчас давать будут! А у меня как раз репетиция, некогда за ними… и тогда Валера тихо предлагает:
– Давайте я Вам возьму…
О-о!.. И до сих пор он таким – во мне!
А еще помню ассистентку Наташу, которая вот так же… Некрасивая была, тихая, замедленная, и далеко не всегда успевающая вовремя сдернуть с пюпитра фотографию, увлёкшись её содержанием.
А еще звукорежиссера, который из-за любви к симфонической музыке не раз пытался «подложить под колёса» хлебоуборочных комбайнов отрывки из «Лебединого озера», за что его наконец и…
А еще… Да сколько «таких» промелькнуло передо мною, – ведь в профессиях этих надо всё – точно, всё – вовремя и, не робея, а ведь не каждый мог… Отвлеклась? Да нет, всё – о том же: сила, слабость… Возможно ли распознать их, и что более почитаемо в жизни? Лично я не нашла ответа на этот вопрос, хотя почти доверялась и древнекитайскому философу Лао-Цзы: «Мы только слабостью своей сильны», и французскому драматургу Пьеру Корнелю: «Ранимы жалостью великие сердца, участье к слабому – не слабость храбреца».
А теперь так думаю: и силе, и слабости есть место на земле, – одно дополняет другое, – а каким быть, человек выбирает сам. И расплачивается за свой выбор тоже сам. Того же было не миновать и Валере, последовавшему за Беллой, которая ушла в созданную кем-то «Свободную газету».
А, может, поверил Поцелуйкин великому английскому драматургу Уильяму Шекспиру: «Завоевывай не силой, но слабостью»?
Граффити на асфальте
«Я люблю тебя!», «Я хочу всегда быть с тобой», «Ты моё всё», “ «Я хотел сказать, что…», «Извини, краски кончились». По этим откровениям, – на асфальте, белой краской, – мы шагали с ним несколько раз, и был он мне «не другом и товарищем», а просто нечаянным собеседником.
С недавних пор вечерами стала замечать его в скверике, что как раз напротив рощи старых лип и сосен. И обычно сидел он напротив детской площадки, на которой под звон детских голосов мелькают яркие пятна курточек, игрушек, шаров. Потом вставал с насиженного места и начинал ходить туда-сюда по аллее молодых лип, словно переваривая только что увиденное… или вспоминая и своё детство? А думалось так потому, что не смотрел по сторонам… боясь отвлечься от своих мыслей? И был похож на моего любимого поэта Тютчева[30 - Фёдор Тютчев (1803—1873) – русский поэт, дипломат.] поздних лет. «Симпатичный мужчина», – иногда мелькало, – любопытно было бы поговорить с ним и узнать: а есть ли в нём что-то от Федора Ивановича? И вот как-то…
Стояла, прислонившись к стволу вековой липы, и смотрела на противоположную сторону оврага под названием Нижний Судок, который пролёг от сквера к центру города и теперь, в пору разгулявшейся осени, являл собою дивную смесь оранжевых, красных, зеленных оттенков, и вдруг услышала:
– Как увядающее мило! Какая прелесть в нём для нас… не правда ли?
Как всегда, от неожиданности вздрогнула, обернулась, и узнав моего незнакомца, улыбнулась:
– Правда… – И, помедлив, с тою же улыбкой, продолжила строки Тютчева: – Когда, что так цвело и жило, теперь, так немощно и хило, в последний улыбнется раз!
И то был пароль. Незнакомец сразу же открыто улыбнулся, жестом пригласил меня в аллею старых лип и как-то сразу, – слово за слово, фраза за фразой, – завязался меж нами диалог, перетекая от Тютчева к другим поэтам, а потом и к художникам, о которых говорил со знанием терминологии, стилей, направлений. «Наверное, художник» – подумалось, но, постеснявшись, не спросила, а лишь слушала, иногда поддерживая его монологи своими скромными познаниями.
А потом из аллеи старых лип стали мы переходить улицу, чтобы перейти в сквер, и тут перед пятиэтажкой, прямо на тротуаре, под ногами и замелькали те самые надписи: «Я люблю тебя!», «Я хочу быть с тобой»… и он, вдруг остановившись, замолчал на полуфразе, прочитал одну из них: «Ты моё всё».
– Как же мало надо этому… написавшему, – пошутила, – чтобы почувствовать всю полноту жизни!