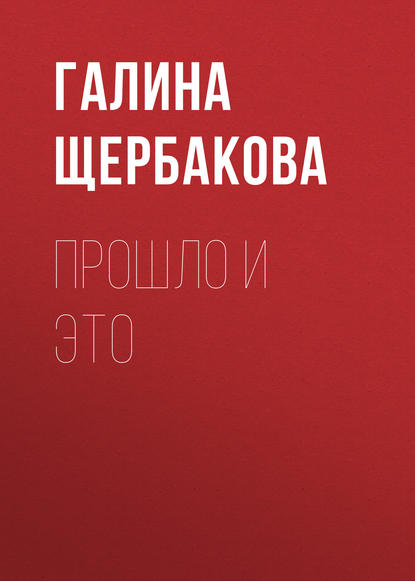По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прошло и это
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прошло и это
Галина Николаевна Щербакова
Эти последние повести Галины Щербаковой станут полной неожиданностью для поклонников ее произведений о "подробностях мелких чувств" и "женщинах в игре без правил".
В ее новой прозе страшная действительность (Чеченская война) сливается с не менее мрачной фантастикой (заражение Земли "вирусом убийства").
Это своего рода "новая Щербакова" – все три повести ("Прошло и это", "Метка Лилит", "...по имени Анна") написаны резко, порой шокирующе. Но как иначе рассказать о том, как зачастую в нашей жизни бывают слиты в едином тесном объятии добро и зло?
Галина ЩЕРБАКОВА
ПРОШЛО И ЭТО
Повесть
Услышав звонок в дверь, Надежда быстро надевает на голову вязанную из шелковых ниток шапочку. Из всех потерь, которые принесло время, волосы – самая оскорбительная. В больнице их всех обвязывали платочками. Одноголовые старухи, думала она. Верная ей секретарша, втайне чая ее смерти, связала ей три шапчонки. Такие сейчас носят модницы с красивыми черепами, выпуская на щеку или лоб завихренный локон. Ей выпустить нечего. Но зато она не в этом клятом платочке. Это утешает.
Звонит, конечно, Ольга. Ее день. Господи, ну что за солоха, эта племянница. Ни одеться, ни обуться, ни причесаться… А ведь и сорока еще нет. Сейчас сядет на венский стул – он у Надежды для посетителей – и сразу станет видно, какая у нее нескладная фигура. И Надежда в который раз бросит ей грубо: «Да садись на табуретку, на ней удобней».
– Мне удобно, – ответит Ольга. А в голосе будет обида, даже боль, и она незаметно отодвинет хозяйскую табуретку.
Ольга только вошла, но ей уже хочется уйти из пропахшей лекарствами и едой квартиры. На подоконнике муха истово трет передние лапки. Если ее не пришлепнут газеткой, она доживет в достатке этого дома до холодов. Ольга верит в осторожность и осмотрительность мухи – не жужжит, не летает оглашенно туда-сюда, ни разу не села на больную. Облетает ее и разглядывает издалека, с потолка.
Тетка угадывает мысли Ольги.
– Я зову эту сволочь Терешковой.
«А как она зовет меня? – думает Ольга. – Манефой? Фефелой? Перпетуей?»
Дочь Катька сказала бы без сомнений: «Она зовет тебя нищей родственницей, ждущей наследства. Ты не в курсе, сколько там накоплено?» Но Ольга знает: такие, как она, наследство не получают. Она из тех людей, которым просто так в жизни ничего не обламывается.
За час до пустого разговора о мухе мать и дочь шли по одной и той же улице, но по разным сторонам. Занятые мыслями, они не вертели головой, каждая думала о другой.
Дочь думала о том, что мать идет к тетке, что когда-то мать была хорошенькая, а потом куда что делось. Одно утешение – отец с глазами минус семнадцать ничего не видит и по-прежнему повторяет матери те слова, которые говорил в молодости: «Красавица, умница». А мать тихонько плачет от них, когда он уже засыпает.
Катька представляет, как мать боком, как бы виновато, садится на венский стул. А тетка злится, потому что ей виделся на нем только что актер Тихонов-Штирлиц. А вчера был Лановой, с которым они всласть поговорили об евреях. И вот на тебе – сидит простая, как три рубля, училка. Фантазерка Катька придумывает двоюродной бабке пафосные мысли и видения. Ну, там стояние на мавзолее, а рядом генерал весь в бляхах-мухах славы, а с другой стороны – тоненький, как носик клизмы, космонавтик. И бабка пышет жаром от гордости, что те, кто никто, прутся внизу густой массой и смотрят с завистью на нее, генерала и космонавта. Наивная Катька и вообразить себе не могла коридор фантазии Надежды. Это был не Мавзолей и не Штирлиц, это был узенький сладкий коридор тесных слияний во мраке, где лица и звания не имели значения. И хотя смерть уже приходила с повесткой, плотские мысли занимали больную до скрипа зубных протезов.
Ольга же думала о дочери и о времени. Почему-то саднило от вида трех головастиков-девяток, которые кончают век. И дочери девятнадцать, тоже цифра с головастиком. И она вся колючая, неласковая, дитя века. А вдруг она и его жертва?.. И в ней возникает страх. Сегодня на ее глазах выбрасывали в мусоропровод мышонка, купленного для игры толстому мордатому персидскому коту. Кот живет на импортной диете. Живого мышонка ему покупают для развлечения, чтоб кот погонял его лениво по комнате, а потом положил на него широкую лапу. Бедняга малыш замрет, ожидая конца, но конец будет другой. Его просто выкинут в мусоропровод, там он и сдохнет, мало что поняв в своей коротенькой жизни.
«Мыши, конечно, гадость, – думает Ольга, – но маленького жалко до слез». «Но если бы кот его сожрал, было бы лучше?» – говорит она себе. И отвечает: «Это была бы естественная смерть».
Тут Ольга спохватывается: оказывается, она не думает, а говорит. Последнее время она заметила за собой, что думает вслух. И ей бывает трудно кончить фразу, договорить мысль ни для кого до конца. Как будто кто-то перехватывает ей горло: не продолжай, мол, нет смысла в твоем говорении. Не сразу, но поняла наконец: это оттого, что ее слова и мысли неинтересны людям. Люди не слышат и не хотят слышать не только ее, но и других тоже. Она учуивает это и замолкает.
Только в школе с ребятами она автомат без поломки. И дети не давят ей горло. Хотя… Нет, там она не поддается… Тетка же и дочки затыкают ей рот. Зачем она ходит к больной? Потому что больных надо навещать, приносить им конфеты, яблоки, интересные книжки? Вот и сегодня она несет тетке дыньку «колхозница». Ее собственные дочери закатываются от смеха. «Девочки, ну как так можно? Старый человек, сколько ей осталось?» Но им горло не придавишь, они все скажут четко, со всеми знаками препинания: «Она для тебя хоть что-то сделала?»
– Девочки, девочки, – тихо говорит Ольга. И снова перехватывает горло,
хотя, может, на этот раз просто сказать нечего. И на это ее «нечего» – взгляд Катьки, такой жалостливый, но не от жалости – от презрения. Мол, дура ты, мать, дура.
Вот о чем в то утро думали мать и дочь, идя по разным сторонам улицы,
одинаково склонивши головы. Это хорошо было видно птицам, и будь они болтливы, они обязательно чирикнули бы матери и дочери об этом. И те бы выпрямились, и пошли бы гордо, и гордо держались бы там, куда попали. Но птицы смолчали. В конце концов, это не их птичье дело.
Катька не знает, что на самом деле мать ходит к больной учиться процессу смерти. У Ольги мать умерла в сорок три года, их соседка по площадке шагнула из окна в тридцать пять, брат мужа в девятнадцать лет шел с работы и рухнул как подкошенный, за секунду до этого еще живой. Люди мрут неорганизованно, без правил, а у смерти должно быть свое правило, тогда и жизнь не упустит важного, не прошляпит время. Ольге хочется понять правило смерти, чтоб пригодилось в нужный момент. Хотя, с другой стороны, столько вокруг ликующей жизни! Соплюхи рулят машинами, безмашинные дорогими подолами метут улицы, покупают в магазинах такое, к чему она стесняется подойти. Иногда ей до смерти хочется хотя бы раз лизнуть какой-нибудь лобстер там или пекинскую утку. Наверняка гадость, но как же хочется попробовать! Но она сроду не попробует даже то, что в мелко нарезанном виде предлагают в магазине. Нищая что ли, чтобы кусочничать?
Так она думает, глядя на тетку, выталкивающую из щели рта неровные хриплые выдохи. «Смотри и учись, – говорит себе Ольга. – Не позволяй продлевать себе срок. Это некрасиво выглядит». «Роды еще страшнее, – отвечает себе же. – С виду еще гаже… Вот ведь какая получается штука. Человек проживает в рамочке из двух срамных уродств – рождения и смерти, а ему талдычат о красоте, величии, каком-то особом предназначении. А он, бедолага, просто должен добежать от одной кучки дерьма (первородного) до другой (посмертной)».
Нет, нельзя об этом возле больной, думает Ольга. Грех. Надо думать о чем-то светлом. Но ангелы не прилетают, не задевают крылом Ольгины сгорбленные мысли. У них разная среда обитания – у шестикрылых серафимов и женщины тридцати девяти лет, у которой проблемы с давлением, две взрослые девицы, муж, кандидат наук, сторожит базу, и у самой Ольги две работы: одна – до четырех, другая – с шести. А в паузе она колготится дома со стиркой или тут. У одра, или как это называется? Одр, одра, одру, одром, на одре… Надо будет узнать на первой своей работе, в школе, знакомо ли ее восьмиклассникам это слово. А потом на другой работе, в корректорском цехе. «Одром – ведром», – скажет ей ее подчитчица Груня, девица статей богатырских, но тупая до невероятия. Ей нравится писать, как слышится, и она – чистая душа – не узнает знакомые слова в правильно написанной форме. «Гляньте, Оля, что за слово… Маде-муазель… Они, че, спятили? Маде… Муде…»
Господи! Куда это занесли ее мысли-уродцы, с горбами на плечах, едва несущие самих себя на плоских искривленных стопах? Ей нравится Груня. Она приносит Ольге из дома баночные перченые огурчики и толстые пышки, которые печет ее бабушка. Куда там лавашу, которым торгуют на всех углах, куда этой пустотелой пите! Грунину пышку хочется есть и есть, и в ответ она так тебя любит в процессе своего же поедания, что ни одной крошечки от себя не оставляет, отдается тебе страстно, без остатка. Груня – та же пышка, радость, доброта. А то, что не знает грамоты… А она, Ольга, знает, как сделать тесто, как у Груниной бабушки? Не знает! Ну, и от чего больше в жизни счастья? От Груниного незнания, что в слове мадемуазель есть абсолютно ненужное, с точки зрения Груни, «е», или в умении делать несравненное тесто? То-то…
Никогда ни к чему у нее не было безразличия. Ни к живому, ни к мертвому. Наоборот. Она так устроена, будто тонкие невидимые нити связывают ее со всем сущим. Сущему больно – и ей тоже. Конечно, есть в этом момент глупости. Ее может задеть и разволновать и неживое. До сих пор в памяти из глубокого детства висит соседкина веревка с бельем. Их соседка обстирывала охранников важных объектов, райкома, водопровода и даже тюрьмы. Кальсоны эти, выжелтевшие, в латках, были до тошноты стыдные. Особенно треснутые, в четыре дырочки, пуговицы. Острый запах плохого мыла и сырого, плохо выжатого белья. И по сей день ноздри это помнят. Глядя на постылое белье, заехавшая по дороге «с курорта» тетка сказала: «Крепко мужиком пахнет. Прямо ух!» Когда же это было, если ей, Ольге, было лет пять-шесть? Где-то в середине шестидесятых. Она тогда задумалась над этим «ух».
Странные пересечения нитей. Надежда в этот момент, разглядывая нескладеху-племянницу, тоже вспоминает запахи послевоенной коммуналки в Москве. Ей дали девять квадратов за заслуги в труде и общественной жизни. Это было большое поощрение и большой замах по тому времени.
Тетка лежит дома уже три недели. Временами спохватывается и звонко просит курочку или что-нибудь сладенькое, и Ваня (Ваняточка), муж, провористо, будто заранее получает сигнал, подает беленькое мясо с обязательной пупыристой шкуркой или там мусс из вишни, такой весь дрожащий от нетерпения быть съеденным. Ольге не приходится ни в чем ему помогать. Кухня фырчит и скворчит с утра до вечера, чтоб любое желание Надюши-Надюрки исполнить на раз-два.
«Господи, – думает Ольга. – Посмотришь и позавидуешь такой смерти. Мне бы кто когда… подал, принес…» Но новая мысль не поселяется капитально, как те, что приходят на ковыляющих ногах. Те внедряются в самое тело мозга, и их оттуда не извлечешь никаким макаром. Эта же – «мне бы так» – не из тех. Хотя именно такой случай раз в жизни был. Первый муж принес ей в постель кофе. Большего ужаса трудно представить. Все опрокинулось на одеяло, а одеяло не свое – свекровино, испугались тогда оба, – кофейная гуща неэстетичной кучкой возлегла на подушку и гляделась просто неприлично.
Возможно, с той кофейной гущи пошло у них с Эдиком легкое отвращение друг к другу… Именно кучка гущи, а не взаимонепонимание или там телесное неприятие. Что-то куда более незначительное, можно сказать, чепуховое, грызло их молодую семью, еще без возраста и опыта. С тех пор Ольга знает: не потрясения, не голод и холод, не безденежье способны взорвать жизнь к чертовой матери, а легкий взмах бабочки, мышиный хвостик той самой, что «бежала, хвостиком махнула…» Тонкая материя… Чей-то вздох, запах, пролитый чертов кофе – вот они и есть главные подрывники бытия.
Погрузясь в себя, Ольга упустила желтый проблеск глаз Надюши. Крохотные смотрелочки в припухлости век и подглазий. Но даже из болезни они крючком подловили, зацепили и держат ее для рассмотрения.
– Ты раздалась, – говорят глазки через бледную щель рта. – Задница у тебя уже шире стула.
Надюша всегда была прямоговорящая, всю жизнь начальница.
Ольга помнит шестьдесят седьмой и соседа-мальчишку, который за три рубля сочинял телеграмму в стихах от бабушки тетке в связи с ее пятидесятилетием и пятидесятилетием революции. Как бабушка ненавидела советскую власть, вряд ли еще кто ненавидел. Одновременно родная дочь на высоком этаже этой власти была обожаема. Через много лет муж Ольги говорил, что это особый вид то ли русской проституции, то ли глубинного безразличия ко всей материи жизни, то, что сегодня называют «а мне по барабану».
Надюшечка начинала вспахивать карьерную зябь в Москве. Была тоща, некрасива и имела девять квадратов в коммуналке. Чтоб пустить курсанта Ваняточку на ночь, надо было дважды клацнуть и взвизгнуть замками. Хватало, чтоб в прихожей возникали тени. «Надюша, у нас квартира старых большевиков, а не дом свиданий». Квартиру занимали два бывших охранника на пенсии, семья военных, актриса оперетты, пятая комната была у нее, начинающего партийного работника. Хоромы остались от знаменитого оперного певца, бежавшего из России еще во времена оны. И в них была еще… каморка для прислуги, где жил какой-то очень секретный физик. Одиночка, он как-то исхитрялся не пи?сать, не какать по месту жительства, воды тратил по минимуму, а чайник и плитку пользовал электрические.
– В нем был сразу виден враг народа, – говорила впоследствии Надюша. В конце концов, так и оказалось. Сбежал физик за границу.
Ваняточку же сборная гуманистов признала. Еще бы! Курсант стал военным особистом. Он умел выпивать и с вохровцами, и с офицером, щупал ляжки их женам, но только для взаимного удовольствия и никогда для хамства. Не шло дело с физиком. Ваняточка, будучи на взводе, мог постучать в комнатку челяди глубоко заполночь, слышал скрип железной кровати, но пущен не был ни разу. Собственно, с этого времени физик и исчез. И расцвел в джунглях капитализма, как только сумел туда попасть. Гад ползучий.
– А я мог тогда взломать дверь и подушечкой его, подушечкой, – говаривал потом Ваняточка.
– Не мог, – обреза?ла Надюша. – Не такой ты человек, чтоб убить лежачего.
Глаза же Ваняточки туманились от безумного скрещения мыслей. Что же правильней было бы? Подушечкой или все-таки не смочь? Ах, эти остроконечные вопросы! Так и живешь с ними десять, двадцать, а то и тридцать лет. И саднит, саднит в памяти этот скрип кровати под человеком, который не хочет тебе дверь открыть, западло ему это. И ты уходишь, жалко шаркая тапками. А ведь убей он тогда физика, не совершил бы тот предательства родины. Это ведь из грехов наиважнейший. Тут убить – как спасти! Вот так и продолжал жить Ваня, Ваняточка, до полного облысения, не решив для себя главный вопрос жизни. Надо ли было войти со взломом? И подушечкой, подушечкой…
Ольга узнала про эту мысль дядьки много-много позже. Уже после Хрущева, в середине шестидесятых, Надюрка и Ванятка вернулись в город теткиной юности. Именно здесь тетку ждал большой взлет в связи со слиянием партии в единое целое после вражеского разделения ее на сельскую и промышленную. Их возвращение в Р. чуть было не помешало Ольге через годы поступить в МГУ. Тетка кричала, что только таких, как она, там не хватало. Нечего задираться. Что, в Р. нет институтов? Она сама тут училась и была выбрана Москвой. А ты кто такая? Мать смотрела на дочь жалостливо: «Может, и правда, Оля?» Дочь же поступила в МГУ и сделала сразу две глупости: вышла замуж и забеременела. Пришлось снимать каморку. В эту каморку приехала в гости мама. Тут и возникла история у мамы, которая к нашей отношения не имеет никакого, но как приправа, как неожиданный мазок в почти готовой картине, как самое то, без чего нет цельного мира, ее придется рассказать.
Итак, Ольга с ребенком, мужем, с тремя копейками в кармане – глаза бы всех не видели, а тут мама, любимая, хорошая, но так некстати. Деликатная мама старается не быть дома, ходит, смотрит витрины, стесняется случайных зеркал, придумывает, что бы приготовить на обед, чем порадовать замученную дочь. И по дороге покупает двух живых, бьющих хвостами карпов. Матери сорок три года, но ей неловко, что она моментами выглядит моложе Ольги. Горе и стыд какие!
И тут навстречу подворачивается мужчина, теперь бы сказали «мачо», но тогда, в начале восьмидесятых, не было новых чудных слов, которых теперь больше, чем привычных старых. Высокий красивый дядька, завгаражом, с кооперативной квартирой, глядевшей окнами на «Рабочего и колхозницу», бездетный. Жена уже лет десять как ушла к врачу-гинекологу – пошла у них любовь-морковь. Мачо, еще не будучи этим словом, даже плакал, а после как-то утром проснулся, потянулся до хруста косточек – и все. Как и не было тонкой и капризной женщины-жены, за которую когда-то хотелось или умереть, или убить. В общем, на эти два «у» ушло у него лет восемь жизни, а потом с хрустом все и кончилось. И пошло-поехало на хорошей машине – все-таки завгар. Стал он по утрам смотреть на крутые бедра колхозницы за окном, удивляясь глупости этой пары, скрестившей в сущности теперь бесполезные предметы. От отрицания главного символа кино как правды жизни пошел дальше. И как-то, идя пешком, встретил такую всю из себя маленькую, мягонькую женщину с авоськой, в которой бились хвостами два карпа, бились как оглашенные за право жить, хотя, скорее всего, по-рыбьи чуяли, что шансов у них на победу ноль. Почему-то он остро почувствовал муку карпов и рассердился на мягонькую.
– Не жалко? – грубо спросил он ее.
– Жалко, – ответила она так жалобно, что он тут же простил ее. Более того! Как-то живенько представил, как ей хотелось, дамочке, речной рыбки, а тут как раз выдвинули посередь дороги цистерну с плещущей живностью, ну, как пройдешь мимо? И он взял у женщины авоську и легонько стукнул кулаком по головам обреченных рыб, а потом завернул их в «Правду» о целых шести страницах и сложил в толстую полотняную сумку, которую всегда носил при себе – мало ли что встретится по дороге. Яички там, или суповые наборы, или сайра с привесом в виде двух пачек соды и горчицы. На улице попадались иногда удивительные находки. Без сумки выйти – жизни не понимать.
Галина Николаевна Щербакова
Эти последние повести Галины Щербаковой станут полной неожиданностью для поклонников ее произведений о "подробностях мелких чувств" и "женщинах в игре без правил".
В ее новой прозе страшная действительность (Чеченская война) сливается с не менее мрачной фантастикой (заражение Земли "вирусом убийства").
Это своего рода "новая Щербакова" – все три повести ("Прошло и это", "Метка Лилит", "...по имени Анна") написаны резко, порой шокирующе. Но как иначе рассказать о том, как зачастую в нашей жизни бывают слиты в едином тесном объятии добро и зло?
Галина ЩЕРБАКОВА
ПРОШЛО И ЭТО
Повесть
Услышав звонок в дверь, Надежда быстро надевает на голову вязанную из шелковых ниток шапочку. Из всех потерь, которые принесло время, волосы – самая оскорбительная. В больнице их всех обвязывали платочками. Одноголовые старухи, думала она. Верная ей секретарша, втайне чая ее смерти, связала ей три шапчонки. Такие сейчас носят модницы с красивыми черепами, выпуская на щеку или лоб завихренный локон. Ей выпустить нечего. Но зато она не в этом клятом платочке. Это утешает.
Звонит, конечно, Ольга. Ее день. Господи, ну что за солоха, эта племянница. Ни одеться, ни обуться, ни причесаться… А ведь и сорока еще нет. Сейчас сядет на венский стул – он у Надежды для посетителей – и сразу станет видно, какая у нее нескладная фигура. И Надежда в который раз бросит ей грубо: «Да садись на табуретку, на ней удобней».
– Мне удобно, – ответит Ольга. А в голосе будет обида, даже боль, и она незаметно отодвинет хозяйскую табуретку.
Ольга только вошла, но ей уже хочется уйти из пропахшей лекарствами и едой квартиры. На подоконнике муха истово трет передние лапки. Если ее не пришлепнут газеткой, она доживет в достатке этого дома до холодов. Ольга верит в осторожность и осмотрительность мухи – не жужжит, не летает оглашенно туда-сюда, ни разу не села на больную. Облетает ее и разглядывает издалека, с потолка.
Тетка угадывает мысли Ольги.
– Я зову эту сволочь Терешковой.
«А как она зовет меня? – думает Ольга. – Манефой? Фефелой? Перпетуей?»
Дочь Катька сказала бы без сомнений: «Она зовет тебя нищей родственницей, ждущей наследства. Ты не в курсе, сколько там накоплено?» Но Ольга знает: такие, как она, наследство не получают. Она из тех людей, которым просто так в жизни ничего не обламывается.
За час до пустого разговора о мухе мать и дочь шли по одной и той же улице, но по разным сторонам. Занятые мыслями, они не вертели головой, каждая думала о другой.
Дочь думала о том, что мать идет к тетке, что когда-то мать была хорошенькая, а потом куда что делось. Одно утешение – отец с глазами минус семнадцать ничего не видит и по-прежнему повторяет матери те слова, которые говорил в молодости: «Красавица, умница». А мать тихонько плачет от них, когда он уже засыпает.
Катька представляет, как мать боком, как бы виновато, садится на венский стул. А тетка злится, потому что ей виделся на нем только что актер Тихонов-Штирлиц. А вчера был Лановой, с которым они всласть поговорили об евреях. И вот на тебе – сидит простая, как три рубля, училка. Фантазерка Катька придумывает двоюродной бабке пафосные мысли и видения. Ну, там стояние на мавзолее, а рядом генерал весь в бляхах-мухах славы, а с другой стороны – тоненький, как носик клизмы, космонавтик. И бабка пышет жаром от гордости, что те, кто никто, прутся внизу густой массой и смотрят с завистью на нее, генерала и космонавта. Наивная Катька и вообразить себе не могла коридор фантазии Надежды. Это был не Мавзолей и не Штирлиц, это был узенький сладкий коридор тесных слияний во мраке, где лица и звания не имели значения. И хотя смерть уже приходила с повесткой, плотские мысли занимали больную до скрипа зубных протезов.
Ольга же думала о дочери и о времени. Почему-то саднило от вида трех головастиков-девяток, которые кончают век. И дочери девятнадцать, тоже цифра с головастиком. И она вся колючая, неласковая, дитя века. А вдруг она и его жертва?.. И в ней возникает страх. Сегодня на ее глазах выбрасывали в мусоропровод мышонка, купленного для игры толстому мордатому персидскому коту. Кот живет на импортной диете. Живого мышонка ему покупают для развлечения, чтоб кот погонял его лениво по комнате, а потом положил на него широкую лапу. Бедняга малыш замрет, ожидая конца, но конец будет другой. Его просто выкинут в мусоропровод, там он и сдохнет, мало что поняв в своей коротенькой жизни.
«Мыши, конечно, гадость, – думает Ольга, – но маленького жалко до слез». «Но если бы кот его сожрал, было бы лучше?» – говорит она себе. И отвечает: «Это была бы естественная смерть».
Тут Ольга спохватывается: оказывается, она не думает, а говорит. Последнее время она заметила за собой, что думает вслух. И ей бывает трудно кончить фразу, договорить мысль ни для кого до конца. Как будто кто-то перехватывает ей горло: не продолжай, мол, нет смысла в твоем говорении. Не сразу, но поняла наконец: это оттого, что ее слова и мысли неинтересны людям. Люди не слышат и не хотят слышать не только ее, но и других тоже. Она учуивает это и замолкает.
Только в школе с ребятами она автомат без поломки. И дети не давят ей горло. Хотя… Нет, там она не поддается… Тетка же и дочки затыкают ей рот. Зачем она ходит к больной? Потому что больных надо навещать, приносить им конфеты, яблоки, интересные книжки? Вот и сегодня она несет тетке дыньку «колхозница». Ее собственные дочери закатываются от смеха. «Девочки, ну как так можно? Старый человек, сколько ей осталось?» Но им горло не придавишь, они все скажут четко, со всеми знаками препинания: «Она для тебя хоть что-то сделала?»
– Девочки, девочки, – тихо говорит Ольга. И снова перехватывает горло,
хотя, может, на этот раз просто сказать нечего. И на это ее «нечего» – взгляд Катьки, такой жалостливый, но не от жалости – от презрения. Мол, дура ты, мать, дура.
Вот о чем в то утро думали мать и дочь, идя по разным сторонам улицы,
одинаково склонивши головы. Это хорошо было видно птицам, и будь они болтливы, они обязательно чирикнули бы матери и дочери об этом. И те бы выпрямились, и пошли бы гордо, и гордо держались бы там, куда попали. Но птицы смолчали. В конце концов, это не их птичье дело.
Катька не знает, что на самом деле мать ходит к больной учиться процессу смерти. У Ольги мать умерла в сорок три года, их соседка по площадке шагнула из окна в тридцать пять, брат мужа в девятнадцать лет шел с работы и рухнул как подкошенный, за секунду до этого еще живой. Люди мрут неорганизованно, без правил, а у смерти должно быть свое правило, тогда и жизнь не упустит важного, не прошляпит время. Ольге хочется понять правило смерти, чтоб пригодилось в нужный момент. Хотя, с другой стороны, столько вокруг ликующей жизни! Соплюхи рулят машинами, безмашинные дорогими подолами метут улицы, покупают в магазинах такое, к чему она стесняется подойти. Иногда ей до смерти хочется хотя бы раз лизнуть какой-нибудь лобстер там или пекинскую утку. Наверняка гадость, но как же хочется попробовать! Но она сроду не попробует даже то, что в мелко нарезанном виде предлагают в магазине. Нищая что ли, чтобы кусочничать?
Так она думает, глядя на тетку, выталкивающую из щели рта неровные хриплые выдохи. «Смотри и учись, – говорит себе Ольга. – Не позволяй продлевать себе срок. Это некрасиво выглядит». «Роды еще страшнее, – отвечает себе же. – С виду еще гаже… Вот ведь какая получается штука. Человек проживает в рамочке из двух срамных уродств – рождения и смерти, а ему талдычат о красоте, величии, каком-то особом предназначении. А он, бедолага, просто должен добежать от одной кучки дерьма (первородного) до другой (посмертной)».
Нет, нельзя об этом возле больной, думает Ольга. Грех. Надо думать о чем-то светлом. Но ангелы не прилетают, не задевают крылом Ольгины сгорбленные мысли. У них разная среда обитания – у шестикрылых серафимов и женщины тридцати девяти лет, у которой проблемы с давлением, две взрослые девицы, муж, кандидат наук, сторожит базу, и у самой Ольги две работы: одна – до четырех, другая – с шести. А в паузе она колготится дома со стиркой или тут. У одра, или как это называется? Одр, одра, одру, одром, на одре… Надо будет узнать на первой своей работе, в школе, знакомо ли ее восьмиклассникам это слово. А потом на другой работе, в корректорском цехе. «Одром – ведром», – скажет ей ее подчитчица Груня, девица статей богатырских, но тупая до невероятия. Ей нравится писать, как слышится, и она – чистая душа – не узнает знакомые слова в правильно написанной форме. «Гляньте, Оля, что за слово… Маде-муазель… Они, че, спятили? Маде… Муде…»
Господи! Куда это занесли ее мысли-уродцы, с горбами на плечах, едва несущие самих себя на плоских искривленных стопах? Ей нравится Груня. Она приносит Ольге из дома баночные перченые огурчики и толстые пышки, которые печет ее бабушка. Куда там лавашу, которым торгуют на всех углах, куда этой пустотелой пите! Грунину пышку хочется есть и есть, и в ответ она так тебя любит в процессе своего же поедания, что ни одной крошечки от себя не оставляет, отдается тебе страстно, без остатка. Груня – та же пышка, радость, доброта. А то, что не знает грамоты… А она, Ольга, знает, как сделать тесто, как у Груниной бабушки? Не знает! Ну, и от чего больше в жизни счастья? От Груниного незнания, что в слове мадемуазель есть абсолютно ненужное, с точки зрения Груни, «е», или в умении делать несравненное тесто? То-то…
Никогда ни к чему у нее не было безразличия. Ни к живому, ни к мертвому. Наоборот. Она так устроена, будто тонкие невидимые нити связывают ее со всем сущим. Сущему больно – и ей тоже. Конечно, есть в этом момент глупости. Ее может задеть и разволновать и неживое. До сих пор в памяти из глубокого детства висит соседкина веревка с бельем. Их соседка обстирывала охранников важных объектов, райкома, водопровода и даже тюрьмы. Кальсоны эти, выжелтевшие, в латках, были до тошноты стыдные. Особенно треснутые, в четыре дырочки, пуговицы. Острый запах плохого мыла и сырого, плохо выжатого белья. И по сей день ноздри это помнят. Глядя на постылое белье, заехавшая по дороге «с курорта» тетка сказала: «Крепко мужиком пахнет. Прямо ух!» Когда же это было, если ей, Ольге, было лет пять-шесть? Где-то в середине шестидесятых. Она тогда задумалась над этим «ух».
Странные пересечения нитей. Надежда в этот момент, разглядывая нескладеху-племянницу, тоже вспоминает запахи послевоенной коммуналки в Москве. Ей дали девять квадратов за заслуги в труде и общественной жизни. Это было большое поощрение и большой замах по тому времени.
Тетка лежит дома уже три недели. Временами спохватывается и звонко просит курочку или что-нибудь сладенькое, и Ваня (Ваняточка), муж, провористо, будто заранее получает сигнал, подает беленькое мясо с обязательной пупыристой шкуркой или там мусс из вишни, такой весь дрожащий от нетерпения быть съеденным. Ольге не приходится ни в чем ему помогать. Кухня фырчит и скворчит с утра до вечера, чтоб любое желание Надюши-Надюрки исполнить на раз-два.
«Господи, – думает Ольга. – Посмотришь и позавидуешь такой смерти. Мне бы кто когда… подал, принес…» Но новая мысль не поселяется капитально, как те, что приходят на ковыляющих ногах. Те внедряются в самое тело мозга, и их оттуда не извлечешь никаким макаром. Эта же – «мне бы так» – не из тех. Хотя именно такой случай раз в жизни был. Первый муж принес ей в постель кофе. Большего ужаса трудно представить. Все опрокинулось на одеяло, а одеяло не свое – свекровино, испугались тогда оба, – кофейная гуща неэстетичной кучкой возлегла на подушку и гляделась просто неприлично.
Возможно, с той кофейной гущи пошло у них с Эдиком легкое отвращение друг к другу… Именно кучка гущи, а не взаимонепонимание или там телесное неприятие. Что-то куда более незначительное, можно сказать, чепуховое, грызло их молодую семью, еще без возраста и опыта. С тех пор Ольга знает: не потрясения, не голод и холод, не безденежье способны взорвать жизнь к чертовой матери, а легкий взмах бабочки, мышиный хвостик той самой, что «бежала, хвостиком махнула…» Тонкая материя… Чей-то вздох, запах, пролитый чертов кофе – вот они и есть главные подрывники бытия.
Погрузясь в себя, Ольга упустила желтый проблеск глаз Надюши. Крохотные смотрелочки в припухлости век и подглазий. Но даже из болезни они крючком подловили, зацепили и держат ее для рассмотрения.
– Ты раздалась, – говорят глазки через бледную щель рта. – Задница у тебя уже шире стула.
Надюша всегда была прямоговорящая, всю жизнь начальница.
Ольга помнит шестьдесят седьмой и соседа-мальчишку, который за три рубля сочинял телеграмму в стихах от бабушки тетке в связи с ее пятидесятилетием и пятидесятилетием революции. Как бабушка ненавидела советскую власть, вряд ли еще кто ненавидел. Одновременно родная дочь на высоком этаже этой власти была обожаема. Через много лет муж Ольги говорил, что это особый вид то ли русской проституции, то ли глубинного безразличия ко всей материи жизни, то, что сегодня называют «а мне по барабану».
Надюшечка начинала вспахивать карьерную зябь в Москве. Была тоща, некрасива и имела девять квадратов в коммуналке. Чтоб пустить курсанта Ваняточку на ночь, надо было дважды клацнуть и взвизгнуть замками. Хватало, чтоб в прихожей возникали тени. «Надюша, у нас квартира старых большевиков, а не дом свиданий». Квартиру занимали два бывших охранника на пенсии, семья военных, актриса оперетты, пятая комната была у нее, начинающего партийного работника. Хоромы остались от знаменитого оперного певца, бежавшего из России еще во времена оны. И в них была еще… каморка для прислуги, где жил какой-то очень секретный физик. Одиночка, он как-то исхитрялся не пи?сать, не какать по месту жительства, воды тратил по минимуму, а чайник и плитку пользовал электрические.
– В нем был сразу виден враг народа, – говорила впоследствии Надюша. В конце концов, так и оказалось. Сбежал физик за границу.
Ваняточку же сборная гуманистов признала. Еще бы! Курсант стал военным особистом. Он умел выпивать и с вохровцами, и с офицером, щупал ляжки их женам, но только для взаимного удовольствия и никогда для хамства. Не шло дело с физиком. Ваняточка, будучи на взводе, мог постучать в комнатку челяди глубоко заполночь, слышал скрип железной кровати, но пущен не был ни разу. Собственно, с этого времени физик и исчез. И расцвел в джунглях капитализма, как только сумел туда попасть. Гад ползучий.
– А я мог тогда взломать дверь и подушечкой его, подушечкой, – говаривал потом Ваняточка.
– Не мог, – обреза?ла Надюша. – Не такой ты человек, чтоб убить лежачего.
Глаза же Ваняточки туманились от безумного скрещения мыслей. Что же правильней было бы? Подушечкой или все-таки не смочь? Ах, эти остроконечные вопросы! Так и живешь с ними десять, двадцать, а то и тридцать лет. И саднит, саднит в памяти этот скрип кровати под человеком, который не хочет тебе дверь открыть, западло ему это. И ты уходишь, жалко шаркая тапками. А ведь убей он тогда физика, не совершил бы тот предательства родины. Это ведь из грехов наиважнейший. Тут убить – как спасти! Вот так и продолжал жить Ваня, Ваняточка, до полного облысения, не решив для себя главный вопрос жизни. Надо ли было войти со взломом? И подушечкой, подушечкой…
Ольга узнала про эту мысль дядьки много-много позже. Уже после Хрущева, в середине шестидесятых, Надюрка и Ванятка вернулись в город теткиной юности. Именно здесь тетку ждал большой взлет в связи со слиянием партии в единое целое после вражеского разделения ее на сельскую и промышленную. Их возвращение в Р. чуть было не помешало Ольге через годы поступить в МГУ. Тетка кричала, что только таких, как она, там не хватало. Нечего задираться. Что, в Р. нет институтов? Она сама тут училась и была выбрана Москвой. А ты кто такая? Мать смотрела на дочь жалостливо: «Может, и правда, Оля?» Дочь же поступила в МГУ и сделала сразу две глупости: вышла замуж и забеременела. Пришлось снимать каморку. В эту каморку приехала в гости мама. Тут и возникла история у мамы, которая к нашей отношения не имеет никакого, но как приправа, как неожиданный мазок в почти готовой картине, как самое то, без чего нет цельного мира, ее придется рассказать.
Итак, Ольга с ребенком, мужем, с тремя копейками в кармане – глаза бы всех не видели, а тут мама, любимая, хорошая, но так некстати. Деликатная мама старается не быть дома, ходит, смотрит витрины, стесняется случайных зеркал, придумывает, что бы приготовить на обед, чем порадовать замученную дочь. И по дороге покупает двух живых, бьющих хвостами карпов. Матери сорок три года, но ей неловко, что она моментами выглядит моложе Ольги. Горе и стыд какие!
И тут навстречу подворачивается мужчина, теперь бы сказали «мачо», но тогда, в начале восьмидесятых, не было новых чудных слов, которых теперь больше, чем привычных старых. Высокий красивый дядька, завгаражом, с кооперативной квартирой, глядевшей окнами на «Рабочего и колхозницу», бездетный. Жена уже лет десять как ушла к врачу-гинекологу – пошла у них любовь-морковь. Мачо, еще не будучи этим словом, даже плакал, а после как-то утром проснулся, потянулся до хруста косточек – и все. Как и не было тонкой и капризной женщины-жены, за которую когда-то хотелось или умереть, или убить. В общем, на эти два «у» ушло у него лет восемь жизни, а потом с хрустом все и кончилось. И пошло-поехало на хорошей машине – все-таки завгар. Стал он по утрам смотреть на крутые бедра колхозницы за окном, удивляясь глупости этой пары, скрестившей в сущности теперь бесполезные предметы. От отрицания главного символа кино как правды жизни пошел дальше. И как-то, идя пешком, встретил такую всю из себя маленькую, мягонькую женщину с авоськой, в которой бились хвостами два карпа, бились как оглашенные за право жить, хотя, скорее всего, по-рыбьи чуяли, что шансов у них на победу ноль. Почему-то он остро почувствовал муку карпов и рассердился на мягонькую.
– Не жалко? – грубо спросил он ее.
– Жалко, – ответила она так жалобно, что он тут же простил ее. Более того! Как-то живенько представил, как ей хотелось, дамочке, речной рыбки, а тут как раз выдвинули посередь дороги цистерну с плещущей живностью, ну, как пройдешь мимо? И он взял у женщины авоську и легонько стукнул кулаком по головам обреченных рыб, а потом завернул их в «Правду» о целых шести страницах и сложил в толстую полотняную сумку, которую всегда носил при себе – мало ли что встретится по дороге. Яички там, или суповые наборы, или сайра с привесом в виде двух пачек соды и горчицы. На улице попадались иногда удивительные находки. Без сумки выйти – жизни не понимать.