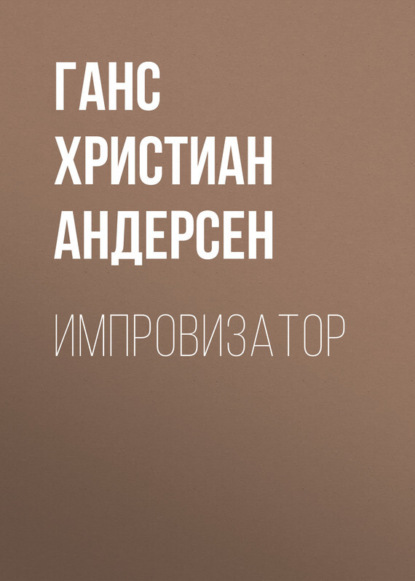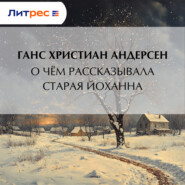По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Импровизатор
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На сегодня празднеству наступил конец. Я поспешил домой, чтобы сбросить свой костюм, и нашел у себя Бернардо.
– Ты здесь? – воскликнул я. – А где же твоя донна? Куда ты девал ее?
– Шш! – прервал он меня, шутливо грозя пальцем. – Пусть между нами не замешивается женщина!.. Но как это тебе взбрело в голову наговорить ей таких вещей?.. Впрочем, мы даруем тебе отпущение! Пойдем сегодня вместе в театр Алиберта; дают оперу «Дидона»; музыка, говорят, божественная, в театре соберутся все первые красавицы Рима, и кроме того, заглавную роль будет петь одна иностранная примадонна, которая недавно свела с ума весь Неаполь. Говорят, у нее такой голос, такой талант, о каких мы и понятия не имеем; к тому же она хороша, дивно хороша собою! Не забудь захватить карандаш: если она хоть наполовину соответствует описаниям, то должна вдохновить тебя, и ты посвятишь ей прелестнейший сонет! Я же сберег от карнавала последний букет фиалок, чтобы поднести ей, если она пленит меня.
Я охотно принял его приглашение; я хотел испить всю чашу карнавальных удовольствий до дна, не упустив ни единой капельки. То был знаменательный вечер для нас обоих: в моем календаре третье февраля отмечено двойной чертой; Бернардо имел основания сделать то же.
Новая певица дебютировала в роли Дидоны на сцене театра Алиберта – первого римского оперного театра. Великолепный потолок, на котором парили музы, занавес, изображавший весь Олимп, и золотые арабески, украшавшие ложи, – все блестело новизной. Театр был полон снизу доверху. Над каждой ложей горели лампочки – вся зала утопала в море света. Бернардо обращал мое внимание на каждую вновь входившую в какую-нибудь ложу красавицу и прохаживался насчет дурнушек.
Началась увертюра – своего рода музыкальное введение к опере. В море бушует буря и гонит Энея к берегам Ливии. Но вот буря утихает, и слышатся звуки благочестивых гимнов, которые постепенно переходят в восторженные ликования; нежные звуки флейт поют о еще незнакомом мне чувстве, о пробуждающейся любви Дидоны. Раздаются звуки охотничьих рогов, буря опять усиливается, и я переношусь вместе с влюбленными в таинственный грот; мелодии дышат любовью, бурной страстью и вдруг разрешаются громким диссонансом. В тот же момент занавес взвился. Эней собирается уехать завоевать для Аскания Гесперийское царство, хочет покинуть Дидону, приютившую его – чужеземца, пожертвовавшую для него своей честью и своим спокойствием. Она еще не знает о его намерении, «но скоро сладкий сон прервется» – говорит Эней. Тут появляется Дидона. Глубокая тишина воцарилась в зале. Всех, как и меня, поразила новая примадонна своей царственной осанкой, соединенной с какой-то нежной воздушной грацией. Нельзя, однако, сказать, чтобы она соответствовала моему представлению о Дидоне. Она была в высшей степени женственна, нежна, прелестна духовной красотой рафаэлевских типов. Черные как смоль волосы облегали прекрасный, высокий лоб, темные глаза были полны выражения. Раздались рукоплескания – ими публика приветствовала пока одну красоту, так как певица не взяла еще ни одной ноты. На лице ее, в то время как она кланялась восхищенной толпе, выступил легкий румянец. Опять настала тишина; все чутко прислушивались к глубоко обдуманной, прекрасной передаче ей речитатива.
– Антонио! – вполголоса воскликнул Бернардо и схватил меня за руку. – Это она!.. Или я с ума сошел, или это она, моя упорхнувшая птичка!.. Да, да, я не могу ошибаться! И голос ее! Я слишком хорошо помню его!
– О ком ты говоришь? Кто она? – спросил я.
– Еврейка из гетто! – ответил он. – И в то же время это просто невозможно! Не может быть, чтобы это была она!..
Он умолк и весь ушел в созерцание дивной красавицы. Она пела о своем счастье, о своей любви. Вся душа ее выливалась в этих звуках; на их крылах возносилось к небу вырывавшееся из ее груди глубокое чистое чувство. Какая-то сладкая грусть охватила меня; эти звуки как будто выманили из глубины моей души какие-то давно похороненные в ней воспоминания, и я готов был воскликнуть вместе с Бернардо: «Это она!» Да, событие, о котором я столько лет и не думал и не вспоминал, вдруг воскресло предо мной с необыкновенной живостью и яркостью: я вспомнил церковное торжество в церкви Арачели, мою рождественскую проповедь и стройную, прелестную девочку с удивительно нежным, чистым голоском, похитившую у меня пальму первенства. Чем больше смотрел я на певицу и слушал ее, тем увереннее твердил себе: «Это она, она!»
А когда затем Эней объявил ей, что уезжает, что они ведь не муж и жена, – как поразительно выразила она в своей арии произошедший в душе ее переворот – отчаянье, боль, бешенство! Звуки вздымались, словно волны морские, бросаемые бурей к облакам. Как высказать, как передать словами мои тогдашние чувства? В этих звуках открылся для меня целый мир, но они как будто исходили не из человеческой груди, и мысль моя искала приурочить их к какому-нибудь подходящему живому образу. Да, так поет лебедь, влагающий в свою песню всю свою жизнь и то рассекающий своими широкими, светлыми крыльями волны эфира, то погружающийся в глубину моря, чтобы затем снова вознестись к небу!
Взрыв рукоплесканий огласил залу; раздались вызовы: «Аннунциата! Аннунциата!» И ей пришлось выходить и кланяться восхищенной толпе без конца.
И все же эта ария уступала дуэту второго действия, когда Дидона умоляет Энея не уезжать так поспешно, не покидать царицу, «оскорбившую ради него ливийское племя и князей африканских, пренебрегшую своею скромностью, своим добрым именем». «Я ведь не посылала кораблей под стены Трои, я не оскорбляла памяти и праха Анхиза!» В голосе ее звучала такая искренность, такое горе, что у меня слезы выступили на глазах; воцарившаяся в зале глубокая тишина показывала, что и другие слушатели были тронуты не меньше моего.
Эней все-таки покидает Дидону, и вот она стоит с минуту бледная, холодная, как мраморное изображение Ниобеи… Затем кровь бросается ей в лицо, – это уже не нежно любящая Дидона, покинутая супруга, это – фурия! Прекрасные черты дышат смертельной ненавистью; Аннунциата сумела придать своему лицу такое выражение, что у всех кровь застыла в жилах; все жили и страдали теперь вместе с нею.
Леонардо да Винчи написал голову Медузы, которая находится в Флорентийской галерее; на нее жутко смотреть и в то же время нельзя оторваться: это Венера Медицейская, созданная из ядовитой пены морской, застывшей в прекрасном, но ужасном, дышащем смертью образе. Такою-то вот явилась теперь пред нами и Аннунциата – Дидона.
Сестра ее Анна воздвигла костер; весь дворец увешан черными венками и гирляндами; на заднем плане взволнованное море, по которому уносится вдаль корабль Энея; Дидона стоит с забытым им кинжалом; глухо звучит ее песнь, затем переходит в громкие стенания, похожие на плач падшего ангела. Костер вспыхивает, сердце разрывается, последний аккорд замирает…
Занавес опустился. Раздался гром рукоплесканий. Красота и чудный голос артистки привели всех в неописуемый восторг. «Аннунциата! Аннунциата!» – раздавалось из партера, изо всех лож. Занавес снова взвился, и перед нами стояла певица, такая скромная и прелестная, с взором, исполненным любви и кротости. К ногам ее посыпался настоящий дождь цветов; дамы махали платками, а мужчины восторженно выкрикивали ее имя. Занавес опять опустили, но энтузиазм публики все рос, и Аннунциате опять пришлось показаться; на этот раз она вышла об руку с певцом, исполнявшим партию Энея. Крики «Аннунциата! Аннунциата!», однако, все не прекращались; тогда она вышла со всей труппой, содействовавшей ее успеху, но ее продолжали вызывать одну. Она вышла, и в кратких, но прочувствованных словах поблагодарила присутствующих за такое щедрое поощрение ее таланта. Я в порыве восторга набросал на клочке бумаги несколько строчек, и бумажка полетела к ее ногам вместе с цветами и венками.
Занавес больше не поднимался, но вызовы все продолжались; публика хотела еще раз увидать певицу, еще раз выразить ей свое восхищение. Аннунциата вышла из-за боковых кулис и прошла вдоль рампы, посылая своим восторженным поклонникам воздушные поцелуи. Глаза ее сияли радостью, все лицо дышало счастьем. Видно было, что она переживала теперь лучшие, счастливейшие минуты своей жизни. Не то же ли было и со мной? Я ведь разделял и ее радость, и восторг зрителей; взор мой, вся душа моя упивалась ее красотой; я не видел ничего, не думал ни о чем, кроме Аннунциаты!
Толпа повалила из театра; меня увлек общий поток, стремившийся к углу театра, где стояла карета певицы; там меня притиснули к стене; всем хотелось еще разок взглянуть на Аннунциату; все стояли с непокрытыми головами и восторженно провозглашали: «Аннунциата!» Я кричал то же, и сердце мое при этом как будто вырастало в груди. Бернардо протискался к самым дверцам кареты и открыл их для Аннунциаты. Восторженная молодежь решила сама везти карету с певицей и моментально отпрягла лошадей. Аннунциата благодарила своих поклонников и взволнованным голосом просила их отказаться от этого намерения; ответом были те же восторженные крики. Бернардо вскочил на подножку кареты и принялся успокаивать Аннунциату; я же, вместе с другими, повез карету и был счастлив, как и все. К сожалению, счастью этому слишком скоро наступил конец; эти несколько минут промчались, как чудный сон.
Как же я был рад, когда опять столкнулся с Бернардо! Он ведь говорил с нею, стоял около нее так близко!
– Ну, что скажешь, Антонио? Неужели твое сердце еще не затронуто? Если ты еще не горишь любовью, то недостоин называться мужчиной! Понимаешь ты теперь, как ты проиграл, отказавшись тогда познакомиться с нею, понимаешь, что из-за такого создания стоило бы начать учиться по-еврейски! Да, Антонио, я не сомневаюсь – как все это ни загадочно, – что она-то и есть моя исчезнувшая еврейка! Это ее я видел у старика Ганноха, это она угощала меня вином! Теперь я опять нашел ее! Она, словно Феникс, возродилась из пепла – из этого отвратительного гетто!
– Это немыслимо, Бернардо! – ответил я. – Она и во мне пробудила воспоминания, но они говорят как раз противное: она не может быть еврейкой. Нет, наверное, она принадлежит к единой истинной церкви! И если бы ты вгляделся в нее пристальнее, ты бы убедился, что у нее совсем не еврейский тип; на ее лице нет печати отвержения, отмечающей это несчастное, изгнанное племя. Самый язык ее, эти звуки!.. Нет, они не могли вылетать из еврейских уст! О, Бернардо! Я так счастлив, так упоен этими звуками! Но что она говорила? Ты ведь разговаривал с нею! Стоял рядом! Что, она была так же счастлива, как и мы все?
– Да ты и впрямь вне себя от восторга, Антонио! – прервал меня Бернардо. – Наконец-то лед Иезуитской коллегии растаял!.. Что она говорила? Да она и была испугана, и гордилась тем, что вы, сумасброды, повезли ее по улицам. Она спустила на лицо свою густую вуаль и прижалась в уголок кареты; я стал успокаивать ее и высказал ей все, что подсказало мне мое сердце и что следовало высказать царице красоты и невинности, но она даже не приняла моей руки, когда я хотел помочь ей выйти из кареты.
– Да как же ты осмелился? Она ведь не знает тебя! Я бы никогда не решился на это!
– Ах, ты не знаешь ни света, ни женщин! Теперь она обратила на меня внимание, и это уже кое-что значит.
Затем мне пришлось прочесть ему мой экспромт, и он нашел его божественным, достойным появиться в печати! Мы зашли в кафе и выпили за здоровье Аннунциаты; да и все, бывшие там, говорили только о ней; все, как и мы, продолжали восхвалять ее. Было уже поздно, когда я простился с Бернардо. Я вернулся домой, но нечего было и думать заснуть! Мне доставляло такое наслаждение вспоминать всю оперу: и первый выход Аннунциаты, и ее арию, и дуэт, и, наконец, за душу хватающий финал. В пылу восторга я даже несколько раз принимался аплодировать и громко вызывать Аннунциату! Затем мне вспомнилось и мое маленькое стихотворение; я написал его на бумажке, прочел и нашел очень красивым, перечел еще раз, и – если уж быть откровенным – любовь моя к Аннунциате как будто перешла в восхищение своим собственным стихотворением! Теперь, спустя столько лет, я смотрю на все это иными глазами, тогда же я находил свои стишки маленьким шедевром. «Она, наверное, подняла их, – думал я, – и теперь сидит, полураздетая, на мягкой шелковой софе, облокотившись прекрасной ручкой на подушку, и читает:
Душа стремилась, замирая, Вслед за тобою улететь, Минуя ад, к чертогам рая, Но то лишь Данте мог посметь! Он описал красу Эдема, Могуч его блестящий стих, Но ярче, жизненней поэма Лилась сейчас из уст твоих!»
До сих пор я не знал мира богаче, прекраснее мира поэзии, открытого мне творением Данте, но теперь он стал для меня как-то еще жизненнее, яснее, чем прежде: чарующее пение Аннунциаты, ее взгляды, страдание и отчаяние, которые она сумела так художественно выразить, как будто впервые открыли мне всю гармонию дантовского стиха. Наверное, ей понравились мои стихи! Я представлял себе, что она думает, читая их, как желает познакомиться с автором, и, право, засыпая, я хоть и воображал, что занят одною Аннунциатой, на самом-то деле больше был занят самим собою и своим ничтожным стихотворением!
Глава XI
Бернардо является, как deus ex machina. «La pruova d'un opera seria». Моя первая импровизация. Последний день карнавала
На другой день я все утро напрасно искал случая увидеться с Бернардо; много раз проходил я и по площади Колонна, не для того чтобы любоваться на колонну Антония, но чтобы увидеть хоть край платья Аннунциаты: она ведь жила на этой площади! Бродил я, конечно, все возле ее дома. У нее были гости; счастливцы! До меня доносились звуки фортепиано и пение; я прислушался, но это пела не она. Низкий бас пропел несколько гамм; вероятно, это был капельмейстер или один из певцов ее труппы. Какой завидный жребий! Вот бы быть на месте того, кто пел Энея! Видеть ее так близко, лицом к лицу, упиваться ее ласковыми взглядами, переезжать с нею из города в город, пожиная лавры!.. Я совсем ушел в эти мечты, а вокруг меня плясали увешанные бубенчиками арлекины, пульчинели и чародеи. Я совсем и забыл, что сегодня опять карнавал, что веселье уже началось, и вся эта пестрая толпа, весь этот шум и гам производили на меня самое неприятное впечатление. Мимо катились экипажи; почти все кучера были переодеты дамами, но эти черные усы и бороды, видневшиеся из-под дамских капюшонов, эти резкие угловатые движения просто резали мне глаза! Я не был, как вчера, расположен веселиться и, бросив последний взгляд на дом, где жила Аннунциата, хотел уже уйти домой, как вдруг из ворот выскочил Бернардо и бросился прямо ко мне, весело крича: «Иди же сюда! Не стой там! Я представлю тебя Аннунциате! Она уже ждет тебя! Видишь, какой я хороший друг!»
– Она! – пробормотал я, и кровь бросилась мне в лицо. – Не шути со мною! Куда ты ведешь меня?
– К ней, к той, которую ты воспел! – ответил он. – К ней, к волшебнице, вскружившей всем нам головы, к божественной Аннунциате! – И он повлек меня за собою.
– Но объясни же мне, как ты сам попал туда? Как ты можешь вводить к ней меня?
– После, после все узнаешь! – ответил он. – Смотри же теперь повеселее!
– Но костюм мой!.. – пробормотал я, торопливо охорашиваясь.
– О, ты бесподобен, друг мой, лучше и быть нельзя! Ну, вот мы и у дверей!
Двери отворились, и я очутился перед Аннунциатой. Она была в черном шелковом платье; на плечи был накинут газовый, голубой с красным, шарф, черные волосы зачесаны назад и оставляли открытым высокий благородный лоб, на который спускалось какое-то черное украшение, кажется камея. Поодаль от нее, возле окна, сидела старушка в темном простеньком платье; глаза и весь облик ее обнаруживали еврейку. Я вспомнил утверждение Бернардо, будто Аннунциата и красавица еврейка из гетто одно и то же лицо; но нет, сердце мое протестовало против этого! В комнате находился еще один, незнакомый мне господин. При нашем входе он встал; сама Аннунциата с улыбкой направилась нам навстречу, и Бернардо шутливо представил меня ей:
– Милостивая синьора, имею честь представить вам поэта, моего друга, аббата Антонио, любимца семейства Боргезе!
– Синьор извинит, – начала она, – но, право, это не моя вина! Я не желала напрашиваться на ваше знакомство, как оно ни лестно для меня!.. Вы почтили меня стихотворением, – тут она покраснела. – Ваш друг назвал мне автора и обещал представить его мне… Но вдруг увидел вас в окно, крикнул: «Сейчас вы увидите его!» и устремился за вами, прежде чем я успела остановить его, предупредить… Ведь таким образом… Но вы лучше меня знаете своего друга!
Бернардо принялся смеяться, а я пробормотал что-то похожее на извинение и выразил, как умел, свое счастье и радость.
Щеки мои горели; она протянула мне руку, и я, в порыве восторга, прижал ее к губам. Она познакомила меня с упомянутым выше господином, капельмейстером их труппы, старушку же назвала своей воспитательницей. Последняя окинула нас с Бернардо серьезным, почти строгим взглядом, но я скоро забыл об этом под впечатлением остроумия и дружески-ласкового обращения Аннунциаты.
Капельмейстер сказал мне несколько обязательных комплиментов насчет моего стихотворения, протянул мне руку и посоветовал мне взяться за составление оперных либретто. Для начала я мог бы написать одно для него.
– Не слушайте его! – прервала Аннунциата. – Вы не знаете, в какие бедствия он хочет ввергнуть вас! Композиторы и не думают о жертвах, какие приходится приносить автору либретто, а публика и того меньше. Сегодня вечером вы увидите в театре «La pruova d'un opera seria» – правдивую картину мучений бедного автора, и все же они обрисованы там еще недостаточно ярко.
Композитор хотел было возразить, но Аннунциата подошла ко мне поближе и, смеясь, продолжала:
– Вы создаете вещь, вкладываете в прекраснейшие стихи всю вашу душу; идея, характеры – все у вас строго обдумано, но вот является композитор. У него своя идея, и ее надо провести, а вашу побоку. Он желает ввести барабаны и дудки, и вы должны плясать под них. Примадонна говорит, что не станет петь, если у нее не будет блестящей выходной арии; ей нужна ария в темпе furioso maestoso, а кстати это или не кстати, это уж не ее дело. Первый тенор предъявляет такие же требования. Вы должны метаться от примы к терциа-донне, от басов к тенорам, кланяться, улыбаться, переносить все наши капризы, а их немало!
Капельмейстер хотел что-то возразить, но Аннунциата не дала ему сказать ни слова и продолжала:
– Затем является сам директор, взвешивает, соображает и бракует. Вы же должны разыгрывать роль его покорнейшего слуги во всем, даже в глупостях и нелепостях. Заведующий монтировочной частью уверяет, что средства театра не позволяют такой-то обстановки, таких-то декораций, и вот вы должны изменить в вашей пьесе то и то-то, или, как говорят на театральном языке, «прилаживаться к обстоятельствам». Декоратор со своей стороны не позволяет приладить к его новой декорации такого-то аксессуара, и вы должны выкинуть все реплики, в которых упоминается этот аксессуар. Затем оказывается, что синьора не может брать трель на том слоге, которым кончается какой-нибудь стих; ей нужен слог на а, откуда же вы возьмете его – ей нет никакого дела. Вы должны прилаживаться, прилаживаться, и, когда, наконец, ваше либретто, в неузнаваемом для вас самих виде, появится на сцене, вам предстоит удовольствие присутствовать при провале оперы и услышать вопль композитора: «Все погубило невозможное либретто! Даже мои мелодии не могли окрылить такого истукана; он и провалился!»
В окна к нам врывались звуки веселой музыки; ряженые шумели на площади и на улицах. Громкие крики восторга и аплодисменты привлекли нас всех к открытому окну. Теперь, стоя рядом с Аннунциатой, достигнув исполнения моего заветного желания, я опять был счастлив, карнавал опять веселил меня, как вчера, когда я сам принимал в нем участие.
Под окном собралось больше полсотни пульчинелей. Они выбрали себе короля и усадили его в маленькую тележку, разукрашенную пестрыми флагами и гирляндами из лавровых ветвей и лимонных корок, развевавшихся словно ленты и шнурки. На голову королю надели корону из вызолоченных и раскрашенных яиц, в руку дали скипетр – огромную погремушку, обвитую макаронами, затем все принялись плясать вокруг него, а он милостиво раскланивался на все стороны. Наконец пульчинели впряглись в тележку, чтобы везти его по улицам; тут он случайно увидел Аннунциату, узнал ее, дружески кивнул ей и крикнул: «Вчера ехала ты, а сегодня еду я на тех же кровных римлянах!» Я видел, как Аннунциата вся вспыхнула и отшатнулась, но вдруг, овладев собой, мгновенно бросилась вперед, перегнулась через перила балкончика и крикнула ему: «Да, но ни ты, ни я недостойны этого счастья!»
– Ты здесь? – воскликнул я. – А где же твоя донна? Куда ты девал ее?
– Шш! – прервал он меня, шутливо грозя пальцем. – Пусть между нами не замешивается женщина!.. Но как это тебе взбрело в голову наговорить ей таких вещей?.. Впрочем, мы даруем тебе отпущение! Пойдем сегодня вместе в театр Алиберта; дают оперу «Дидона»; музыка, говорят, божественная, в театре соберутся все первые красавицы Рима, и кроме того, заглавную роль будет петь одна иностранная примадонна, которая недавно свела с ума весь Неаполь. Говорят, у нее такой голос, такой талант, о каких мы и понятия не имеем; к тому же она хороша, дивно хороша собою! Не забудь захватить карандаш: если она хоть наполовину соответствует описаниям, то должна вдохновить тебя, и ты посвятишь ей прелестнейший сонет! Я же сберег от карнавала последний букет фиалок, чтобы поднести ей, если она пленит меня.
Я охотно принял его приглашение; я хотел испить всю чашу карнавальных удовольствий до дна, не упустив ни единой капельки. То был знаменательный вечер для нас обоих: в моем календаре третье февраля отмечено двойной чертой; Бернардо имел основания сделать то же.
Новая певица дебютировала в роли Дидоны на сцене театра Алиберта – первого римского оперного театра. Великолепный потолок, на котором парили музы, занавес, изображавший весь Олимп, и золотые арабески, украшавшие ложи, – все блестело новизной. Театр был полон снизу доверху. Над каждой ложей горели лампочки – вся зала утопала в море света. Бернардо обращал мое внимание на каждую вновь входившую в какую-нибудь ложу красавицу и прохаживался насчет дурнушек.
Началась увертюра – своего рода музыкальное введение к опере. В море бушует буря и гонит Энея к берегам Ливии. Но вот буря утихает, и слышатся звуки благочестивых гимнов, которые постепенно переходят в восторженные ликования; нежные звуки флейт поют о еще незнакомом мне чувстве, о пробуждающейся любви Дидоны. Раздаются звуки охотничьих рогов, буря опять усиливается, и я переношусь вместе с влюбленными в таинственный грот; мелодии дышат любовью, бурной страстью и вдруг разрешаются громким диссонансом. В тот же момент занавес взвился. Эней собирается уехать завоевать для Аскания Гесперийское царство, хочет покинуть Дидону, приютившую его – чужеземца, пожертвовавшую для него своей честью и своим спокойствием. Она еще не знает о его намерении, «но скоро сладкий сон прервется» – говорит Эней. Тут появляется Дидона. Глубокая тишина воцарилась в зале. Всех, как и меня, поразила новая примадонна своей царственной осанкой, соединенной с какой-то нежной воздушной грацией. Нельзя, однако, сказать, чтобы она соответствовала моему представлению о Дидоне. Она была в высшей степени женственна, нежна, прелестна духовной красотой рафаэлевских типов. Черные как смоль волосы облегали прекрасный, высокий лоб, темные глаза были полны выражения. Раздались рукоплескания – ими публика приветствовала пока одну красоту, так как певица не взяла еще ни одной ноты. На лице ее, в то время как она кланялась восхищенной толпе, выступил легкий румянец. Опять настала тишина; все чутко прислушивались к глубоко обдуманной, прекрасной передаче ей речитатива.
– Антонио! – вполголоса воскликнул Бернардо и схватил меня за руку. – Это она!.. Или я с ума сошел, или это она, моя упорхнувшая птичка!.. Да, да, я не могу ошибаться! И голос ее! Я слишком хорошо помню его!
– О ком ты говоришь? Кто она? – спросил я.
– Еврейка из гетто! – ответил он. – И в то же время это просто невозможно! Не может быть, чтобы это была она!..
Он умолк и весь ушел в созерцание дивной красавицы. Она пела о своем счастье, о своей любви. Вся душа ее выливалась в этих звуках; на их крылах возносилось к небу вырывавшееся из ее груди глубокое чистое чувство. Какая-то сладкая грусть охватила меня; эти звуки как будто выманили из глубины моей души какие-то давно похороненные в ней воспоминания, и я готов был воскликнуть вместе с Бернардо: «Это она!» Да, событие, о котором я столько лет и не думал и не вспоминал, вдруг воскресло предо мной с необыкновенной живостью и яркостью: я вспомнил церковное торжество в церкви Арачели, мою рождественскую проповедь и стройную, прелестную девочку с удивительно нежным, чистым голоском, похитившую у меня пальму первенства. Чем больше смотрел я на певицу и слушал ее, тем увереннее твердил себе: «Это она, она!»
А когда затем Эней объявил ей, что уезжает, что они ведь не муж и жена, – как поразительно выразила она в своей арии произошедший в душе ее переворот – отчаянье, боль, бешенство! Звуки вздымались, словно волны морские, бросаемые бурей к облакам. Как высказать, как передать словами мои тогдашние чувства? В этих звуках открылся для меня целый мир, но они как будто исходили не из человеческой груди, и мысль моя искала приурочить их к какому-нибудь подходящему живому образу. Да, так поет лебедь, влагающий в свою песню всю свою жизнь и то рассекающий своими широкими, светлыми крыльями волны эфира, то погружающийся в глубину моря, чтобы затем снова вознестись к небу!
Взрыв рукоплесканий огласил залу; раздались вызовы: «Аннунциата! Аннунциата!» И ей пришлось выходить и кланяться восхищенной толпе без конца.
И все же эта ария уступала дуэту второго действия, когда Дидона умоляет Энея не уезжать так поспешно, не покидать царицу, «оскорбившую ради него ливийское племя и князей африканских, пренебрегшую своею скромностью, своим добрым именем». «Я ведь не посылала кораблей под стены Трои, я не оскорбляла памяти и праха Анхиза!» В голосе ее звучала такая искренность, такое горе, что у меня слезы выступили на глазах; воцарившаяся в зале глубокая тишина показывала, что и другие слушатели были тронуты не меньше моего.
Эней все-таки покидает Дидону, и вот она стоит с минуту бледная, холодная, как мраморное изображение Ниобеи… Затем кровь бросается ей в лицо, – это уже не нежно любящая Дидона, покинутая супруга, это – фурия! Прекрасные черты дышат смертельной ненавистью; Аннунциата сумела придать своему лицу такое выражение, что у всех кровь застыла в жилах; все жили и страдали теперь вместе с нею.
Леонардо да Винчи написал голову Медузы, которая находится в Флорентийской галерее; на нее жутко смотреть и в то же время нельзя оторваться: это Венера Медицейская, созданная из ядовитой пены морской, застывшей в прекрасном, но ужасном, дышащем смертью образе. Такою-то вот явилась теперь пред нами и Аннунциата – Дидона.
Сестра ее Анна воздвигла костер; весь дворец увешан черными венками и гирляндами; на заднем плане взволнованное море, по которому уносится вдаль корабль Энея; Дидона стоит с забытым им кинжалом; глухо звучит ее песнь, затем переходит в громкие стенания, похожие на плач падшего ангела. Костер вспыхивает, сердце разрывается, последний аккорд замирает…
Занавес опустился. Раздался гром рукоплесканий. Красота и чудный голос артистки привели всех в неописуемый восторг. «Аннунциата! Аннунциата!» – раздавалось из партера, изо всех лож. Занавес снова взвился, и перед нами стояла певица, такая скромная и прелестная, с взором, исполненным любви и кротости. К ногам ее посыпался настоящий дождь цветов; дамы махали платками, а мужчины восторженно выкрикивали ее имя. Занавес опять опустили, но энтузиазм публики все рос, и Аннунциате опять пришлось показаться; на этот раз она вышла об руку с певцом, исполнявшим партию Энея. Крики «Аннунциата! Аннунциата!», однако, все не прекращались; тогда она вышла со всей труппой, содействовавшей ее успеху, но ее продолжали вызывать одну. Она вышла, и в кратких, но прочувствованных словах поблагодарила присутствующих за такое щедрое поощрение ее таланта. Я в порыве восторга набросал на клочке бумаги несколько строчек, и бумажка полетела к ее ногам вместе с цветами и венками.
Занавес больше не поднимался, но вызовы все продолжались; публика хотела еще раз увидать певицу, еще раз выразить ей свое восхищение. Аннунциата вышла из-за боковых кулис и прошла вдоль рампы, посылая своим восторженным поклонникам воздушные поцелуи. Глаза ее сияли радостью, все лицо дышало счастьем. Видно было, что она переживала теперь лучшие, счастливейшие минуты своей жизни. Не то же ли было и со мной? Я ведь разделял и ее радость, и восторг зрителей; взор мой, вся душа моя упивалась ее красотой; я не видел ничего, не думал ни о чем, кроме Аннунциаты!
Толпа повалила из театра; меня увлек общий поток, стремившийся к углу театра, где стояла карета певицы; там меня притиснули к стене; всем хотелось еще разок взглянуть на Аннунциату; все стояли с непокрытыми головами и восторженно провозглашали: «Аннунциата!» Я кричал то же, и сердце мое при этом как будто вырастало в груди. Бернардо протискался к самым дверцам кареты и открыл их для Аннунциаты. Восторженная молодежь решила сама везти карету с певицей и моментально отпрягла лошадей. Аннунциата благодарила своих поклонников и взволнованным голосом просила их отказаться от этого намерения; ответом были те же восторженные крики. Бернардо вскочил на подножку кареты и принялся успокаивать Аннунциату; я же, вместе с другими, повез карету и был счастлив, как и все. К сожалению, счастью этому слишком скоро наступил конец; эти несколько минут промчались, как чудный сон.
Как же я был рад, когда опять столкнулся с Бернардо! Он ведь говорил с нею, стоял около нее так близко!
– Ну, что скажешь, Антонио? Неужели твое сердце еще не затронуто? Если ты еще не горишь любовью, то недостоин называться мужчиной! Понимаешь ты теперь, как ты проиграл, отказавшись тогда познакомиться с нею, понимаешь, что из-за такого создания стоило бы начать учиться по-еврейски! Да, Антонио, я не сомневаюсь – как все это ни загадочно, – что она-то и есть моя исчезнувшая еврейка! Это ее я видел у старика Ганноха, это она угощала меня вином! Теперь я опять нашел ее! Она, словно Феникс, возродилась из пепла – из этого отвратительного гетто!
– Это немыслимо, Бернардо! – ответил я. – Она и во мне пробудила воспоминания, но они говорят как раз противное: она не может быть еврейкой. Нет, наверное, она принадлежит к единой истинной церкви! И если бы ты вгляделся в нее пристальнее, ты бы убедился, что у нее совсем не еврейский тип; на ее лице нет печати отвержения, отмечающей это несчастное, изгнанное племя. Самый язык ее, эти звуки!.. Нет, они не могли вылетать из еврейских уст! О, Бернардо! Я так счастлив, так упоен этими звуками! Но что она говорила? Ты ведь разговаривал с нею! Стоял рядом! Что, она была так же счастлива, как и мы все?
– Да ты и впрямь вне себя от восторга, Антонио! – прервал меня Бернардо. – Наконец-то лед Иезуитской коллегии растаял!.. Что она говорила? Да она и была испугана, и гордилась тем, что вы, сумасброды, повезли ее по улицам. Она спустила на лицо свою густую вуаль и прижалась в уголок кареты; я стал успокаивать ее и высказал ей все, что подсказало мне мое сердце и что следовало высказать царице красоты и невинности, но она даже не приняла моей руки, когда я хотел помочь ей выйти из кареты.
– Да как же ты осмелился? Она ведь не знает тебя! Я бы никогда не решился на это!
– Ах, ты не знаешь ни света, ни женщин! Теперь она обратила на меня внимание, и это уже кое-что значит.
Затем мне пришлось прочесть ему мой экспромт, и он нашел его божественным, достойным появиться в печати! Мы зашли в кафе и выпили за здоровье Аннунциаты; да и все, бывшие там, говорили только о ней; все, как и мы, продолжали восхвалять ее. Было уже поздно, когда я простился с Бернардо. Я вернулся домой, но нечего было и думать заснуть! Мне доставляло такое наслаждение вспоминать всю оперу: и первый выход Аннунциаты, и ее арию, и дуэт, и, наконец, за душу хватающий финал. В пылу восторга я даже несколько раз принимался аплодировать и громко вызывать Аннунциату! Затем мне вспомнилось и мое маленькое стихотворение; я написал его на бумажке, прочел и нашел очень красивым, перечел еще раз, и – если уж быть откровенным – любовь моя к Аннунциате как будто перешла в восхищение своим собственным стихотворением! Теперь, спустя столько лет, я смотрю на все это иными глазами, тогда же я находил свои стишки маленьким шедевром. «Она, наверное, подняла их, – думал я, – и теперь сидит, полураздетая, на мягкой шелковой софе, облокотившись прекрасной ручкой на подушку, и читает:
Душа стремилась, замирая, Вслед за тобою улететь, Минуя ад, к чертогам рая, Но то лишь Данте мог посметь! Он описал красу Эдема, Могуч его блестящий стих, Но ярче, жизненней поэма Лилась сейчас из уст твоих!»
До сих пор я не знал мира богаче, прекраснее мира поэзии, открытого мне творением Данте, но теперь он стал для меня как-то еще жизненнее, яснее, чем прежде: чарующее пение Аннунциаты, ее взгляды, страдание и отчаяние, которые она сумела так художественно выразить, как будто впервые открыли мне всю гармонию дантовского стиха. Наверное, ей понравились мои стихи! Я представлял себе, что она думает, читая их, как желает познакомиться с автором, и, право, засыпая, я хоть и воображал, что занят одною Аннунциатой, на самом-то деле больше был занят самим собою и своим ничтожным стихотворением!
Глава XI
Бернардо является, как deus ex machina. «La pruova d'un opera seria». Моя первая импровизация. Последний день карнавала
На другой день я все утро напрасно искал случая увидеться с Бернардо; много раз проходил я и по площади Колонна, не для того чтобы любоваться на колонну Антония, но чтобы увидеть хоть край платья Аннунциаты: она ведь жила на этой площади! Бродил я, конечно, все возле ее дома. У нее были гости; счастливцы! До меня доносились звуки фортепиано и пение; я прислушался, но это пела не она. Низкий бас пропел несколько гамм; вероятно, это был капельмейстер или один из певцов ее труппы. Какой завидный жребий! Вот бы быть на месте того, кто пел Энея! Видеть ее так близко, лицом к лицу, упиваться ее ласковыми взглядами, переезжать с нею из города в город, пожиная лавры!.. Я совсем ушел в эти мечты, а вокруг меня плясали увешанные бубенчиками арлекины, пульчинели и чародеи. Я совсем и забыл, что сегодня опять карнавал, что веселье уже началось, и вся эта пестрая толпа, весь этот шум и гам производили на меня самое неприятное впечатление. Мимо катились экипажи; почти все кучера были переодеты дамами, но эти черные усы и бороды, видневшиеся из-под дамских капюшонов, эти резкие угловатые движения просто резали мне глаза! Я не был, как вчера, расположен веселиться и, бросив последний взгляд на дом, где жила Аннунциата, хотел уже уйти домой, как вдруг из ворот выскочил Бернардо и бросился прямо ко мне, весело крича: «Иди же сюда! Не стой там! Я представлю тебя Аннунциате! Она уже ждет тебя! Видишь, какой я хороший друг!»
– Она! – пробормотал я, и кровь бросилась мне в лицо. – Не шути со мною! Куда ты ведешь меня?
– К ней, к той, которую ты воспел! – ответил он. – К ней, к волшебнице, вскружившей всем нам головы, к божественной Аннунциате! – И он повлек меня за собою.
– Но объясни же мне, как ты сам попал туда? Как ты можешь вводить к ней меня?
– После, после все узнаешь! – ответил он. – Смотри же теперь повеселее!
– Но костюм мой!.. – пробормотал я, торопливо охорашиваясь.
– О, ты бесподобен, друг мой, лучше и быть нельзя! Ну, вот мы и у дверей!
Двери отворились, и я очутился перед Аннунциатой. Она была в черном шелковом платье; на плечи был накинут газовый, голубой с красным, шарф, черные волосы зачесаны назад и оставляли открытым высокий благородный лоб, на который спускалось какое-то черное украшение, кажется камея. Поодаль от нее, возле окна, сидела старушка в темном простеньком платье; глаза и весь облик ее обнаруживали еврейку. Я вспомнил утверждение Бернардо, будто Аннунциата и красавица еврейка из гетто одно и то же лицо; но нет, сердце мое протестовало против этого! В комнате находился еще один, незнакомый мне господин. При нашем входе он встал; сама Аннунциата с улыбкой направилась нам навстречу, и Бернардо шутливо представил меня ей:
– Милостивая синьора, имею честь представить вам поэта, моего друга, аббата Антонио, любимца семейства Боргезе!
– Синьор извинит, – начала она, – но, право, это не моя вина! Я не желала напрашиваться на ваше знакомство, как оно ни лестно для меня!.. Вы почтили меня стихотворением, – тут она покраснела. – Ваш друг назвал мне автора и обещал представить его мне… Но вдруг увидел вас в окно, крикнул: «Сейчас вы увидите его!» и устремился за вами, прежде чем я успела остановить его, предупредить… Ведь таким образом… Но вы лучше меня знаете своего друга!
Бернардо принялся смеяться, а я пробормотал что-то похожее на извинение и выразил, как умел, свое счастье и радость.
Щеки мои горели; она протянула мне руку, и я, в порыве восторга, прижал ее к губам. Она познакомила меня с упомянутым выше господином, капельмейстером их труппы, старушку же назвала своей воспитательницей. Последняя окинула нас с Бернардо серьезным, почти строгим взглядом, но я скоро забыл об этом под впечатлением остроумия и дружески-ласкового обращения Аннунциаты.
Капельмейстер сказал мне несколько обязательных комплиментов насчет моего стихотворения, протянул мне руку и посоветовал мне взяться за составление оперных либретто. Для начала я мог бы написать одно для него.
– Не слушайте его! – прервала Аннунциата. – Вы не знаете, в какие бедствия он хочет ввергнуть вас! Композиторы и не думают о жертвах, какие приходится приносить автору либретто, а публика и того меньше. Сегодня вечером вы увидите в театре «La pruova d'un opera seria» – правдивую картину мучений бедного автора, и все же они обрисованы там еще недостаточно ярко.
Композитор хотел было возразить, но Аннунциата подошла ко мне поближе и, смеясь, продолжала:
– Вы создаете вещь, вкладываете в прекраснейшие стихи всю вашу душу; идея, характеры – все у вас строго обдумано, но вот является композитор. У него своя идея, и ее надо провести, а вашу побоку. Он желает ввести барабаны и дудки, и вы должны плясать под них. Примадонна говорит, что не станет петь, если у нее не будет блестящей выходной арии; ей нужна ария в темпе furioso maestoso, а кстати это или не кстати, это уж не ее дело. Первый тенор предъявляет такие же требования. Вы должны метаться от примы к терциа-донне, от басов к тенорам, кланяться, улыбаться, переносить все наши капризы, а их немало!
Капельмейстер хотел что-то возразить, но Аннунциата не дала ему сказать ни слова и продолжала:
– Затем является сам директор, взвешивает, соображает и бракует. Вы же должны разыгрывать роль его покорнейшего слуги во всем, даже в глупостях и нелепостях. Заведующий монтировочной частью уверяет, что средства театра не позволяют такой-то обстановки, таких-то декораций, и вот вы должны изменить в вашей пьесе то и то-то, или, как говорят на театральном языке, «прилаживаться к обстоятельствам». Декоратор со своей стороны не позволяет приладить к его новой декорации такого-то аксессуара, и вы должны выкинуть все реплики, в которых упоминается этот аксессуар. Затем оказывается, что синьора не может брать трель на том слоге, которым кончается какой-нибудь стих; ей нужен слог на а, откуда же вы возьмете его – ей нет никакого дела. Вы должны прилаживаться, прилаживаться, и, когда, наконец, ваше либретто, в неузнаваемом для вас самих виде, появится на сцене, вам предстоит удовольствие присутствовать при провале оперы и услышать вопль композитора: «Все погубило невозможное либретто! Даже мои мелодии не могли окрылить такого истукана; он и провалился!»
В окна к нам врывались звуки веселой музыки; ряженые шумели на площади и на улицах. Громкие крики восторга и аплодисменты привлекли нас всех к открытому окну. Теперь, стоя рядом с Аннунциатой, достигнув исполнения моего заветного желания, я опять был счастлив, карнавал опять веселил меня, как вчера, когда я сам принимал в нем участие.
Под окном собралось больше полсотни пульчинелей. Они выбрали себе короля и усадили его в маленькую тележку, разукрашенную пестрыми флагами и гирляндами из лавровых ветвей и лимонных корок, развевавшихся словно ленты и шнурки. На голову королю надели корону из вызолоченных и раскрашенных яиц, в руку дали скипетр – огромную погремушку, обвитую макаронами, затем все принялись плясать вокруг него, а он милостиво раскланивался на все стороны. Наконец пульчинели впряглись в тележку, чтобы везти его по улицам; тут он случайно увидел Аннунциату, узнал ее, дружески кивнул ей и крикнул: «Вчера ехала ты, а сегодня еду я на тех же кровных римлянах!» Я видел, как Аннунциата вся вспыхнула и отшатнулась, но вдруг, овладев собой, мгновенно бросилась вперед, перегнулась через перила балкончика и крикнула ему: «Да, но ни ты, ни я недостойны этого счастья!»