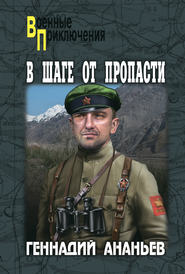По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зов чести
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оставив в своем распоряжении небольшой резерв, разослал Богусловский всех остальных на посты, а сам, решив проверку постов провести через полчаса, подошел, поборов неловкость от того, что его могут осудить нижние чины, поближе к картине, чтобы сполна оценить, сколь велик талант художника, так умело создавшего образ богини любви, образ женщины. Художник будто врасплох застал Венеру, словно подсмотрел тот миг, когда она еще расслаблена сном и оттого такая домашняя, умиротворенная, но в этой умиротворенности чувствуется уверенность в себе, понимание того, что все в жизни подчинено ей, она властна не только над всеми людьми, но и над всеми богами.
К Богусловскому подошел и встал рядом Муклин. Ухмыльнулся, покачав головой, и изрек с явным упреком:
– Стыда совсем нету. Нагишом вся. Страм один.
– Богиня Венера, – ответил Богусловский. – Ее оружие – любовь, но не меч. Однако власть ее над людьми не менее сильна, чем власть меча. Даже много сильней…
– Ты брось, Михаил Семеонович, эти штучки. Штык! Только штык, который взял в мозолистые руки трудовой класс, будет повелевать миром. Дрожать от страха будут вот эти голые крали. Снопы вязать да за коровой ходить – нагишом не находишься. Вмиг сарафан натянет.
– Вы считаете… – Богусловский не хотел называть Муклина по имени, а официальное обращение не подходило к такому вот разговору, – вы считаете, что крестьянка не способна любить искренне и пылко?
– Налюбишь, если в одной избе – семеро по лавкам да еще телок с ягнятами! – сердито отрубил Муклин. – В хоромах барских, думаю, смогла бы похлеще вот этой. – Муклин вновь усмехнулся: – Да если еще вдоволь на эту кралю нагляделась бы. Или вон на того, – Муклин кивнул на античную статую, – голого бугая…
– Возможно. Вполне возможно, – покорно согласился Богусловский.
Знал он крестьянскую жизнь, крестьянскую психологию книжно и потому не считал вправе спорить с Муклиным, который частенько с гордостью заявлял, особенно если была нужда оправдать очередную грубость или безалаберность, что родился на гумне, пеленали его на овине, а рос вместе с телком. Да Муклин и не примет, как считал Богусловский, возражений, взорвется и начнет наседать упрямо, волей-неволей отступишься. А время вовсе не подходящее для выяснения точек зрения на проблемы любви. Что станет с ними через час, через день, через месяц? Кто может ответить сегодня на этот вопрос? У революции свои законы, она меняет не только эпохи, не только судьбы целых наций, но и судьбы отдельных людей, она губит отживший строй ценой гибели многих и многих. У революции свои приговоры, и, как правило, кровавые.
По-иному был настроен Муклин. Его вовсе не устраивала неопределенность ответа Богусловского, он совершенно не пытался понять причину такого ответа, даже не думал о душевном состоянии собеседника, о возможных противоречиях в его мыслях. Муклину все представлялось совершенно ясным: Зимний пал, буржуазное правительство низложено, но гидра контрреволюции непременно станет сопротивляться, с ней придется воевать, и, скорее всего, основательно, потому у всех, кто начал борьбу с капиталистами и помещиками, просто обязана быть одинаковая оценка политического момента.
И только так! Муклин хотел верить без огляда тем, кто находился с ним в одном строю, а неопределенность в самой малости вызывала у него подозрение. Он напористо спросил:
– Возможно?! – И, сделав паузу, чтобы подчеркнуть важность тех слов, которые собирается сказать, продолжил так же напористо: – Ты эту, Михаил Семеонович, оппортунистическую уклончивость бросай! С народом пошел, значит, иди с ним, а не рядом. Тебе нужно понять… – Муклин поднял вверх указательный палец, готовясь сказать какую-то важную и совершенно непререкаемую истину, но в это время с лестницы донеслось грозное, приправленное смачным матерком:
– Я те поупираюсь! Я те поговорю! А ну, шагай! – Богусловский и Муклин обернулись одновременно и увидели буквально поразившую их картину: двое пограничников вели Ткача, грубо ухватив его за руки, а третий подталкивал прикладом в спину. Любая попытка Ткача либо что-то сказать, либо остановиться пресекалась решительным толчком приклада, категорическим приказом: – Шагай, вашеблагородь!..
И вольная, от души, ругань.
– Что произошло? – с недоумением спросил Богусловский Ткача и патрульных, когда они спустились с лестницы.
– Чистейшее недоразумение, – ответил с напускной небрежностью Ткач. – Я затрудняюсь даже объяснить…
Патрульных словно прорвало. Заговорили они враз все трое, перебивая друг друга и торопясь, как бы оберегая себя от возможного обвинения в самоуправстве. Из всего этого сбивчивого многословия Богусловский понял, что Ткач пытался вырезать из рамы какую-то картину, а в карманах уже были камеи. Богусловский глянул на них – старинные, не иначе как времен Александра Македонского. Спросил Ткача, сдерживая гнев:
– Что толкнуло вас на столь мерзкий поступок? – И сам же ответил: – Впрочем, ваш род всегда был алчным. Всегда!
– Избавься от шор, Михаил, оглянись, пойми наконец, – горячо, убежденно, как никогда прежде, заговорил Ткач. – Вся эта красота, все это несметное богатство будет затоптано, заплевано, растащено… Все погибнет! Все! Дворцы и храмы, гордость и устои России, превратятся в руины, а на их развалинах вырастет жгучая крапива! Да-да! Крапива! И святой долг каждого просвещенного человека спасти хоть малую толику всего этого прекрасного, накопленного веками!..
Ткач говорил то, о чем только что думал сам Богусловский, только он искал выход, как сберечь все это для России, а Ткач предлагал разворовать все, попрятать по домам, обогатив тем самым только себя. Богусловский перебил Ткача:
– Я никогда не предполагал, что вы так низко падете. Вы – омерзительны! – Затем приказал патрульным: – Отпустите его! Он недостоин того, чтобы марать о него руки.
– Ты брось, командир, офицерские штучки! – решительно возразил Муклин. – Эка, руки марать! Революцию в беленьких перчатках совершать прикажешь! В Неву этого мерзавца! Рыбам на корм.
– Отпустите! – твердо повторил Богусловский. – Подлость и алчность, увы, неподсудны. Отпустите.
– С огнем играешь, – сердито буркнул Муклин. Потом также сердито приказал патрульным: – За дверь его – и под зад коленом. Пусть катится на все четыре стороны! – Затем вновь Богусловскому, уже назидательно: – Как бы не пришлось, Михаил Семеонович, локти кусать. Вспомнишь тогда меня. Ой, вспомнишь.
Не мог тогда предполагать Богусловский, что слова эти пророческие…
Глава третья
Долго и с явным недоверием рассматривали пограничники в проходной полка предписание Петра Богусловского, недоуменно поглядывая и на его представительную фигуру – что тебе генерал, и на погоны прапорщика. А Богусловский тоже с удивлением смотрел на пограничников, вот уже вторично передававших друг другу его предписание. Все без погон, и только по обмундированию да по трехлинейкам, которыми был вооружен наряд, Петр Богусловский определил, что перед ним нижние чины, и потому с явным недовольством спросил:
– Что за спектакль?!
– Взыграла офицерская кровушка? – ухмыльнувшись, добродушно проговорил пограничник Кукоба, высокий, с толстощеким улыбчивым лицом и веселыми серыми глазами. – Бумага-то у тебя, вашеблагородь, того – липовая…
– Проводи меня к командиру полка! – нетерпеливо и гневно потребовал Богусловский. Лицо его побагровело от обидного унижения. – Я не прошу. Я приказываю!
– Нет уж, господин прапорщик, я тебя к председателю комитета проведу, он с тобой разберется, – все с тем же добродушием, нисколько, казалось, не осерчав на грубость Богусловского, ответил Кукоба и снял винтовку с плеча. – Пошли, вашеблагородь.
Понимая нелепость положения и свою полную беспомощность против такой вот наглости, гордо и непринужденно шагал Петр Богусловский в сопровождении конвойного по чистым, словно вылизанным, дорожкам городка, невольно примечая опрятность и порядок во всем и возмущаясь неуважительностью нижних чинов по отношению к нему, офицеру. Дело в том, что кто бы ни встречался им, каждый, вместо приветствия, непременно спрашивал Кукобу:
– Где это ты благородие ваше изловил?
– Временные прислали, – отвечал Кукоба.
– Тогда верно, тогда веди, – одобряли Кукобу, и это всякий раз хлестало по самолюбию прапорщика, словно его обвиняли в каком-то непристойном поступке, а гнев мешал ему осмыслить неторопливо и логично все то, что произошло с ним. Он, когда добирался из Петрограда в полк, рисовал в своем воображении встречу с командиром полка, офицерами, нижними чинами, с которыми давал себе слово быть добрым и по-отечески строгим, и вдруг такая нелепость: его ведут под конвоем. Ни за что ни про что.
Не знал еще прапорщик Богусловский о штурме Зимнего, о свержении Временного правительства.
Кукоба постучал почтительно в обитую коричневой кожей дверь; не ожидая ответа, открыл ее и, пропуская Богусловского, добродушно и весело, словно совершал что-то очень приятное человеку, пригласил:
– Входи, вашеблагородь. Покажь свои мандаты председателю.
Петр вошел в кабинет, очень просторный и очень безвкусно обставленный. На одной стене висела большая крупномасштабная карта Ботнического залива с нанесенными условными обозначениями постов полка и других военных городков и укрепленных районов, у противоположной стены стояли, словно выстроенные для парадного расчета, плотной ровной шеренгой мягкие стулья, а почти на середине комнаты будто врос в паркетный пол кряжистый стол красного дерева, за которым спиной к окну сидел председатель комитета полка Шинкарев, такой же кряжистый. И стол, и Шинкарев казались единым целым, вековым монументом, источавшим надежное спокойствие, уверенность и силу. И весьма нелепым представилось Петру Богусловскому то, что Шинкарев, кому бы важно изрекать истины бесспорные, вещать с высоты своего монументального величия, вместо этого сосредоточенно, очень осторожно, с заметной неумелой робостью накалывал на скоросшиватель какие-то листки и даже не поднял головы, вроде бы совсем не слышал ни стука в дверь, ни добродушно-веселого голоса Кукобы, так бесцеремонно приглашавшего Богусловского переступить порог столь значительного для него кабинета. Взяв очередную бумажку, основательно помятую, Шинкарев принялся разглаживать ее ладонью старательно и аккуратно.
Кукоба остановился в нерешительности рядом с порогом, потом, подтолкнув вперед Богусловского, робко переступил с ноги на ногу, кашлянул негромко, прикрыв рот рукой, подождал немного и кашлянул еще раз, на этот раз нетерпеливей и громче.
– Ну что тебе? – с явным недовольством спросил Шинкарев, продолжая разглаживать листок, прежде чем наколоть его на скоросшиватель, и, лишь поместив на предназначенное место бумажку, поднял голову и начал рассматривать Богусловского. Так же, как солдаты у костров на Невском, как пограничники в проходной полка: липко, недоверчиво и долго. Затем спросил Кукобу: – Кого привел?
– Я считаю вопрос этот в моем присутствии совершенно бестактным, более того, оскорбительным! – возмущенно заговорил Богусловский. – Как оскорбительно поведение состава наряда и его старшего! – Богусловский кивнул на Кукобу, все так же продолжавшего стоять с винтовкой наперевес. – Он осмелился конвоировать через весь город офицера, прибывшего для прохождения службы в полк! Прямой подрыв авторитета моего. Я просил бы принять надлежащие меры к составу наряда, если я прибыл в воинскую часть, а не в анархический бедлам! Я бы просил…
– Сбавь прыть, ваше благородие, – не повышая голоса, перебил Богусловского Шинкарев. – Мы не на плацу и не в царских казармах. Прошло то времечко, когда солдат сквозь строй прогоняли. Революционный боец – полноправный гражданин и требует к себе уважения как личность.
Шинкарев встал, неторопливо вышел навстречу Богусловскому и остановился в шаге от него. До удивления они оказались похожими друг на друга. Оба высокие, начинающие полнеть молодые мужчины, уверенные в себе. Лица открытые, привлекательные, а глаза умные, волевые. Даже залысины у обоих одинаковые, только волосы разные: у Богусловского черные, густые и волнистые; у Шинкарева же светлые, мягкие, что тебе шелкова трава-ковыль. Оба в форме прапорщиков, только у одного погоны и сукно подобротней да сшита умелым портным, у другого же мундир мешковат и непривычен, без погон.
– Богусловский, говоришь? – прочитав предписание, переспросил Шинкарев. – Не генерала ли Богусловского сынок?
– Да.
– Что ж, проходи, садись за мой стол и читай телеграммы. Потом потолкуем. – И Кукобе: – Свободен. Продолжай службу нести так же исправно.
Богусловский подошел к столу, но садиться не стал. Взял телеграмму, еще не подшитую, пробежал по тексту глазами и ничего не понял: «Общее собрание пограничного поста постановило Советы приветствовать, а если нужно для защиты власти трудового народа, готовы направить двух человек в Петроград». Взял следующую телеграмму, в ней почти те же слова: собрание революционных бойцов-пограничников, единодушная поддержка Советов, готовность защищать народную власть штыками. Взял еще одну – то же самое…
Богусловский какое-то время перелистывал телеграммы, взял теперь уже скоросшиватель, а сам мысленно, шаг за шагом, возвращался из этого нелепого кабинета к проходной полка, где его встретили оскорбительным недоверием, воспринимая с еще большей остротой беспардонность нижних чинов, и далее – на Невский, к обложенному кострами Зимнему.
«Значит, захвачен», – с сожалением констатировал Петр Богусловский. На Временное правительство ему лично не было причин обижаться. Звание ему присвоили в срок, дома привычный уклад жизни почти не изменился, только вечерами чаще возникали политические споры, но они даже вносили оживление в скучные званые посиделки, будоражили мысли, и этому Петр даже радовался. И всегда на этих вечерах рядом с ним находилась Анна Павлантьевна. Все уважали их любовь, все прощали ему, как самому молодому, если даже он говорил какую-либо политическую нелепицу. Его никто не оскорблял, не унижал. А вот теперь?..
К Богусловскому подошел и встал рядом Муклин. Ухмыльнулся, покачав головой, и изрек с явным упреком:
– Стыда совсем нету. Нагишом вся. Страм один.
– Богиня Венера, – ответил Богусловский. – Ее оружие – любовь, но не меч. Однако власть ее над людьми не менее сильна, чем власть меча. Даже много сильней…
– Ты брось, Михаил Семеонович, эти штучки. Штык! Только штык, который взял в мозолистые руки трудовой класс, будет повелевать миром. Дрожать от страха будут вот эти голые крали. Снопы вязать да за коровой ходить – нагишом не находишься. Вмиг сарафан натянет.
– Вы считаете… – Богусловский не хотел называть Муклина по имени, а официальное обращение не подходило к такому вот разговору, – вы считаете, что крестьянка не способна любить искренне и пылко?
– Налюбишь, если в одной избе – семеро по лавкам да еще телок с ягнятами! – сердито отрубил Муклин. – В хоромах барских, думаю, смогла бы похлеще вот этой. – Муклин вновь усмехнулся: – Да если еще вдоволь на эту кралю нагляделась бы. Или вон на того, – Муклин кивнул на античную статую, – голого бугая…
– Возможно. Вполне возможно, – покорно согласился Богусловский.
Знал он крестьянскую жизнь, крестьянскую психологию книжно и потому не считал вправе спорить с Муклиным, который частенько с гордостью заявлял, особенно если была нужда оправдать очередную грубость или безалаберность, что родился на гумне, пеленали его на овине, а рос вместе с телком. Да Муклин и не примет, как считал Богусловский, возражений, взорвется и начнет наседать упрямо, волей-неволей отступишься. А время вовсе не подходящее для выяснения точек зрения на проблемы любви. Что станет с ними через час, через день, через месяц? Кто может ответить сегодня на этот вопрос? У революции свои законы, она меняет не только эпохи, не только судьбы целых наций, но и судьбы отдельных людей, она губит отживший строй ценой гибели многих и многих. У революции свои приговоры, и, как правило, кровавые.
По-иному был настроен Муклин. Его вовсе не устраивала неопределенность ответа Богусловского, он совершенно не пытался понять причину такого ответа, даже не думал о душевном состоянии собеседника, о возможных противоречиях в его мыслях. Муклину все представлялось совершенно ясным: Зимний пал, буржуазное правительство низложено, но гидра контрреволюции непременно станет сопротивляться, с ней придется воевать, и, скорее всего, основательно, потому у всех, кто начал борьбу с капиталистами и помещиками, просто обязана быть одинаковая оценка политического момента.
И только так! Муклин хотел верить без огляда тем, кто находился с ним в одном строю, а неопределенность в самой малости вызывала у него подозрение. Он напористо спросил:
– Возможно?! – И, сделав паузу, чтобы подчеркнуть важность тех слов, которые собирается сказать, продолжил так же напористо: – Ты эту, Михаил Семеонович, оппортунистическую уклончивость бросай! С народом пошел, значит, иди с ним, а не рядом. Тебе нужно понять… – Муклин поднял вверх указательный палец, готовясь сказать какую-то важную и совершенно непререкаемую истину, но в это время с лестницы донеслось грозное, приправленное смачным матерком:
– Я те поупираюсь! Я те поговорю! А ну, шагай! – Богусловский и Муклин обернулись одновременно и увидели буквально поразившую их картину: двое пограничников вели Ткача, грубо ухватив его за руки, а третий подталкивал прикладом в спину. Любая попытка Ткача либо что-то сказать, либо остановиться пресекалась решительным толчком приклада, категорическим приказом: – Шагай, вашеблагородь!..
И вольная, от души, ругань.
– Что произошло? – с недоумением спросил Богусловский Ткача и патрульных, когда они спустились с лестницы.
– Чистейшее недоразумение, – ответил с напускной небрежностью Ткач. – Я затрудняюсь даже объяснить…
Патрульных словно прорвало. Заговорили они враз все трое, перебивая друг друга и торопясь, как бы оберегая себя от возможного обвинения в самоуправстве. Из всего этого сбивчивого многословия Богусловский понял, что Ткач пытался вырезать из рамы какую-то картину, а в карманах уже были камеи. Богусловский глянул на них – старинные, не иначе как времен Александра Македонского. Спросил Ткача, сдерживая гнев:
– Что толкнуло вас на столь мерзкий поступок? – И сам же ответил: – Впрочем, ваш род всегда был алчным. Всегда!
– Избавься от шор, Михаил, оглянись, пойми наконец, – горячо, убежденно, как никогда прежде, заговорил Ткач. – Вся эта красота, все это несметное богатство будет затоптано, заплевано, растащено… Все погибнет! Все! Дворцы и храмы, гордость и устои России, превратятся в руины, а на их развалинах вырастет жгучая крапива! Да-да! Крапива! И святой долг каждого просвещенного человека спасти хоть малую толику всего этого прекрасного, накопленного веками!..
Ткач говорил то, о чем только что думал сам Богусловский, только он искал выход, как сберечь все это для России, а Ткач предлагал разворовать все, попрятать по домам, обогатив тем самым только себя. Богусловский перебил Ткача:
– Я никогда не предполагал, что вы так низко падете. Вы – омерзительны! – Затем приказал патрульным: – Отпустите его! Он недостоин того, чтобы марать о него руки.
– Ты брось, командир, офицерские штучки! – решительно возразил Муклин. – Эка, руки марать! Революцию в беленьких перчатках совершать прикажешь! В Неву этого мерзавца! Рыбам на корм.
– Отпустите! – твердо повторил Богусловский. – Подлость и алчность, увы, неподсудны. Отпустите.
– С огнем играешь, – сердито буркнул Муклин. Потом также сердито приказал патрульным: – За дверь его – и под зад коленом. Пусть катится на все четыре стороны! – Затем вновь Богусловскому, уже назидательно: – Как бы не пришлось, Михаил Семеонович, локти кусать. Вспомнишь тогда меня. Ой, вспомнишь.
Не мог тогда предполагать Богусловский, что слова эти пророческие…
Глава третья
Долго и с явным недоверием рассматривали пограничники в проходной полка предписание Петра Богусловского, недоуменно поглядывая и на его представительную фигуру – что тебе генерал, и на погоны прапорщика. А Богусловский тоже с удивлением смотрел на пограничников, вот уже вторично передававших друг другу его предписание. Все без погон, и только по обмундированию да по трехлинейкам, которыми был вооружен наряд, Петр Богусловский определил, что перед ним нижние чины, и потому с явным недовольством спросил:
– Что за спектакль?!
– Взыграла офицерская кровушка? – ухмыльнувшись, добродушно проговорил пограничник Кукоба, высокий, с толстощеким улыбчивым лицом и веселыми серыми глазами. – Бумага-то у тебя, вашеблагородь, того – липовая…
– Проводи меня к командиру полка! – нетерпеливо и гневно потребовал Богусловский. Лицо его побагровело от обидного унижения. – Я не прошу. Я приказываю!
– Нет уж, господин прапорщик, я тебя к председателю комитета проведу, он с тобой разберется, – все с тем же добродушием, нисколько, казалось, не осерчав на грубость Богусловского, ответил Кукоба и снял винтовку с плеча. – Пошли, вашеблагородь.
Понимая нелепость положения и свою полную беспомощность против такой вот наглости, гордо и непринужденно шагал Петр Богусловский в сопровождении конвойного по чистым, словно вылизанным, дорожкам городка, невольно примечая опрятность и порядок во всем и возмущаясь неуважительностью нижних чинов по отношению к нему, офицеру. Дело в том, что кто бы ни встречался им, каждый, вместо приветствия, непременно спрашивал Кукобу:
– Где это ты благородие ваше изловил?
– Временные прислали, – отвечал Кукоба.
– Тогда верно, тогда веди, – одобряли Кукобу, и это всякий раз хлестало по самолюбию прапорщика, словно его обвиняли в каком-то непристойном поступке, а гнев мешал ему осмыслить неторопливо и логично все то, что произошло с ним. Он, когда добирался из Петрограда в полк, рисовал в своем воображении встречу с командиром полка, офицерами, нижними чинами, с которыми давал себе слово быть добрым и по-отечески строгим, и вдруг такая нелепость: его ведут под конвоем. Ни за что ни про что.
Не знал еще прапорщик Богусловский о штурме Зимнего, о свержении Временного правительства.
Кукоба постучал почтительно в обитую коричневой кожей дверь; не ожидая ответа, открыл ее и, пропуская Богусловского, добродушно и весело, словно совершал что-то очень приятное человеку, пригласил:
– Входи, вашеблагородь. Покажь свои мандаты председателю.
Петр вошел в кабинет, очень просторный и очень безвкусно обставленный. На одной стене висела большая крупномасштабная карта Ботнического залива с нанесенными условными обозначениями постов полка и других военных городков и укрепленных районов, у противоположной стены стояли, словно выстроенные для парадного расчета, плотной ровной шеренгой мягкие стулья, а почти на середине комнаты будто врос в паркетный пол кряжистый стол красного дерева, за которым спиной к окну сидел председатель комитета полка Шинкарев, такой же кряжистый. И стол, и Шинкарев казались единым целым, вековым монументом, источавшим надежное спокойствие, уверенность и силу. И весьма нелепым представилось Петру Богусловскому то, что Шинкарев, кому бы важно изрекать истины бесспорные, вещать с высоты своего монументального величия, вместо этого сосредоточенно, очень осторожно, с заметной неумелой робостью накалывал на скоросшиватель какие-то листки и даже не поднял головы, вроде бы совсем не слышал ни стука в дверь, ни добродушно-веселого голоса Кукобы, так бесцеремонно приглашавшего Богусловского переступить порог столь значительного для него кабинета. Взяв очередную бумажку, основательно помятую, Шинкарев принялся разглаживать ее ладонью старательно и аккуратно.
Кукоба остановился в нерешительности рядом с порогом, потом, подтолкнув вперед Богусловского, робко переступил с ноги на ногу, кашлянул негромко, прикрыв рот рукой, подождал немного и кашлянул еще раз, на этот раз нетерпеливей и громче.
– Ну что тебе? – с явным недовольством спросил Шинкарев, продолжая разглаживать листок, прежде чем наколоть его на скоросшиватель, и, лишь поместив на предназначенное место бумажку, поднял голову и начал рассматривать Богусловского. Так же, как солдаты у костров на Невском, как пограничники в проходной полка: липко, недоверчиво и долго. Затем спросил Кукобу: – Кого привел?
– Я считаю вопрос этот в моем присутствии совершенно бестактным, более того, оскорбительным! – возмущенно заговорил Богусловский. – Как оскорбительно поведение состава наряда и его старшего! – Богусловский кивнул на Кукобу, все так же продолжавшего стоять с винтовкой наперевес. – Он осмелился конвоировать через весь город офицера, прибывшего для прохождения службы в полк! Прямой подрыв авторитета моего. Я просил бы принять надлежащие меры к составу наряда, если я прибыл в воинскую часть, а не в анархический бедлам! Я бы просил…
– Сбавь прыть, ваше благородие, – не повышая голоса, перебил Богусловского Шинкарев. – Мы не на плацу и не в царских казармах. Прошло то времечко, когда солдат сквозь строй прогоняли. Революционный боец – полноправный гражданин и требует к себе уважения как личность.
Шинкарев встал, неторопливо вышел навстречу Богусловскому и остановился в шаге от него. До удивления они оказались похожими друг на друга. Оба высокие, начинающие полнеть молодые мужчины, уверенные в себе. Лица открытые, привлекательные, а глаза умные, волевые. Даже залысины у обоих одинаковые, только волосы разные: у Богусловского черные, густые и волнистые; у Шинкарева же светлые, мягкие, что тебе шелкова трава-ковыль. Оба в форме прапорщиков, только у одного погоны и сукно подобротней да сшита умелым портным, у другого же мундир мешковат и непривычен, без погон.
– Богусловский, говоришь? – прочитав предписание, переспросил Шинкарев. – Не генерала ли Богусловского сынок?
– Да.
– Что ж, проходи, садись за мой стол и читай телеграммы. Потом потолкуем. – И Кукобе: – Свободен. Продолжай службу нести так же исправно.
Богусловский подошел к столу, но садиться не стал. Взял телеграмму, еще не подшитую, пробежал по тексту глазами и ничего не понял: «Общее собрание пограничного поста постановило Советы приветствовать, а если нужно для защиты власти трудового народа, готовы направить двух человек в Петроград». Взял следующую телеграмму, в ней почти те же слова: собрание революционных бойцов-пограничников, единодушная поддержка Советов, готовность защищать народную власть штыками. Взял еще одну – то же самое…
Богусловский какое-то время перелистывал телеграммы, взял теперь уже скоросшиватель, а сам мысленно, шаг за шагом, возвращался из этого нелепого кабинета к проходной полка, где его встретили оскорбительным недоверием, воспринимая с еще большей остротой беспардонность нижних чинов, и далее – на Невский, к обложенному кострами Зимнему.
«Значит, захвачен», – с сожалением констатировал Петр Богусловский. На Временное правительство ему лично не было причин обижаться. Звание ему присвоили в срок, дома привычный уклад жизни почти не изменился, только вечерами чаще возникали политические споры, но они даже вносили оживление в скучные званые посиделки, будоражили мысли, и этому Петр даже радовался. И всегда на этих вечерах рядом с ним находилась Анна Павлантьевна. Все уважали их любовь, все прощали ему, как самому молодому, если даже он говорил какую-либо политическую нелепицу. Его никто не оскорблял, не унижал. А вот теперь?..