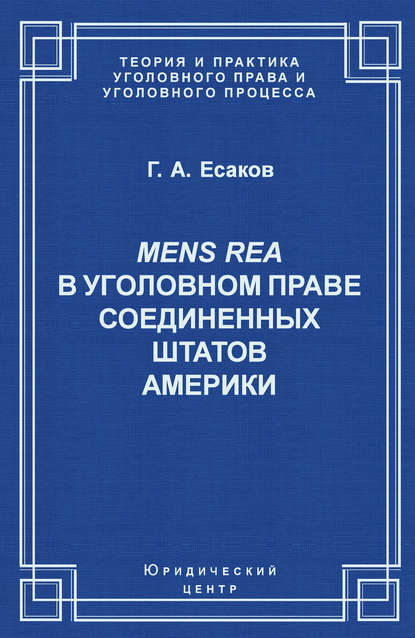По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Mens Rea в уголовном праве Соединенных Штатов Америки
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Согласно букве принципа voluntas reputabitur pro facto в его самом строгом виде, для осуждения лица достаточно одного намерения учинить преступное деяния, хотя бы к его реальному совершению и не было предпринято никаких шагов. Иначе говоря, виновный карается, пользуясь более привычным языком российской доктрины уголовного права, за обнаружение умысла или, прибегая к формулировкам англо-американской теории, при отсутствии так называемого «явного действия» (overt act) во исполнение преступного намерения.
Если же отойти от букв теоретических построений, то реальную сферу применения данной концепции в практике общего права установить сложно. Во всяком случае, доктринальные и прецедентные источники достаточно осторожны в её формулировании и склонны придавать принципу voluntas reputabitur pro facto несколько иное (по сравнению с приведённым) значение, используя его преимущественно для обоснования уголовной ответственности в сложных (со стандартной точки зрения) ситуациях.
К примеру, в XVI в. он кладётся в обоснование ответственности тогда, когда само деяние, причинившее преступный результат, совершается действием сил природы или животных, а не обвиняемого, проявившего при этом, тем не менее злоумышленность в достижении поставленной цели. Так, в 1560 г. на Честерских ассизах рассматривалось дело, вошедшее в историю под наименованием «дело шлюхи».[281 - См.: The Harlot’s Case, Crompton 24 (Chester Assiz. 1560).] Согласно его фактическим обстоятельствам, разрешившись от бремени живым ребёнком, женщина оставила его в саду, забросав листвой; спустя некоторое время дитя там было растерзано коршунами. Осуждая её к повешению за тяжкое убийство, суд указал при этом, что «она намеревалась причинить смерть ребёнку и voluntas reputatur pro facto».[282 - Ibid.] Обосновывая ответственность в данном и подобных ему казусах, доктрина XVII в. использует принцип voluntas reputabitur pro facto, перемещая центр тяжести в понимании совершённого преступления в сторону злобной mens rea и избегая тем самым обсуждения неоднозначного, по всей видимости, для того времени вопроса об уголовно-правовом значении нечеловеческих действий и сил, ставших непосредственной причиной гибели человека. Подтверждение тому можно найти у Майкла Далтона, указывающего на центральность вопроса о злом умысле в таких ситуациях и отводящего проблеме причинности второстепенную роль: «И в этих… случаях voluntas reputabitur pro facto…, ибо… они (виновные лица. – Г.Е.) обладали намерением (will) и пониманием того вреда, который последует, каковое намерение в них суммируется в злой умысел, так что делает их правонарушения тяжким убийством, и в таких случаях, где воспоследует смерть, Nihil interest, utrum quis occidat, an causam mortis prcebeat (Безразлично, некто ли убивает, или же причину смерти он [извне] призывает. —Г.Е.)».[283 - Dalton М. Op. cit. Р. 344. Последняя максима взята из труда Генри де Брактона (fol. 136b), который, в свою очередь, позаимствовал её из Дигест (D.48.8.15.).]
Тем не менее применение постулата voluntas reputabitur pro facto в приведённом казусе и ему подобных является скорее исключительным явлением, чем сложившимся правилом. Во всяком случае, иные доктринальные источники XVII–XVIII вв. обосновывают ответственность здесь без ссылки на то, что voluntas reputabitur pro facto, подтверждение чему можно найти и у Эдуарда Коука,[284 - См.: Соке Е. The Third Part… Р. 47–48.] и у Уильяма Блэкстоуна.[285 - См.: Blackstone W. Commentaries… Volume IV. P. 196–198; cp. также: Кенни К. Указ. соч. С. 139.Интересно также отметить, что со временем ссылка в решении по «делу шлюхи» на voluntas reputabitur pro facto утратила свою значимость, став очевидным obiter dictum. Прецедентную ценность, в свою очередь, сохранило лишь то, что суд констатировал наличие в ситуации этого рода (т. е. помещения беспомощного лица в таком месте, когда для действующего очевидно, что стечением времени человек неизбежно погибнет вследствие действия естественных законов природы или от диких животных) злого предумышления. Во всяком случае, в последующих доктринальных трудах данное дело и ему подобные обсуждаются именно в таком плане (см., напр.: Stephen J.F. A Digest of the Criminal Law (Indictable Offences). 9
ed. / By Lewis F. Sturge. L.: Sweet & Maxwell, Ltd., 1950. P. 214–215 & n. 3; Holmes, Jr., O.W. The Common Law. P. 53 et sec/.; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 335, 651–652).]
Более сложно объяснить источники, текстуально прилагающие принцип voluntas reputabitur pro facto к некоторым случаям великой измены.[286 - ^
См.: Coke Е. The Third Part… Р. 5; Foster М. Op. cit. P. 193–195.] Одна из разновидностей данного преступления (как оно сформулировано в действующем до сего дня Законе об измене, принятом на парламентской сессии 1351–1352 гг.[287 - См.: Treason Act, 25 Edw. Ill, Stat. 5, c. 2.]) имеет место тогда, «когда человек замышляет или воображает смерть (fait compasser ou imaginer la mort) нашего господина короля, миледи его королевы или их старшего сына и наследника». Применительно к указанной форме великой измены в доктрине XVII в. противопоставляется это преступление и все иные. К примеру, согласно Эдуарду Коуку, во всех преступлениях кроме великой измены для привлечения к ответственности требуется установить не просто письменно или устно объективировавшееся вовне намерение учинить деяние, но и «явное действие» (overt deed) во исполнение такового намерения: «… Если человек замыслил смерть другого и выразил это словом или письмом, он всё же не должен умереть за это, ибо отсутствует явное действие, ведущее к исполнению его замышления».[288 - Coke E. The Third Part… P. 5.] В великой же измене, напротив, «если человек замыслил или вообразил смерть короля… и объявил его замышление или воображение словом либо письмом, это есть великая измена…».[289 - Ibid.] Аналогичным образом, по Майклу Далтону, «намерения сердца здесь (т. е. в великой измене. – Г.Е.) достаточно, т. е. если некто намеревается, воображает, желает или добивается какого-либо такового происшествия, то следует ли деяние либо же нет, но если оно может быть открыто, оно образует великую измену …».[290 - Dalton M. Op. cit. P. 326. Cp.: «… Измена может быть совершена воображением и решимостью исполнить или учинить какое-либо деяние, хотя бы оно и не было осуществлено… Намерение совершить фелонию или тяжкое убийство по общему праву настоящего королевства ненаказуемо до тех пор, пока не совершается деяние; однако в измене… намерение может быть наказуемо (курсив мой. – Г.Е.)» (см.: Ibid. Р. 327, 348).]
Основание к столь суровое норме доктрина (судя по Мэттью Хэйлу[291 - См.: Hale М. Op. cit. Р. 115.] и Уильяму Блэкстоуну[292 - См.: Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 79–80.]) нашла в двух прецедентах XV в., где великой изменой были признаны словесные высказывания, лишь косвенно затрагивавшие монаршую власть и не сопровождавшиеся какими-либо действиями по замышлению или воображению смерти короля. Так, в 1478 г. некий лондонский горожанин был осуждён за великую измену, выразившуюся в том, что он, указывая своему сыну на корону, находившуюся на фасаде дома, обещал сделать его её наследником.[293 - См. подр.: Hale М. Op. cit. Р. 115; Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 79–80; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 221–222.] Около того же времени был казнён за великую измену человек, который, узнав, что король Эдуард IV (1461–1470, 1471–1483 гг.) убил на охоте любимого им оленя, в сердцах пожелал подавиться оленьим рогом тому, кто подбил суверена на это дело: на беду говорившего оказалось, что король охотился по собственному почину, и, таким образом, подавиться оленьим рогом желал он самому монарху.[294 - См. подр.: Hale М. Op. cit. Р. 115; Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 79–80; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 222.]
Своеобразное (хотя и непрямое) подтверждение принцип voluntas reputabitur pro facto нашёл и в двух прецедентах XVII в. В 1615 г. Эдуард Пичем был признан виновным в великой измене на основании некоторых мест в двух проповедях, найденных написанными в его кабинете, хотя никогда им и не произносившихся.[295 - См.: Peacham’s Case, 2 How. St. Tr. 869 (1615).См. подр.: Вагап К. High Treason in England Until the End of Stuart Era. Warszawa: Nakladem Uniwersytetu Jagielloriskiego, 1982. P. 33–35.] Далее, в 1683 г. подобным же образом— scribere est agere– был осуждён Альджернон Сидни на основании найденной в его доме старой неопубликованной рукописи, в которой изменнически трактовалось о суверенитете[296 - См.: Sidney’s Case, 9 How. St. Tr. 818 (1683).].
Тем не менее, уже в XVII в. ценность этих решений была поставлена под сомнение, а в XVIII–XIX вв. они явно её утратили. Во всяком случае, прецеденты XV в., будучи следствием Войны Роз, когда монарший титул оспаривался двумя соперничающими домами, Ланкастерами и Йорками, и права любого обладателя короны были спорны, являлись скорее реакцией ad hoc исключительной жестокости короны на призрачные ей угрозы, чем правильным отражением норм и доктрины права.[297 - Аналогичное принесение в жертву сиюминутным политическим интересам правовых принципов можно наблюдать и в XVI в., в правление Генриха VIII (15091547 гг.), когда практика применения законодательства о великой измене соподчинялась скорее с антикатолическими устремлениями монарха и его матримониальными делами, чем с буквой закона (см. подр.: Вагап К. Op. cit. Р. 23–29).] Что же до решений по делам Эдуарда Пичема и Альджернона Сидни, то, по замечанию Кортни С. Кенни, «ни один из этих двух казусов не имеет значения прецедента», поскольку первый «не был казнен и умер в тюрьме», а второй хотя и «был казнен, но его осуждение было впоследствии отменено парламентом».[298 - См.: Кенни К. Указ. соч. С. 292.] Кроме того, по сравнению с прецедентами XV в. они также в не меньшей мере являлись следствием сиюминутных политических веяний, вследствие которых правовые принципы нередко приносились в жертву.[299 - В затронутом аспекте можно обратиться к труду Давида Юма, в котором правовой анализ процессов о великой измене XVII в. достаточно удачно соединяется с политическим (см.: Юм Д. Англия под властью дома Стюартов. Т. 2 / Пер. с англ. А. А.Васильева. Под общ ред. С.Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2002. С. 388–396).]
Переходя от указанных прецедентов к принципу voluntas reputabitur pro facto в доктрине уголовного права, нетрудно понять сравнительную мимолётность его появления в работах XVII в. Даже Эдуард Коук отмечает, что voluntas reputabitur pro facto в случае великой измены есть «древнее право»,[300 - Соке Е. The Third Part… Р. 5.Определённые основания к такой трактовке дают более ранние источники и, в частности, «Бриттон», появившийся в конце XIII в. В главе IX книги I этого сочинения, посвящённой изменам («De Tresouns»), не содержится никакого указания на необходимость подтверждения замышления смерти короля каким-либо отдельным действием, свидетельствующим о готовности претворить в жизнь такое намерение, что, таким образом, позволяет (хотя и с известной долей осторожности) высказать предположение о наказуемости самого по себе преступного намерения: «Graunt tresoun est а compasser nostre mort, ou de nous desheriter de noster reaume, ou de fauser noster seal, ou de countrefere nostre monee ou de retoundre» («Великая измена состоит в замышлении нашей (т. е. монаршей, поскольку изложение здесь ведётся от лица суверена. – Г.Е.) смерти или в лишении нас нашего королевства, или в подделке нашей печати, или в подделке нашей монеты, или в повреждении её») (цит. по: Britton. The French Text Carefully Revised, with an English Translation, Introduction and Notes, by Francis Morgan Nichols. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1865. P. 40).См. также: Pollock F., Maitland F.W. Op. cit. Volume II. P. 506–508; Baran K. Op. cit. P. 16–17, 19.] а в соответствии с действующими нормами для образования этого преступления замышление или воображение смерти монарха должно сопровождаться «объявлением сего некоторым явным действием».[301 - Coke E. The Third Part… P. 3; а также: Ibid. P. 5–6, 12–14, 37–38.] Основанием к тому служит для него оговорка в Законе об измене 1351–1352 гг., по которой обвиняемый в великой измене должен быть «доказано изобличён в явном к тому действии людьми его состояния (de ceo prov-ablement soit attaint de overt fact per gents de lour condition)». По Мэттью Хэйлу, «одни лишь слова не создают великой измены или явного действия».[302 - Hale М. Op. cit. Р. 115.] Ещё более определённа позиция Майкла Фостера: «… Замышление рассматривается как измена, явные же действия – как средства, использованные для осуществления намерений и воображений сердца»,[303 - Foster М. Op. cit. Р. 194.] так что «пустые слова, не относящиеся к какому-либо деянию либо замыслу, не являются явными действиями измены».[304 - Ibid. Р. 200.] В итоге у Уильяма Блэкстоуна встречается прямое указание на то, что «для осуждения изменника необходимо, чтобы наличествовало открытое или явное действие более полного и очевидного характера»,[305 - Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 79.] а «произнесённые слова образуют только высокий мисдиминор, но не измену», ибо «не может быть ничего более двусмысленного и неясного, чем слова».[306 - Ibid. Р. 80.] И, наконец, авторами XIX–XX вв. безоговорочно отвергается возможность осуждения за великую измену в форме замышления или воображения смерти короля при отсутствии какого-либо «явного действия».[307 - См.: Russell on Crime… Volume I. P. 129–131; Stephen J.F. A Digest of the Criminal Law (Indictable Offences). P. 55–58; Кенни К. Указ. соч. С. 86, 290–292.Ср. также: Hall J. General Principles… Р. 68–71; Вагап К. Op. cit. P. 16–17; Шульженко Н.А. Указ. дисс. С. 12, 121–122; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 217–224.]
Суммируя сказанное, приложение принципа voluntas reputabitur pro facto к случаям великой измены в уголовно-правовой доктрине следует объяснять попыткой последней рационализировать единичные и сравнительно случайные прецеденты, появление которых являлось скорее следствием мимолётных политических веяний, чем продуктом строго юридического мышления.
Последние следы принципа voluntas reputabitur pro facto встречаются в источниках в приложении к неоконченным посягательствам, когда во их исполнение уже учинено некоторое «явное действие». Так, Эдуард Коук указывает следующее: «… Должно отметить, что… когда кто-либо нацелен совершить убийство и проявляет это неким явным действием, тогда voluntas reputabitur pro facto…».[308 - Coke Е. The Third Part… Р. 160; а также ср.: Ibid. Р. 4–6, 69, 160.] Согласно Майклу Далтону, применительно к бёрглэри «если человек совершает лишь попытку (attempt)… взлома или проникновения в жилой дом ночью с намерением ограбить либо убить любое лицо там, то, хотя бы реального проникновения и не было, тем не менее, это есть полное и оконченное бёрглэри, ибо в таких случаях Voluntas reputabitur pro facto».[309 - Dalton М. Op. cit. Р. 359; а также ср.: Ibid. Р. 363.] Как можно заключить из приведённого, доктрина недвусмысленно подчёркивает необходимость явного действия во исполнение сформировавшегося намерения (и в этом она следует сложившейся судебной практике[310 - Ср.: «Ни воображение ума учинить злодеяние без совершения деяния, ни решимость учинить такое деяние, нереализованная лицом, не являются наказуемыми в нашем праве, но совершение деяния есть единственный пункт, который закон принимает во внимание; ибо до тех пор, пока деяние не совершено, оно не может быть правонарушением для мира, а когда деяние совершено, тогда оно и наказуемо», Hales V. Petit, 1 Plowden 253, 259а, 75 Eng. Rep. 387, 397 (С.В. 1563); «До тех пор, пока деяние заключается в простом намерении, оно ненаказуемо нашими законами», Rex V. Scofield, Cald. Mag. Cas. 397, 402 (1784) (per Lord Mansfield, C.J.).]), прибегая к постулату voluntas reputabitur pro facto только для обоснования ответственности в достаточно нетипичных (по отношению к стандартному пониманию преступления как единства полностью выполненного actus reus и сопутствовавшей ему mens rea) случаях отсутствия довершённого actus reus.
Изложенное даёт основание утверждать, что появление концепции voluntas reputabitur pro facto в общем праве было обусловлено не тенденцией сверхкриминализировать человеческие помышления, а неразвитостью учения о неоконченном преступлении в средние века и необходимостью обосновать ответственность за деяния подобного рода.[311 - Cp.: Hall J. General Principles… P. 62–67; Pollock F., Maitland F.W. Op. cit. Volume II. P. 476–477 n. 5; Стифенъ Дж. Ф. Указ. соч. С. 60; Шульженко Н.А. Указ. дисс.C. 118–119; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 216–224, 572; Turner J.W.C. Attempts to Commit Crimes // The Modern Approach to Criminal Law / Collected Essays byD. Seaborne Davies, R.M. Jackson, C.S. Kenny, & c.; Preface by P.H. Winfield. (English Studies in Criminal Science / Edited by L. Radzinowicz and J.W.C. Turner. Volume IV). L.: MacMillan and Co., Ltd., 1945. P. 273 etcet.] Sayre F.B. Mens Rea. P. 991–993.]
Итак, относительная неразвитость понятийного аппарата mens rea, акцент на объективизированную моральную упречность настроя ума деятеля, предопределяющее значение последней для формально-юридического решения вопроса о наличии либо же отсутствии mens rea подтверждают то, что ведущей концептуальной характеристикой в понимании mens rea в XVII–XVIII вв. являлась её социально-этическая сущность, образовывавшаяся вытекавшей из христианской греховности моральной порицаемости настроя ума деятеля.
Могущая быть поименованной концепцией mens mala, теория mens rea в английском уголовном праве в XVII–XVIII вв. рассматривала оцениваемую с объективных позиций общества моральную упречность психического состояния человека как доминанту, изначально предопределяющую наличие или отсутствие mens rea в том или ином совершённом преступлении.
§ 2. Практическое преломление концепции mens mala в английском уголовном праве
Изложенные в предшествующем параграфе концептуальные характеристики mens rea, сложившиеся к третьей четверти XVIII в. в доктрине уголовного права, в практическом преломлении просвечивают сквозь всю его структуру. Чтобы показать это, обратимся к некоторым прикладным аспектам теории mens rea в английском уголовном праве XVI – третьей четверти XVIII вв.
Прежде всего, определимся с теми институтами, которые будут использованы для того. Все вместе и каждый в отдельности, они, как видится, должны удовлетворять следующим требованиям: во-первых, представлять в целом широкий спектр уголовно-правовых вопросов; во-вторых, являться достаточно древнего происхождения с тем, чтобы отразить в себе теорию mens rea в том её виде, в каком она сложилась к третьей четверти XVIII в.; в-третьих, быть рецепированы американским уголовным правом; и, в-четвёртых, сохранять дискуссионность в своих теоретических аспектах в плане mens rea и в настоящее время.
С известной долей риска произвольности можно предложить рассмотреть отражение концептуальных характеристик mens rea в таких институтах англо-американского уголовного права, как юридическая ошибка (error juris, mistake of law), тяжкое убийство по правилу о фелонии (felony-murder) и материально-правовые средства доказывания mens rea. Все они, как покажет дальнейшее, отвечают выдвинутым критериям и их теоретико-практическое развитие в аспекте mens rea с момента появления и до сегодняшних дней станет одной из сквозных нитей последующего изложения.
1. Юридическая ошибка
Ignorantia juris neminem excusat – незнание права никого не извиняет – являет собой глубоко укоренившуюся в уголовном праве легальную максиму.[312 - Данная легальная максима постулируется по-разному; естественно, в ряде случаев в той или иной формулировке отлично от другой расставляются акценты, что может иметь определённое значение. Однако для целей настоящего исследования это не столь принципиально.Кроме приведённого, можно сослаться ещё и на такие варианты: (1) ignorantia legis non excusat (незнание закона не извиняет); (2) ignorantia eorum, quae quis scire tenetur, non excusat (незнание того, что некто знать обязан, не извиняет); (3) ignorantia juris, quod quisque tenetur scire, neminem excusat (незнание права, которое каждый обязан знать, никого не извиняет); (4) ignorantia juris haud excusat (незнание права вовсе не извиняет).] Её абсолютность в прошлом и дискуссионность в настоящем побуждают вновь и вновь обращаться к тем теоретическим основам, в силу которых рассматриваются как не имеющие для целей уголовного права в подавляющем большинстве случаев юридического значения (или как нерелевантные) различные заблуждения, ошибочные представления лица о юридической характеристиках в частности или юридической запрещённости в целом совершаемого им деяния.
Отталкиваясь от этого постулата, необходимо прежде всего оговориться о двух значимых для последующего изложения моментах.
Во-первых, следует различать ошибку в праве (или юридическую ошибку в собственном смысле этого слова) (mistake of law) и незнание права (ignorance of law). Первое понятие связано с осведомлённостью лица об уголовно-правовом запрете, но неверной интерпретацией последнего как не относящегося к его действиям. Второе, напротив, сводится к полной неосведомлённости человека о запрещённости его поведения уголовным законом.[313 - Ср., напр.: незнание и ошибка «не подразумевают одинакового значения и не должны быть смешиваемы. Незнание подразумевает полное отсутствие знания относительно затронутого предмета. Ошибка допускает знание, но подразумевает неверный вывод», Hulton V. Edgerton, 6 S.C. 485, 489 (1875).В разграничение этих понятий см., напр.: Cremona М. Op. cit. Р. 219–223; LaFave W.R., Scott, Jr., A.W. Criminal Law / Hornbook Series; Student Edition. 2
ed. St. Paul (Minn.): West Publishing Co., 1986. P. 406, 412–420; Bassiouni M.C. Op. cit. P. 449–451; Simons K.W. Mistake and Impossibility, Law and Fact, and Culpability: A Speculative Essay // Journal of Criminal Law & Criminology. Baltimore (Md.), 1990. Vol. 81, № 1. P. 462–463; De Gregorio D. Comment, People v. Marrero and Mistake of Law // Brooklyn Law Review. Brooklyn (N.Y.), 1988. Vol. 54, № 1. P. 247–250.] Данное различие в ряде ситуаций действительно имеет юридическое значение, однако для удобства восприятия в дальнейшем (если специально не оговорено иное) термином «юридическая ошибка» (error juris) охватываются оба понятия.
В свою очередь и во-вторых, используемый в таком понимании термин «юридическая ошибка» необходимо считать юридической ошибкой в узком смысле этого слова, т. е. юридической ошибкой относительно собственно уголовного права, его существования и применения.
Иное понятие, которое также может быть (но лишь условно!) поименовано юридической ошибкой, связано с ошибкой в истолковании и применении не-уголовного права (например, ошибка относительно права собственности в посягательствах на собственность, относительно юридической действительности супружеских отношений в бигамии и т. д.). В литературе данная разновидность ошибки именуется по-разному: «ошибка относительно гражданского права»,[314 - Gross Н. Mistake // Encyclopedia of Crime and Justice / Sanford H. Kadish, editor in chief. Vol. 1–4. Vol. 3. N.Y.: The Free Press A Division of Macmillan, Inc., 1983. P. 1068.] «легальная ошибка относительно элемента правонарушения»,[315 - Simons K.W. Mistake and Impossibility… P. 457.] ошибка относительно «легального факта»,[316 - Kelman M. Interpretive Construction in the Substantive Criminal Law // Stanford Law Review. Stanford, 1981. Vol. 33, № 4. P. 631.] «косвенная» (collateral) юридическая ошибка[317 - Brett P. Mistake of Law as a Criminal Defence // Melbourne University Law Review. Melbourne, 1966. Vol. 5, № 2. P. 186.] и так далее. Соответственно, согласно господствующей точке зрения, она образует составную часть института фактической ошибки (error facti) и должна рассматриваться по её правилам, т. е. как исключающая в ряде ситуаций mens rea совершённого деяния.[318 - Cp., напр.: Long v. State, 44 Del. (5 Terry) 262, 278–283 (1949) (юридическая ошибка относительно не-уголовного права исключает mens rea; основываясь на этом, суд счёл, что ошибка относительно легального статуса развода исключает mens rea, требуемую для образования преступления бигамии, хотя бы эта ошибка и была вызвана неверным советом частного поверенного), откоммент. в: Aikins L.R. Note, Cases, Criminal Law: Mistake of Law Based Upon Advice of Counsel as a Defense: Long v. State, 65 A. 2d 489 (Del. 1949) I I Cornell Law Quarterly. Ithaca (N.Y.), 1950. Vol. 35, № 2. P. 415–420; Recent Cases, Criminal Law— Defenses— Reasonable Mistake of Law May Be a Defense to Bigamy Prosecution // Harvard Law Review. Cambridge (Mass.), 1949. Vol. 62, № 8. P. 1393–1394.] Несколько иной точки зрения придерживается Кеннет У. Симонс, полагающий, что «легальная ошибка относительно элемента правонарушения» в силу своего большего сходства именно с юридической ошибкой в узком смысле этого слова, чем с фактической ошибкой, а также вследствие своей более вероятной избегаемости по сравнению с последней должна рассматриваться как релевантная лишь тогда, когда она является обоснованной: «Такое решение более ограничивает обвиняемых, чем то, что существует применительно к фактической ошибке, которая может извинить за преступление, требующее знания или цели, даже если ошибка необоснованна. Но решение и более широко по сравнению с существующим применительно к легальной ошибке относительно контролирующего права (т. е. относительно той разновидности error juris, что именуется в настоящем исследовании как юридическая ошибка в узком смысле этого слова. – Г.Е.), которая может извинить только в очень ограниченных обстоятельствах».[319 - Simons K.W. Mistake and Impossibility… P. 500.]
Таким образом, ошибку относительно не-уголовного права не вполне корректно считать разновидностью error juris. Стремление проводить данное весьма тонкое различение является продуктом теоретической мысли второй половины XX в. До того случаи такого плана рассматривались преимущественно как подпадающие в общую категорию юридической ошибки, признававшейся в этой ситуации релевантной в силу исключения ею «специального намерения» как особой формы mens rea, включённой в дефиницию преступления, и лишь этим можно, как представляется, оправдать точку зрения Б.С. Никифорова (основывающегося на позиции Кортни С. Кенни), освещающего данную разновидность ошибки под общей рубрикой error juris.[320 - См.: Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 536–538, 720; ср.: Кенни К. Указ. соч. С. 74–75; Turner J.W.C. Attempts to Commit Crimes. P. 283.См. подр. также: Williams G.L. Criminal Law: The General Part. P. 383; Hall J. General Principles… P. 364–372; Simons K.W. Mistake and Impossibility… P. 450–462, 482502 et cet.; Grace B.R. Ignorance of the Law as an Excuse 11 Columbia Law Review. N.Y., 1986. Vol. 86, № 7. P. 1393–1396; Kelman M. Interpretive Construction… P. 630–633; Ryu P.K., Silving H. Error Juris: A Comparative Study // The University of Chicago Law Review. Chicago, 1957. Vol. 24, № 3. P. 435–438; Winfield P.H. Mistake of Law // The Law Quarterly Review. L, 1943. Vol. 59, № 236. P. 327 et seq.]
Обращаясь непосредственно к теоретическим основам учения общего права об error juris в их исторической перспективе, следует отметить, что происхождение максимы ignorantia juris и производного от неё понятия юридической ошибки связывается, как правило, с римским правом. При этом преимущественно утверждается, что нерелевантность error juris для целей уголовного права обосновывалась в Древнем Риме презумпцией всеобщего знания законов, которые, по мнению самих римлян, являлись определёнными и познаваемыми.[321 - См., напр.: Davies S.L. The Jurisprudence of Willfulness: An Evolving Theory of Excusable Ignorance // Duke Law Journal. Durham (N.C.), 1998. Vol. 48, № 3. P. 350–351; Ryu P.K., Silving H. Op. cit. P. 425–431.В российской доктрине происхождение господствующего в отечественном уголовном праве учения о юридической ошибке также связывается либо (исходя из формально-юридических позиций) с римским правом и указанной презумпцией (см., напр.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. 2- изд. перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 1999. С. 251–252; Фаткуллина М.В. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве: проблемы квалификации: Автореф. дисс… канд. юрид. наук / Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург, 2001. С. 12–13), либо же (исходя из содержательно-теоретического обоснования) с тем, что «российское уголовное право последовательно придерживается принципа ignorantia legis neminem excusat», поскольку «закон не включает осознание противоправности совершаемого деяния в содержание умышленной формы вины» (см.: Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: ООО «Профобразование», 2001. С. 29).] Наиболее часто цитируемым отрывком здесь является фрагмент из Дигест (D.22.6.9pr.), сводящийся к следующему: «Regula est juris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere» – «Существует правило, что хотя каждому вредит незнание права, но не вредит незнание факта».
И всё же, считают некоторые исследователи, делать на основе процитированного положения вывод о том, что римское право считало error juris нерелевантной для целей уголовного права, было бы, по меньшей мере, слишком поспешным умозаключением. Так, в начале XX в. Карл Биндинг попытался доказать, что, во-первых, римляне не знали аналогичного современному праву деления ошибок на error juris и error facti и что, во-вторых, «римское уголовное право всегда рассматривало знание о незаконности, т. е. по сути определённое пренебрежение или неуважение к праву, как существенную составляющую dolus mains (намерения) или culpa lata (грубой небрежности)».[322 - Ryu Р.К., Silving Н. Op. cit. Р. 425.] Как считал Карл Биндинг, понятие error juris, вытекающее из приведённого фрагмента, означает в его правильном истолковании не error juris в собственном смысле этого слова (т. е. юридическую ошибку в современном значении), a error juris sui – заблуждение лица относительно некоего правового акта, на основе которого у него возникает то или иное субъективное право.
Неправильность истолкования отрывка из Дигест, отмечается в литературе, связана ещё и с ошибочным пониманием его как относящегося в равной мере и к уголовному, и к частному праву. В реальности же он был связан исключительно с частноправовой концепцией и не имеет никакой связи с областью уголовного права.[323 - См.: Brett Р. Op. cit. Р. 185; Ryu Р.К., Silving Н. Op. cit. Р. 425–427.]
Нельзя не осветить и противоположной позиции, которой, в частности, придерживался Г. С. Фельдштейн.[324 - См.: Фельдштейн Г.С. Указ. соч. С. 543–550.] Так, им указывалось следующее: «… Только в исключительных случаях относительно субъективного состава преступлений может быть принято то предположение, что точка зрения римского уголовного права требует наличности в dolus’е сознания противозаконности предпринимаемого действия не факультативно, но de jure».[325 - Там же. С. 550.] Применительно к таким исключениям из максимы ignorantia juris Г. С. Фельдштейн отмечал, что «сознание противозаконности подразумевается само собой, в качестве элемента умысла, в тех случаях, в которых идёт речь о нарушении закона лицами, поставленными на страже закона, – лицами, допущение относительно которых предположения, что они не сознавали противозаконности своих действий, представляется абсурдным».[326 - Там же.] Суммируя его позицию, «взгляд, по которому постановления римского уголовного права применяются в каждом отдельном случае независимо от того, было ли известно это постановление лицу, его нарушившему, представляется одним из самых бесспорных».[327 - Там же.]
Тем не менее, каким бы ни было правильное истолкование положений римского права касательно error juris, очевидно, что английская доктрина XVII–XVIII вв. воспринимала его как считавшее юридическую ошибку нерелевантной для целей уголовного права и основывала соответствующие нормы общего права именно на этом постулате.
Заслуживает внимание замечание Б.С. Никифорова, возводящего ещё более отдалённо истоки учения о юридической ошибке в английском уголовном праве «к… древним постановлениям Моисеева закона».[328 - Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 719 сн. 3.Ср. библейский текст: «Eadem lex erit indigenae et colono, qui peregrinatur apud vos…», Liber Exodus, XII, 49 («Того же закона да не будет лишён и переселенец, который чужой для вас…», Исход, глава XII, стих 49); «/Equum iudicium sit inter vos, sive peregrinus sive civis peccaverit; quia ego sum Dominus Deus vester…», Liber Leviticus, XXIV, 22 («Равное решение будет между вами, будь то чужеземец или будь то соотечественник согрешит, ибо Я есть Господь Бог ваш…», Левит, глава XXIV, стих 22).] Однако такая связь едва ли может быть удовлетворительно доказана; как следствие, данная точка зрения не является общепринятой и крайне редко встречается в первоисточниках. Схожая позиция высказывается отдельными авторами, когда они усматривают в положениях общего права связь с канонической доктриной error juris,[329 - См., напр.: Ryu Р.К., Silving Н. Op. cit. Р. 427–430.] хотя и этот взгляд представляется сомнительным. Как правило, английские комментаторы прямо указывают на то, что «норма (о error juris. – Г.Е.) заимствована из гражданского права (civil law) (D. lib. 22, tit. 6) (т. e. здесь под “гражданским правом” подразумевается римское право. – Г.Е.) без восприятия с ней, тем не менее, тех справедливых модификаций, которыми изначально сопровождалась норма…»[330 - Blackstone W. Commentaries on the Laws of England: In Four Books / With Notes Selected from the Editions of Archbold, Christian, Coleridge, Chitty, Stewart, Kerr and Others, Barron Field’s Analysis, and Additional Notes, and a Life of the Author, by George Sharswood. In Two Volumes. Volume II: Books III & IV. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1859. P. 348–349 n. 7 by Chitty (далее цит. как: Sharswood’s Blackstone… Volume II.).]
Насколько то удалось установить, первое упоминание об error juris и её нерелевантности встречается в труде, появившемся в 1518 г. и озаглавленном как «Диалоги между доктором богословия и студентом, изучающим право Англии» («Dialogues Between a Doctor of Divinity and a Student in the Laws of England»). Согласно данному источнику, «незнание закона (хотя бы оно было неизбежно) не извиняет относительно закона, кроме как в немногих случаях, ибо каждый человек обязан на свой риск познать, каков закон королевства…»[331 - Цит. no: Davies S.L. Op. cit. P. 352 n. 48.]
В дальнейшем максима ignorantia juris формулируется уже Эдуардом Коуком. Вместе с тем, в первой части «Институтов» содержится лишь её простое постулирование, причём помещена она в предисловии в объяснение того, почему трактат написан на английском языке:
«Я не могу предполагать, что общее изложение этих законов на английском языке может создать какое-нибудь неудобство, но приведёт лишь к большей пользе, принимая во внимание, что Ignorantia juris non excusat, незнание закона не извиняет»[332 - Соке Е. The First Part of the Institutes of the Laws of England; Or, A Commentary Upon Littleton. Not the Name of the Author Only, but of the Law Itself. 19
ed., corr., by Charles Butler. Volume I. L.: Printed for J. & W.T. Clarke, 1832. P. xxxviii-xxxix.].
Таким образом, представляется возможным сказать, что ввиду отсутствия у первого из упомянутых источников авторитетного правового значения, а у второго – ясно выраженного теоретического обоснования, им обоим лишь номинально можно приписать заслугу первого доктринального установления максимы ignorantia juris.
Своё теоретическое развитие последняя, будучи уже безоговорочно воспринята на практике,[333 - См., напр.: «Что максима права Ignorantia juris non excusat означает для публики, так это то, что незнание не может пледироваться в извинение преступлений (т. е. в данном контексте выдвигаться в суде в оправдание какого-либо деяния. – Г.Е.), хотя в гражданских делах решение иное», Lansdown v. Lansdown, Mos. 364, 365 (Ch. 1730) (per Lord King, L.C.); Rex v. Bailey, Russ. & Ry. 1, 168 Eng. Rep. 651 (Cr. Cas. Res. 1800) (per Lord Eldon, J.) (незнание статута и объективная невозможность его узнать не исключают ответственности за его нарушение).] получает в дальнейшем в «Истории» Мэттью Хэйла. Им указывается следующее:
«Незнание местного права королевства (the municipal law of the kingdom) или наказания, налагаемого им на правонарушителей, не освобождает кого-либо, достигшего возраста, с которого он может быть ответственен за свои поступки (age of discretion), и являющегося compos mentis, от наказания за нарушение его, поскольку каждое лицо, достигшее возраста, с которого оно может быть ответственно за свои поступки, и являющееся compos mentis, обязано знать право и презюмируется знающим его …».[334 - Hale М. Op. cit. Р. 42.]
С незначительными изменениями эти положения воспроизводятся Уильямом Блэкстоуном, на «Комментарии» которого и следует опереться в исходном анализе.
Учение об error juris излагается в главе II четвёртого тома «Комментариев», посвящённой лицам, способным к совершению преступлений, под рубрикой, связанной с рассмотрением оснований освобождения от уголовной ответственности вследствие «отсутствия или дефекта воли».[335 - Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 20.] Формулируется теория юридической ошибки следующим образом:
«… Незнание или ошибка есть другой дефект воли, когда человек, намереваясь совершить правомерное деяние, совершает то, что оказывается неправомерным. Поскольку здесь деяние и воля действуют раздельно, нет такого совпадения между ними, которое необходимо для образования преступного деяния. Но незнание или ошибка должна быть фактической, а не ошибкой в положении права. Так, если человек, намереваясь убить вора или взломщика, проникшего в принадлежащий ему дом… по ошибке убивает кого-нибудь из своей собственной семьи, это не является уголовно наказуемым; но если человек полагает, что он имеет право убить отлучённого от церкви или объявленного вне закона, где бы он ни встретил его, и действительно так поступает, это является преднамеренным тяжким убийством. Ибо ошибка в положении права, которое каждое лицо, могущее быть ответственным за свои поступки, не только может, но обязано знать и презюмируется знающим, в уголовных делах не является видом основания защиты (курсив мой. – Г.Е.). Ignorant ia juris, quod quisque tenetur scire, neminem excusat, является настолько же максимой нашего собственного права, насколько она была таковой в римском».[336 - Ibid. Р. 27.]
Обратимся к первоисточникам, на которых основываются тезисы Уильяма Блэкстоуна.
Что до римского права, то им цитируется приведённый выше и уже проанализированный с точки зрения его исторической ценности для учения об error juris фрагмент из Дигест.[337 - См.: Ibid. Р. 27 п. а. Отметим, что Мэттью Хэйл в своей работе ссылки на Дигесты не делает.]
Более интересен источник, в котором, как полагает Уильям Блэкстоун, сформулирована максима ignorantia juris по английскому праву.[338 - См.: ibid. Р. 25 n. z. В свою очередь, эта ссылка встречается и у Мэттью Хэйла.] Им является решение XVI в. по гражданско-правовому спору, возникшему на основе иска о возвращении владения (action for the replevin) над имуществом, изъятым у владельца в обеспечение исполнения обязательства.[339 - См.: Brett V. Rigden, 1 Plowden 340, 75 Eng. Rep. 516 (Q.B. 1568).Из более ранних интересных прецедентов, не упоминаемых в блэкстоуновских комментариях, нельзя не отметить дело, разрешённое в 1338 г. на Осенней судебной сессии в двенадцатый год правления короля Эдуарда III (Y. В. Mich. 12 Edw. Ill, Rolls Series *67, pi. 29, A. D. 1338), в котором сказано, что обвиняемые в нарушении права (trespass) и нанесении побоев (battery) могли бы выдвинуть в своё оправдание ссылку на предполагавшееся ими наличие у другого права захватить силой скот истца; не выдвинув же этого довода, они были правомерно осуждены (цит. по: Year Books of the Reign of King Edward the Third. Years XII and XIII. P. 66–67).Также примечательно дело Вернона, разрешённое на Осенней судебной сессии в двадцатый год правления короля Генриха VII, т. е. в 1505 г. (Vernon’s Case, Y. В. Mich. 20 Hen. VII, fol. 2, pi. 4, A. D. 1505). Согласно его фактам, обвиняемые увезли жену истца, сопровождая её в Вестминстер, где она намеревалась добиться развода, и привели этот довод в своё оправдание. Истец попытался опровергнуть его, указав, что дела о разводе слушаются не в Вестминстерских королевских судах, а в церковных судах; однако суд поддержал доводы обвиняемых, отметив, что «они, возможно, не знали закон (курсив мой. – Г.Е.) в той его части, которая касается того, где следует предъявлять иск о разводе» (цит. по: Sharswood’s Blackstone… Volume II. Р. 348349 n. 7 by Chitty).Конечно же, если придирчиво рассматривать оба данных дела со строго современных позиций, то они, как можно судить из их фактов, связаны с ошибкой относительно не-уголовного права.] Из всех обстоятельств, связанных с данным делом, заслуживает внимания лишь одно положение, выдвинутое в суде, в силу которого «должно презюмироваться, что всякий подданный нашего королевства осведомлён о праве, посредством которого он управляется».[340 - Brett V. Rigden, 1 Plowden 340, 342, 75 Eng. Rep. 516, 520 (Q.B. 1568).] Примечательно, но такой довод не получил поддержки суда, поскольку решение было вынесено против стороны, которую представлял адвокат, сформулировавший его, что, однако, не помешало Уильяму Блэкстоуну использовать этот прецедент в поддержку максимы ignorantia juris.
Опираясь на работы Мэттью Хэйла и Уильяма Блэкстоуна, можно сделать, на первый взгляд, вывод, что теоретическим обоснованием максимы ignorantia juris для доктрины рассматриваемого времени служит презумпция всеобщего знания уголовного законодательства. Но, как представляется, данная презумпция являет собой лишь внешнее, формально-юридическое обоснование нерелевантности error juris, в то время как истинное, сущностное залегает более глубоко.
В доказательство этого тезиса обратимся к социальной характеристике деяний, признающихся преступлениями и, в частности, являвшихся таковыми в английском праве XVII–XVIII вв.
Исходные посылки здесь следующие. Любое преступление причиняет вред личности, обществу или государству, т. е., в конечном счёте, социуму в целом. Говоря в общем, деяние, признающееся преступлением, a priori презюмируется наносящим вред, что и оправдывает единственно применение уголовно-правовых санкций, причём опровержение такой презумпции означает потерю уголовным законодательством своего базиса, своей моральной обоснованности и социальной приемлемости. По своим внешним характеристикам этот вред разнится, заключаясь либо во вреде здоровью человека, либо в ущербе его имуществу, либо в оскорблении общественной нравственности и так далее. Разноплановость причиняемого преступлениями вреда предопределяет существование другой, не менее важной его характеристики, являющейся отчасти субъективной и заключающейся в очевидности вреда, его явности, могущей разниться от случая к случаю. Сосуществование обеих характеристик даёт основание для выделения в англо-американском уголовном праве двух категорий преступлений – mala in se и mala prohibita. He вдаваясь в теоретически дискуссионные вопросы об их различении (особенно спорные в настоящее время), суммировать применительно к рассматриваемой эпохе отличительные черты преступлений mala in se, имеющих значение в настоящий момент, можно так, что в эту категорию попадут преступления, сводящиеся к причинению такого вреда, который очевидно опасен, недопустим и неприемлем в обществе. Как следствие, совершающий преступление mala in se очевидно и неизбежно осознаёт либо в момент причинения вреда (если последнее намеренно), либо сразу же после того (если он действовал небрежно) социальную неприемлемость своего поведения. Последняя же, в свою очередь, обосновывает отрицательную оценку его личности и, что более важно, предопределяет моральную упречность настроя его ума.
Если же отойти от букв теоретических построений, то реальную сферу применения данной концепции в практике общего права установить сложно. Во всяком случае, доктринальные и прецедентные источники достаточно осторожны в её формулировании и склонны придавать принципу voluntas reputabitur pro facto несколько иное (по сравнению с приведённым) значение, используя его преимущественно для обоснования уголовной ответственности в сложных (со стандартной точки зрения) ситуациях.
К примеру, в XVI в. он кладётся в обоснование ответственности тогда, когда само деяние, причинившее преступный результат, совершается действием сил природы или животных, а не обвиняемого, проявившего при этом, тем не менее злоумышленность в достижении поставленной цели. Так, в 1560 г. на Честерских ассизах рассматривалось дело, вошедшее в историю под наименованием «дело шлюхи».[281 - См.: The Harlot’s Case, Crompton 24 (Chester Assiz. 1560).] Согласно его фактическим обстоятельствам, разрешившись от бремени живым ребёнком, женщина оставила его в саду, забросав листвой; спустя некоторое время дитя там было растерзано коршунами. Осуждая её к повешению за тяжкое убийство, суд указал при этом, что «она намеревалась причинить смерть ребёнку и voluntas reputatur pro facto».[282 - Ibid.] Обосновывая ответственность в данном и подобных ему казусах, доктрина XVII в. использует принцип voluntas reputabitur pro facto, перемещая центр тяжести в понимании совершённого преступления в сторону злобной mens rea и избегая тем самым обсуждения неоднозначного, по всей видимости, для того времени вопроса об уголовно-правовом значении нечеловеческих действий и сил, ставших непосредственной причиной гибели человека. Подтверждение тому можно найти у Майкла Далтона, указывающего на центральность вопроса о злом умысле в таких ситуациях и отводящего проблеме причинности второстепенную роль: «И в этих… случаях voluntas reputabitur pro facto…, ибо… они (виновные лица. – Г.Е.) обладали намерением (will) и пониманием того вреда, который последует, каковое намерение в них суммируется в злой умысел, так что делает их правонарушения тяжким убийством, и в таких случаях, где воспоследует смерть, Nihil interest, utrum quis occidat, an causam mortis prcebeat (Безразлично, некто ли убивает, или же причину смерти он [извне] призывает. —Г.Е.)».[283 - Dalton М. Op. cit. Р. 344. Последняя максима взята из труда Генри де Брактона (fol. 136b), который, в свою очередь, позаимствовал её из Дигест (D.48.8.15.).]
Тем не менее применение постулата voluntas reputabitur pro facto в приведённом казусе и ему подобных является скорее исключительным явлением, чем сложившимся правилом. Во всяком случае, иные доктринальные источники XVII–XVIII вв. обосновывают ответственность здесь без ссылки на то, что voluntas reputabitur pro facto, подтверждение чему можно найти и у Эдуарда Коука,[284 - См.: Соке Е. The Third Part… Р. 47–48.] и у Уильяма Блэкстоуна.[285 - См.: Blackstone W. Commentaries… Volume IV. P. 196–198; cp. также: Кенни К. Указ. соч. С. 139.Интересно также отметить, что со временем ссылка в решении по «делу шлюхи» на voluntas reputabitur pro facto утратила свою значимость, став очевидным obiter dictum. Прецедентную ценность, в свою очередь, сохранило лишь то, что суд констатировал наличие в ситуации этого рода (т. е. помещения беспомощного лица в таком месте, когда для действующего очевидно, что стечением времени человек неизбежно погибнет вследствие действия естественных законов природы или от диких животных) злого предумышления. Во всяком случае, в последующих доктринальных трудах данное дело и ему подобные обсуждаются именно в таком плане (см., напр.: Stephen J.F. A Digest of the Criminal Law (Indictable Offences). 9
ed. / By Lewis F. Sturge. L.: Sweet & Maxwell, Ltd., 1950. P. 214–215 & n. 3; Holmes, Jr., O.W. The Common Law. P. 53 et sec/.; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 335, 651–652).]
Более сложно объяснить источники, текстуально прилагающие принцип voluntas reputabitur pro facto к некоторым случаям великой измены.[286 - ^
См.: Coke Е. The Third Part… Р. 5; Foster М. Op. cit. P. 193–195.] Одна из разновидностей данного преступления (как оно сформулировано в действующем до сего дня Законе об измене, принятом на парламентской сессии 1351–1352 гг.[287 - См.: Treason Act, 25 Edw. Ill, Stat. 5, c. 2.]) имеет место тогда, «когда человек замышляет или воображает смерть (fait compasser ou imaginer la mort) нашего господина короля, миледи его королевы или их старшего сына и наследника». Применительно к указанной форме великой измены в доктрине XVII в. противопоставляется это преступление и все иные. К примеру, согласно Эдуарду Коуку, во всех преступлениях кроме великой измены для привлечения к ответственности требуется установить не просто письменно или устно объективировавшееся вовне намерение учинить деяние, но и «явное действие» (overt deed) во исполнение такового намерения: «… Если человек замыслил смерть другого и выразил это словом или письмом, он всё же не должен умереть за это, ибо отсутствует явное действие, ведущее к исполнению его замышления».[288 - Coke E. The Third Part… P. 5.] В великой же измене, напротив, «если человек замыслил или вообразил смерть короля… и объявил его замышление или воображение словом либо письмом, это есть великая измена…».[289 - Ibid.] Аналогичным образом, по Майклу Далтону, «намерения сердца здесь (т. е. в великой измене. – Г.Е.) достаточно, т. е. если некто намеревается, воображает, желает или добивается какого-либо такового происшествия, то следует ли деяние либо же нет, но если оно может быть открыто, оно образует великую измену …».[290 - Dalton M. Op. cit. P. 326. Cp.: «… Измена может быть совершена воображением и решимостью исполнить или учинить какое-либо деяние, хотя бы оно и не было осуществлено… Намерение совершить фелонию или тяжкое убийство по общему праву настоящего королевства ненаказуемо до тех пор, пока не совершается деяние; однако в измене… намерение может быть наказуемо (курсив мой. – Г.Е.)» (см.: Ibid. Р. 327, 348).]
Основание к столь суровое норме доктрина (судя по Мэттью Хэйлу[291 - См.: Hale М. Op. cit. Р. 115.] и Уильяму Блэкстоуну[292 - См.: Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 79–80.]) нашла в двух прецедентах XV в., где великой изменой были признаны словесные высказывания, лишь косвенно затрагивавшие монаршую власть и не сопровождавшиеся какими-либо действиями по замышлению или воображению смерти короля. Так, в 1478 г. некий лондонский горожанин был осуждён за великую измену, выразившуюся в том, что он, указывая своему сыну на корону, находившуюся на фасаде дома, обещал сделать его её наследником.[293 - См. подр.: Hale М. Op. cit. Р. 115; Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 79–80; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 221–222.] Около того же времени был казнён за великую измену человек, который, узнав, что король Эдуард IV (1461–1470, 1471–1483 гг.) убил на охоте любимого им оленя, в сердцах пожелал подавиться оленьим рогом тому, кто подбил суверена на это дело: на беду говорившего оказалось, что король охотился по собственному почину, и, таким образом, подавиться оленьим рогом желал он самому монарху.[294 - См. подр.: Hale М. Op. cit. Р. 115; Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 79–80; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 222.]
Своеобразное (хотя и непрямое) подтверждение принцип voluntas reputabitur pro facto нашёл и в двух прецедентах XVII в. В 1615 г. Эдуард Пичем был признан виновным в великой измене на основании некоторых мест в двух проповедях, найденных написанными в его кабинете, хотя никогда им и не произносившихся.[295 - См.: Peacham’s Case, 2 How. St. Tr. 869 (1615).См. подр.: Вагап К. High Treason in England Until the End of Stuart Era. Warszawa: Nakladem Uniwersytetu Jagielloriskiego, 1982. P. 33–35.] Далее, в 1683 г. подобным же образом— scribere est agere– был осуждён Альджернон Сидни на основании найденной в его доме старой неопубликованной рукописи, в которой изменнически трактовалось о суверенитете[296 - См.: Sidney’s Case, 9 How. St. Tr. 818 (1683).].
Тем не менее, уже в XVII в. ценность этих решений была поставлена под сомнение, а в XVIII–XIX вв. они явно её утратили. Во всяком случае, прецеденты XV в., будучи следствием Войны Роз, когда монарший титул оспаривался двумя соперничающими домами, Ланкастерами и Йорками, и права любого обладателя короны были спорны, являлись скорее реакцией ad hoc исключительной жестокости короны на призрачные ей угрозы, чем правильным отражением норм и доктрины права.[297 - Аналогичное принесение в жертву сиюминутным политическим интересам правовых принципов можно наблюдать и в XVI в., в правление Генриха VIII (15091547 гг.), когда практика применения законодательства о великой измене соподчинялась скорее с антикатолическими устремлениями монарха и его матримониальными делами, чем с буквой закона (см. подр.: Вагап К. Op. cit. Р. 23–29).] Что же до решений по делам Эдуарда Пичема и Альджернона Сидни, то, по замечанию Кортни С. Кенни, «ни один из этих двух казусов не имеет значения прецедента», поскольку первый «не был казнен и умер в тюрьме», а второй хотя и «был казнен, но его осуждение было впоследствии отменено парламентом».[298 - См.: Кенни К. Указ. соч. С. 292.] Кроме того, по сравнению с прецедентами XV в. они также в не меньшей мере являлись следствием сиюминутных политических веяний, вследствие которых правовые принципы нередко приносились в жертву.[299 - В затронутом аспекте можно обратиться к труду Давида Юма, в котором правовой анализ процессов о великой измене XVII в. достаточно удачно соединяется с политическим (см.: Юм Д. Англия под властью дома Стюартов. Т. 2 / Пер. с англ. А. А.Васильева. Под общ ред. С.Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2002. С. 388–396).]
Переходя от указанных прецедентов к принципу voluntas reputabitur pro facto в доктрине уголовного права, нетрудно понять сравнительную мимолётность его появления в работах XVII в. Даже Эдуард Коук отмечает, что voluntas reputabitur pro facto в случае великой измены есть «древнее право»,[300 - Соке Е. The Third Part… Р. 5.Определённые основания к такой трактовке дают более ранние источники и, в частности, «Бриттон», появившийся в конце XIII в. В главе IX книги I этого сочинения, посвящённой изменам («De Tresouns»), не содержится никакого указания на необходимость подтверждения замышления смерти короля каким-либо отдельным действием, свидетельствующим о готовности претворить в жизнь такое намерение, что, таким образом, позволяет (хотя и с известной долей осторожности) высказать предположение о наказуемости самого по себе преступного намерения: «Graunt tresoun est а compasser nostre mort, ou de nous desheriter de noster reaume, ou de fauser noster seal, ou de countrefere nostre monee ou de retoundre» («Великая измена состоит в замышлении нашей (т. е. монаршей, поскольку изложение здесь ведётся от лица суверена. – Г.Е.) смерти или в лишении нас нашего королевства, или в подделке нашей печати, или в подделке нашей монеты, или в повреждении её») (цит. по: Britton. The French Text Carefully Revised, with an English Translation, Introduction and Notes, by Francis Morgan Nichols. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1865. P. 40).См. также: Pollock F., Maitland F.W. Op. cit. Volume II. P. 506–508; Baran K. Op. cit. P. 16–17, 19.] а в соответствии с действующими нормами для образования этого преступления замышление или воображение смерти монарха должно сопровождаться «объявлением сего некоторым явным действием».[301 - Coke E. The Third Part… P. 3; а также: Ibid. P. 5–6, 12–14, 37–38.] Основанием к тому служит для него оговорка в Законе об измене 1351–1352 гг., по которой обвиняемый в великой измене должен быть «доказано изобличён в явном к тому действии людьми его состояния (de ceo prov-ablement soit attaint de overt fact per gents de lour condition)». По Мэттью Хэйлу, «одни лишь слова не создают великой измены или явного действия».[302 - Hale М. Op. cit. Р. 115.] Ещё более определённа позиция Майкла Фостера: «… Замышление рассматривается как измена, явные же действия – как средства, использованные для осуществления намерений и воображений сердца»,[303 - Foster М. Op. cit. Р. 194.] так что «пустые слова, не относящиеся к какому-либо деянию либо замыслу, не являются явными действиями измены».[304 - Ibid. Р. 200.] В итоге у Уильяма Блэкстоуна встречается прямое указание на то, что «для осуждения изменника необходимо, чтобы наличествовало открытое или явное действие более полного и очевидного характера»,[305 - Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 79.] а «произнесённые слова образуют только высокий мисдиминор, но не измену», ибо «не может быть ничего более двусмысленного и неясного, чем слова».[306 - Ibid. Р. 80.] И, наконец, авторами XIX–XX вв. безоговорочно отвергается возможность осуждения за великую измену в форме замышления или воображения смерти короля при отсутствии какого-либо «явного действия».[307 - См.: Russell on Crime… Volume I. P. 129–131; Stephen J.F. A Digest of the Criminal Law (Indictable Offences). P. 55–58; Кенни К. Указ. соч. С. 86, 290–292.Ср. также: Hall J. General Principles… Р. 68–71; Вагап К. Op. cit. P. 16–17; Шульженко Н.А. Указ. дисс. С. 12, 121–122; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 217–224.]
Суммируя сказанное, приложение принципа voluntas reputabitur pro facto к случаям великой измены в уголовно-правовой доктрине следует объяснять попыткой последней рационализировать единичные и сравнительно случайные прецеденты, появление которых являлось скорее следствием мимолётных политических веяний, чем продуктом строго юридического мышления.
Последние следы принципа voluntas reputabitur pro facto встречаются в источниках в приложении к неоконченным посягательствам, когда во их исполнение уже учинено некоторое «явное действие». Так, Эдуард Коук указывает следующее: «… Должно отметить, что… когда кто-либо нацелен совершить убийство и проявляет это неким явным действием, тогда voluntas reputabitur pro facto…».[308 - Coke Е. The Third Part… Р. 160; а также ср.: Ibid. Р. 4–6, 69, 160.] Согласно Майклу Далтону, применительно к бёрглэри «если человек совершает лишь попытку (attempt)… взлома или проникновения в жилой дом ночью с намерением ограбить либо убить любое лицо там, то, хотя бы реального проникновения и не было, тем не менее, это есть полное и оконченное бёрглэри, ибо в таких случаях Voluntas reputabitur pro facto».[309 - Dalton М. Op. cit. Р. 359; а также ср.: Ibid. Р. 363.] Как можно заключить из приведённого, доктрина недвусмысленно подчёркивает необходимость явного действия во исполнение сформировавшегося намерения (и в этом она следует сложившейся судебной практике[310 - Ср.: «Ни воображение ума учинить злодеяние без совершения деяния, ни решимость учинить такое деяние, нереализованная лицом, не являются наказуемыми в нашем праве, но совершение деяния есть единственный пункт, который закон принимает во внимание; ибо до тех пор, пока деяние не совершено, оно не может быть правонарушением для мира, а когда деяние совершено, тогда оно и наказуемо», Hales V. Petit, 1 Plowden 253, 259а, 75 Eng. Rep. 387, 397 (С.В. 1563); «До тех пор, пока деяние заключается в простом намерении, оно ненаказуемо нашими законами», Rex V. Scofield, Cald. Mag. Cas. 397, 402 (1784) (per Lord Mansfield, C.J.).]), прибегая к постулату voluntas reputabitur pro facto только для обоснования ответственности в достаточно нетипичных (по отношению к стандартному пониманию преступления как единства полностью выполненного actus reus и сопутствовавшей ему mens rea) случаях отсутствия довершённого actus reus.
Изложенное даёт основание утверждать, что появление концепции voluntas reputabitur pro facto в общем праве было обусловлено не тенденцией сверхкриминализировать человеческие помышления, а неразвитостью учения о неоконченном преступлении в средние века и необходимостью обосновать ответственность за деяния подобного рода.[311 - Cp.: Hall J. General Principles… P. 62–67; Pollock F., Maitland F.W. Op. cit. Volume II. P. 476–477 n. 5; Стифенъ Дж. Ф. Указ. соч. С. 60; Шульженко Н.А. Указ. дисс.C. 118–119; Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 216–224, 572; Turner J.W.C. Attempts to Commit Crimes // The Modern Approach to Criminal Law / Collected Essays byD. Seaborne Davies, R.M. Jackson, C.S. Kenny, & c.; Preface by P.H. Winfield. (English Studies in Criminal Science / Edited by L. Radzinowicz and J.W.C. Turner. Volume IV). L.: MacMillan and Co., Ltd., 1945. P. 273 etcet.] Sayre F.B. Mens Rea. P. 991–993.]
Итак, относительная неразвитость понятийного аппарата mens rea, акцент на объективизированную моральную упречность настроя ума деятеля, предопределяющее значение последней для формально-юридического решения вопроса о наличии либо же отсутствии mens rea подтверждают то, что ведущей концептуальной характеристикой в понимании mens rea в XVII–XVIII вв. являлась её социально-этическая сущность, образовывавшаяся вытекавшей из христианской греховности моральной порицаемости настроя ума деятеля.
Могущая быть поименованной концепцией mens mala, теория mens rea в английском уголовном праве в XVII–XVIII вв. рассматривала оцениваемую с объективных позиций общества моральную упречность психического состояния человека как доминанту, изначально предопределяющую наличие или отсутствие mens rea в том или ином совершённом преступлении.
§ 2. Практическое преломление концепции mens mala в английском уголовном праве
Изложенные в предшествующем параграфе концептуальные характеристики mens rea, сложившиеся к третьей четверти XVIII в. в доктрине уголовного права, в практическом преломлении просвечивают сквозь всю его структуру. Чтобы показать это, обратимся к некоторым прикладным аспектам теории mens rea в английском уголовном праве XVI – третьей четверти XVIII вв.
Прежде всего, определимся с теми институтами, которые будут использованы для того. Все вместе и каждый в отдельности, они, как видится, должны удовлетворять следующим требованиям: во-первых, представлять в целом широкий спектр уголовно-правовых вопросов; во-вторых, являться достаточно древнего происхождения с тем, чтобы отразить в себе теорию mens rea в том её виде, в каком она сложилась к третьей четверти XVIII в.; в-третьих, быть рецепированы американским уголовным правом; и, в-четвёртых, сохранять дискуссионность в своих теоретических аспектах в плане mens rea и в настоящее время.
С известной долей риска произвольности можно предложить рассмотреть отражение концептуальных характеристик mens rea в таких институтах англо-американского уголовного права, как юридическая ошибка (error juris, mistake of law), тяжкое убийство по правилу о фелонии (felony-murder) и материально-правовые средства доказывания mens rea. Все они, как покажет дальнейшее, отвечают выдвинутым критериям и их теоретико-практическое развитие в аспекте mens rea с момента появления и до сегодняшних дней станет одной из сквозных нитей последующего изложения.
1. Юридическая ошибка
Ignorantia juris neminem excusat – незнание права никого не извиняет – являет собой глубоко укоренившуюся в уголовном праве легальную максиму.[312 - Данная легальная максима постулируется по-разному; естественно, в ряде случаев в той или иной формулировке отлично от другой расставляются акценты, что может иметь определённое значение. Однако для целей настоящего исследования это не столь принципиально.Кроме приведённого, можно сослаться ещё и на такие варианты: (1) ignorantia legis non excusat (незнание закона не извиняет); (2) ignorantia eorum, quae quis scire tenetur, non excusat (незнание того, что некто знать обязан, не извиняет); (3) ignorantia juris, quod quisque tenetur scire, neminem excusat (незнание права, которое каждый обязан знать, никого не извиняет); (4) ignorantia juris haud excusat (незнание права вовсе не извиняет).] Её абсолютность в прошлом и дискуссионность в настоящем побуждают вновь и вновь обращаться к тем теоретическим основам, в силу которых рассматриваются как не имеющие для целей уголовного права в подавляющем большинстве случаев юридического значения (или как нерелевантные) различные заблуждения, ошибочные представления лица о юридической характеристиках в частности или юридической запрещённости в целом совершаемого им деяния.
Отталкиваясь от этого постулата, необходимо прежде всего оговориться о двух значимых для последующего изложения моментах.
Во-первых, следует различать ошибку в праве (или юридическую ошибку в собственном смысле этого слова) (mistake of law) и незнание права (ignorance of law). Первое понятие связано с осведомлённостью лица об уголовно-правовом запрете, но неверной интерпретацией последнего как не относящегося к его действиям. Второе, напротив, сводится к полной неосведомлённости человека о запрещённости его поведения уголовным законом.[313 - Ср., напр.: незнание и ошибка «не подразумевают одинакового значения и не должны быть смешиваемы. Незнание подразумевает полное отсутствие знания относительно затронутого предмета. Ошибка допускает знание, но подразумевает неверный вывод», Hulton V. Edgerton, 6 S.C. 485, 489 (1875).В разграничение этих понятий см., напр.: Cremona М. Op. cit. Р. 219–223; LaFave W.R., Scott, Jr., A.W. Criminal Law / Hornbook Series; Student Edition. 2
ed. St. Paul (Minn.): West Publishing Co., 1986. P. 406, 412–420; Bassiouni M.C. Op. cit. P. 449–451; Simons K.W. Mistake and Impossibility, Law and Fact, and Culpability: A Speculative Essay // Journal of Criminal Law & Criminology. Baltimore (Md.), 1990. Vol. 81, № 1. P. 462–463; De Gregorio D. Comment, People v. Marrero and Mistake of Law // Brooklyn Law Review. Brooklyn (N.Y.), 1988. Vol. 54, № 1. P. 247–250.] Данное различие в ряде ситуаций действительно имеет юридическое значение, однако для удобства восприятия в дальнейшем (если специально не оговорено иное) термином «юридическая ошибка» (error juris) охватываются оба понятия.
В свою очередь и во-вторых, используемый в таком понимании термин «юридическая ошибка» необходимо считать юридической ошибкой в узком смысле этого слова, т. е. юридической ошибкой относительно собственно уголовного права, его существования и применения.
Иное понятие, которое также может быть (но лишь условно!) поименовано юридической ошибкой, связано с ошибкой в истолковании и применении не-уголовного права (например, ошибка относительно права собственности в посягательствах на собственность, относительно юридической действительности супружеских отношений в бигамии и т. д.). В литературе данная разновидность ошибки именуется по-разному: «ошибка относительно гражданского права»,[314 - Gross Н. Mistake // Encyclopedia of Crime and Justice / Sanford H. Kadish, editor in chief. Vol. 1–4. Vol. 3. N.Y.: The Free Press A Division of Macmillan, Inc., 1983. P. 1068.] «легальная ошибка относительно элемента правонарушения»,[315 - Simons K.W. Mistake and Impossibility… P. 457.] ошибка относительно «легального факта»,[316 - Kelman M. Interpretive Construction in the Substantive Criminal Law // Stanford Law Review. Stanford, 1981. Vol. 33, № 4. P. 631.] «косвенная» (collateral) юридическая ошибка[317 - Brett P. Mistake of Law as a Criminal Defence // Melbourne University Law Review. Melbourne, 1966. Vol. 5, № 2. P. 186.] и так далее. Соответственно, согласно господствующей точке зрения, она образует составную часть института фактической ошибки (error facti) и должна рассматриваться по её правилам, т. е. как исключающая в ряде ситуаций mens rea совершённого деяния.[318 - Cp., напр.: Long v. State, 44 Del. (5 Terry) 262, 278–283 (1949) (юридическая ошибка относительно не-уголовного права исключает mens rea; основываясь на этом, суд счёл, что ошибка относительно легального статуса развода исключает mens rea, требуемую для образования преступления бигамии, хотя бы эта ошибка и была вызвана неверным советом частного поверенного), откоммент. в: Aikins L.R. Note, Cases, Criminal Law: Mistake of Law Based Upon Advice of Counsel as a Defense: Long v. State, 65 A. 2d 489 (Del. 1949) I I Cornell Law Quarterly. Ithaca (N.Y.), 1950. Vol. 35, № 2. P. 415–420; Recent Cases, Criminal Law— Defenses— Reasonable Mistake of Law May Be a Defense to Bigamy Prosecution // Harvard Law Review. Cambridge (Mass.), 1949. Vol. 62, № 8. P. 1393–1394.] Несколько иной точки зрения придерживается Кеннет У. Симонс, полагающий, что «легальная ошибка относительно элемента правонарушения» в силу своего большего сходства именно с юридической ошибкой в узком смысле этого слова, чем с фактической ошибкой, а также вследствие своей более вероятной избегаемости по сравнению с последней должна рассматриваться как релевантная лишь тогда, когда она является обоснованной: «Такое решение более ограничивает обвиняемых, чем то, что существует применительно к фактической ошибке, которая может извинить за преступление, требующее знания или цели, даже если ошибка необоснованна. Но решение и более широко по сравнению с существующим применительно к легальной ошибке относительно контролирующего права (т. е. относительно той разновидности error juris, что именуется в настоящем исследовании как юридическая ошибка в узком смысле этого слова. – Г.Е.), которая может извинить только в очень ограниченных обстоятельствах».[319 - Simons K.W. Mistake and Impossibility… P. 500.]
Таким образом, ошибку относительно не-уголовного права не вполне корректно считать разновидностью error juris. Стремление проводить данное весьма тонкое различение является продуктом теоретической мысли второй половины XX в. До того случаи такого плана рассматривались преимущественно как подпадающие в общую категорию юридической ошибки, признававшейся в этой ситуации релевантной в силу исключения ею «специального намерения» как особой формы mens rea, включённой в дефиницию преступления, и лишь этим можно, как представляется, оправдать точку зрения Б.С. Никифорова (основывающегося на позиции Кортни С. Кенни), освещающего данную разновидность ошибки под общей рубрикой error juris.[320 - См.: Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 536–538, 720; ср.: Кенни К. Указ. соч. С. 74–75; Turner J.W.C. Attempts to Commit Crimes. P. 283.См. подр. также: Williams G.L. Criminal Law: The General Part. P. 383; Hall J. General Principles… P. 364–372; Simons K.W. Mistake and Impossibility… P. 450–462, 482502 et cet.; Grace B.R. Ignorance of the Law as an Excuse 11 Columbia Law Review. N.Y., 1986. Vol. 86, № 7. P. 1393–1396; Kelman M. Interpretive Construction… P. 630–633; Ryu P.K., Silving H. Error Juris: A Comparative Study // The University of Chicago Law Review. Chicago, 1957. Vol. 24, № 3. P. 435–438; Winfield P.H. Mistake of Law // The Law Quarterly Review. L, 1943. Vol. 59, № 236. P. 327 et seq.]
Обращаясь непосредственно к теоретическим основам учения общего права об error juris в их исторической перспективе, следует отметить, что происхождение максимы ignorantia juris и производного от неё понятия юридической ошибки связывается, как правило, с римским правом. При этом преимущественно утверждается, что нерелевантность error juris для целей уголовного права обосновывалась в Древнем Риме презумпцией всеобщего знания законов, которые, по мнению самих римлян, являлись определёнными и познаваемыми.[321 - См., напр.: Davies S.L. The Jurisprudence of Willfulness: An Evolving Theory of Excusable Ignorance // Duke Law Journal. Durham (N.C.), 1998. Vol. 48, № 3. P. 350–351; Ryu P.K., Silving H. Op. cit. P. 425–431.В российской доктрине происхождение господствующего в отечественном уголовном праве учения о юридической ошибке также связывается либо (исходя из формально-юридических позиций) с римским правом и указанной презумпцией (см., напр.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. 2- изд. перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 1999. С. 251–252; Фаткуллина М.В. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве: проблемы квалификации: Автореф. дисс… канд. юрид. наук / Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург, 2001. С. 12–13), либо же (исходя из содержательно-теоретического обоснования) с тем, что «российское уголовное право последовательно придерживается принципа ignorantia legis neminem excusat», поскольку «закон не включает осознание противоправности совершаемого деяния в содержание умышленной формы вины» (см.: Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: ООО «Профобразование», 2001. С. 29).] Наиболее часто цитируемым отрывком здесь является фрагмент из Дигест (D.22.6.9pr.), сводящийся к следующему: «Regula est juris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere» – «Существует правило, что хотя каждому вредит незнание права, но не вредит незнание факта».
И всё же, считают некоторые исследователи, делать на основе процитированного положения вывод о том, что римское право считало error juris нерелевантной для целей уголовного права, было бы, по меньшей мере, слишком поспешным умозаключением. Так, в начале XX в. Карл Биндинг попытался доказать, что, во-первых, римляне не знали аналогичного современному праву деления ошибок на error juris и error facti и что, во-вторых, «римское уголовное право всегда рассматривало знание о незаконности, т. е. по сути определённое пренебрежение или неуважение к праву, как существенную составляющую dolus mains (намерения) или culpa lata (грубой небрежности)».[322 - Ryu Р.К., Silving Н. Op. cit. Р. 425.] Как считал Карл Биндинг, понятие error juris, вытекающее из приведённого фрагмента, означает в его правильном истолковании не error juris в собственном смысле этого слова (т. е. юридическую ошибку в современном значении), a error juris sui – заблуждение лица относительно некоего правового акта, на основе которого у него возникает то или иное субъективное право.
Неправильность истолкования отрывка из Дигест, отмечается в литературе, связана ещё и с ошибочным пониманием его как относящегося в равной мере и к уголовному, и к частному праву. В реальности же он был связан исключительно с частноправовой концепцией и не имеет никакой связи с областью уголовного права.[323 - См.: Brett Р. Op. cit. Р. 185; Ryu Р.К., Silving Н. Op. cit. Р. 425–427.]
Нельзя не осветить и противоположной позиции, которой, в частности, придерживался Г. С. Фельдштейн.[324 - См.: Фельдштейн Г.С. Указ. соч. С. 543–550.] Так, им указывалось следующее: «… Только в исключительных случаях относительно субъективного состава преступлений может быть принято то предположение, что точка зрения римского уголовного права требует наличности в dolus’е сознания противозаконности предпринимаемого действия не факультативно, но de jure».[325 - Там же. С. 550.] Применительно к таким исключениям из максимы ignorantia juris Г. С. Фельдштейн отмечал, что «сознание противозаконности подразумевается само собой, в качестве элемента умысла, в тех случаях, в которых идёт речь о нарушении закона лицами, поставленными на страже закона, – лицами, допущение относительно которых предположения, что они не сознавали противозаконности своих действий, представляется абсурдным».[326 - Там же.] Суммируя его позицию, «взгляд, по которому постановления римского уголовного права применяются в каждом отдельном случае независимо от того, было ли известно это постановление лицу, его нарушившему, представляется одним из самых бесспорных».[327 - Там же.]
Тем не менее, каким бы ни было правильное истолкование положений римского права касательно error juris, очевидно, что английская доктрина XVII–XVIII вв. воспринимала его как считавшее юридическую ошибку нерелевантной для целей уголовного права и основывала соответствующие нормы общего права именно на этом постулате.
Заслуживает внимание замечание Б.С. Никифорова, возводящего ещё более отдалённо истоки учения о юридической ошибке в английском уголовном праве «к… древним постановлениям Моисеева закона».[328 - Никифоров Б.С. Указ. дисс. С. 719 сн. 3.Ср. библейский текст: «Eadem lex erit indigenae et colono, qui peregrinatur apud vos…», Liber Exodus, XII, 49 («Того же закона да не будет лишён и переселенец, который чужой для вас…», Исход, глава XII, стих 49); «/Equum iudicium sit inter vos, sive peregrinus sive civis peccaverit; quia ego sum Dominus Deus vester…», Liber Leviticus, XXIV, 22 («Равное решение будет между вами, будь то чужеземец или будь то соотечественник согрешит, ибо Я есть Господь Бог ваш…», Левит, глава XXIV, стих 22).] Однако такая связь едва ли может быть удовлетворительно доказана; как следствие, данная точка зрения не является общепринятой и крайне редко встречается в первоисточниках. Схожая позиция высказывается отдельными авторами, когда они усматривают в положениях общего права связь с канонической доктриной error juris,[329 - См., напр.: Ryu Р.К., Silving Н. Op. cit. Р. 427–430.] хотя и этот взгляд представляется сомнительным. Как правило, английские комментаторы прямо указывают на то, что «норма (о error juris. – Г.Е.) заимствована из гражданского права (civil law) (D. lib. 22, tit. 6) (т. e. здесь под “гражданским правом” подразумевается римское право. – Г.Е.) без восприятия с ней, тем не менее, тех справедливых модификаций, которыми изначально сопровождалась норма…»[330 - Blackstone W. Commentaries on the Laws of England: In Four Books / With Notes Selected from the Editions of Archbold, Christian, Coleridge, Chitty, Stewart, Kerr and Others, Barron Field’s Analysis, and Additional Notes, and a Life of the Author, by George Sharswood. In Two Volumes. Volume II: Books III & IV. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1859. P. 348–349 n. 7 by Chitty (далее цит. как: Sharswood’s Blackstone… Volume II.).]
Насколько то удалось установить, первое упоминание об error juris и её нерелевантности встречается в труде, появившемся в 1518 г. и озаглавленном как «Диалоги между доктором богословия и студентом, изучающим право Англии» («Dialogues Between a Doctor of Divinity and a Student in the Laws of England»). Согласно данному источнику, «незнание закона (хотя бы оно было неизбежно) не извиняет относительно закона, кроме как в немногих случаях, ибо каждый человек обязан на свой риск познать, каков закон королевства…»[331 - Цит. no: Davies S.L. Op. cit. P. 352 n. 48.]
В дальнейшем максима ignorantia juris формулируется уже Эдуардом Коуком. Вместе с тем, в первой части «Институтов» содержится лишь её простое постулирование, причём помещена она в предисловии в объяснение того, почему трактат написан на английском языке:
«Я не могу предполагать, что общее изложение этих законов на английском языке может создать какое-нибудь неудобство, но приведёт лишь к большей пользе, принимая во внимание, что Ignorantia juris non excusat, незнание закона не извиняет»[332 - Соке Е. The First Part of the Institutes of the Laws of England; Or, A Commentary Upon Littleton. Not the Name of the Author Only, but of the Law Itself. 19
ed., corr., by Charles Butler. Volume I. L.: Printed for J. & W.T. Clarke, 1832. P. xxxviii-xxxix.].
Таким образом, представляется возможным сказать, что ввиду отсутствия у первого из упомянутых источников авторитетного правового значения, а у второго – ясно выраженного теоретического обоснования, им обоим лишь номинально можно приписать заслугу первого доктринального установления максимы ignorantia juris.
Своё теоретическое развитие последняя, будучи уже безоговорочно воспринята на практике,[333 - См., напр.: «Что максима права Ignorantia juris non excusat означает для публики, так это то, что незнание не может пледироваться в извинение преступлений (т. е. в данном контексте выдвигаться в суде в оправдание какого-либо деяния. – Г.Е.), хотя в гражданских делах решение иное», Lansdown v. Lansdown, Mos. 364, 365 (Ch. 1730) (per Lord King, L.C.); Rex v. Bailey, Russ. & Ry. 1, 168 Eng. Rep. 651 (Cr. Cas. Res. 1800) (per Lord Eldon, J.) (незнание статута и объективная невозможность его узнать не исключают ответственности за его нарушение).] получает в дальнейшем в «Истории» Мэттью Хэйла. Им указывается следующее:
«Незнание местного права королевства (the municipal law of the kingdom) или наказания, налагаемого им на правонарушителей, не освобождает кого-либо, достигшего возраста, с которого он может быть ответственен за свои поступки (age of discretion), и являющегося compos mentis, от наказания за нарушение его, поскольку каждое лицо, достигшее возраста, с которого оно может быть ответственно за свои поступки, и являющееся compos mentis, обязано знать право и презюмируется знающим его …».[334 - Hale М. Op. cit. Р. 42.]
С незначительными изменениями эти положения воспроизводятся Уильямом Блэкстоуном, на «Комментарии» которого и следует опереться в исходном анализе.
Учение об error juris излагается в главе II четвёртого тома «Комментариев», посвящённой лицам, способным к совершению преступлений, под рубрикой, связанной с рассмотрением оснований освобождения от уголовной ответственности вследствие «отсутствия или дефекта воли».[335 - Blackstone W. Commentaries… Volume IV. Р. 20.] Формулируется теория юридической ошибки следующим образом:
«… Незнание или ошибка есть другой дефект воли, когда человек, намереваясь совершить правомерное деяние, совершает то, что оказывается неправомерным. Поскольку здесь деяние и воля действуют раздельно, нет такого совпадения между ними, которое необходимо для образования преступного деяния. Но незнание или ошибка должна быть фактической, а не ошибкой в положении права. Так, если человек, намереваясь убить вора или взломщика, проникшего в принадлежащий ему дом… по ошибке убивает кого-нибудь из своей собственной семьи, это не является уголовно наказуемым; но если человек полагает, что он имеет право убить отлучённого от церкви или объявленного вне закона, где бы он ни встретил его, и действительно так поступает, это является преднамеренным тяжким убийством. Ибо ошибка в положении права, которое каждое лицо, могущее быть ответственным за свои поступки, не только может, но обязано знать и презюмируется знающим, в уголовных делах не является видом основания защиты (курсив мой. – Г.Е.). Ignorant ia juris, quod quisque tenetur scire, neminem excusat, является настолько же максимой нашего собственного права, насколько она была таковой в римском».[336 - Ibid. Р. 27.]
Обратимся к первоисточникам, на которых основываются тезисы Уильяма Блэкстоуна.
Что до римского права, то им цитируется приведённый выше и уже проанализированный с точки зрения его исторической ценности для учения об error juris фрагмент из Дигест.[337 - См.: Ibid. Р. 27 п. а. Отметим, что Мэттью Хэйл в своей работе ссылки на Дигесты не делает.]
Более интересен источник, в котором, как полагает Уильям Блэкстоун, сформулирована максима ignorantia juris по английскому праву.[338 - См.: ibid. Р. 25 n. z. В свою очередь, эта ссылка встречается и у Мэттью Хэйла.] Им является решение XVI в. по гражданско-правовому спору, возникшему на основе иска о возвращении владения (action for the replevin) над имуществом, изъятым у владельца в обеспечение исполнения обязательства.[339 - См.: Brett V. Rigden, 1 Plowden 340, 75 Eng. Rep. 516 (Q.B. 1568).Из более ранних интересных прецедентов, не упоминаемых в блэкстоуновских комментариях, нельзя не отметить дело, разрешённое в 1338 г. на Осенней судебной сессии в двенадцатый год правления короля Эдуарда III (Y. В. Mich. 12 Edw. Ill, Rolls Series *67, pi. 29, A. D. 1338), в котором сказано, что обвиняемые в нарушении права (trespass) и нанесении побоев (battery) могли бы выдвинуть в своё оправдание ссылку на предполагавшееся ими наличие у другого права захватить силой скот истца; не выдвинув же этого довода, они были правомерно осуждены (цит. по: Year Books of the Reign of King Edward the Third. Years XII and XIII. P. 66–67).Также примечательно дело Вернона, разрешённое на Осенней судебной сессии в двадцатый год правления короля Генриха VII, т. е. в 1505 г. (Vernon’s Case, Y. В. Mich. 20 Hen. VII, fol. 2, pi. 4, A. D. 1505). Согласно его фактам, обвиняемые увезли жену истца, сопровождая её в Вестминстер, где она намеревалась добиться развода, и привели этот довод в своё оправдание. Истец попытался опровергнуть его, указав, что дела о разводе слушаются не в Вестминстерских королевских судах, а в церковных судах; однако суд поддержал доводы обвиняемых, отметив, что «они, возможно, не знали закон (курсив мой. – Г.Е.) в той его части, которая касается того, где следует предъявлять иск о разводе» (цит. по: Sharswood’s Blackstone… Volume II. Р. 348349 n. 7 by Chitty).Конечно же, если придирчиво рассматривать оба данных дела со строго современных позиций, то они, как можно судить из их фактов, связаны с ошибкой относительно не-уголовного права.] Из всех обстоятельств, связанных с данным делом, заслуживает внимания лишь одно положение, выдвинутое в суде, в силу которого «должно презюмироваться, что всякий подданный нашего королевства осведомлён о праве, посредством которого он управляется».[340 - Brett V. Rigden, 1 Plowden 340, 342, 75 Eng. Rep. 516, 520 (Q.B. 1568).] Примечательно, но такой довод не получил поддержки суда, поскольку решение было вынесено против стороны, которую представлял адвокат, сформулировавший его, что, однако, не помешало Уильяму Блэкстоуну использовать этот прецедент в поддержку максимы ignorantia juris.
Опираясь на работы Мэттью Хэйла и Уильяма Блэкстоуна, можно сделать, на первый взгляд, вывод, что теоретическим обоснованием максимы ignorantia juris для доктрины рассматриваемого времени служит презумпция всеобщего знания уголовного законодательства. Но, как представляется, данная презумпция являет собой лишь внешнее, формально-юридическое обоснование нерелевантности error juris, в то время как истинное, сущностное залегает более глубоко.
В доказательство этого тезиса обратимся к социальной характеристике деяний, признающихся преступлениями и, в частности, являвшихся таковыми в английском праве XVII–XVIII вв.
Исходные посылки здесь следующие. Любое преступление причиняет вред личности, обществу или государству, т. е., в конечном счёте, социуму в целом. Говоря в общем, деяние, признающееся преступлением, a priori презюмируется наносящим вред, что и оправдывает единственно применение уголовно-правовых санкций, причём опровержение такой презумпции означает потерю уголовным законодательством своего базиса, своей моральной обоснованности и социальной приемлемости. По своим внешним характеристикам этот вред разнится, заключаясь либо во вреде здоровью человека, либо в ущербе его имуществу, либо в оскорблении общественной нравственности и так далее. Разноплановость причиняемого преступлениями вреда предопределяет существование другой, не менее важной его характеристики, являющейся отчасти субъективной и заключающейся в очевидности вреда, его явности, могущей разниться от случая к случаю. Сосуществование обеих характеристик даёт основание для выделения в англо-американском уголовном праве двух категорий преступлений – mala in se и mala prohibita. He вдаваясь в теоретически дискуссионные вопросы об их различении (особенно спорные в настоящее время), суммировать применительно к рассматриваемой эпохе отличительные черты преступлений mala in se, имеющих значение в настоящий момент, можно так, что в эту категорию попадут преступления, сводящиеся к причинению такого вреда, который очевидно опасен, недопустим и неприемлем в обществе. Как следствие, совершающий преступление mala in se очевидно и неизбежно осознаёт либо в момент причинения вреда (если последнее намеренно), либо сразу же после того (если он действовал небрежно) социальную неприемлемость своего поведения. Последняя же, в свою очередь, обосновывает отрицательную оценку его личности и, что более важно, предопределяет моральную упречность настроя его ума.