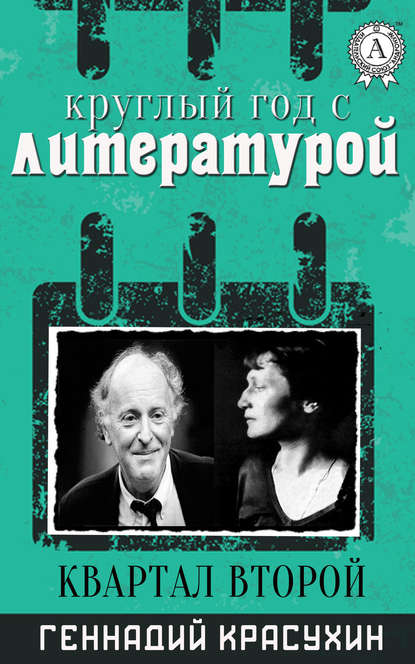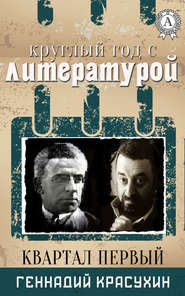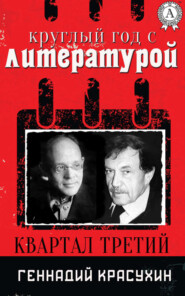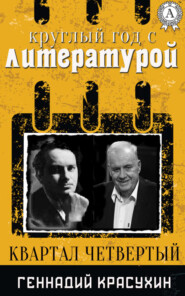По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Круглый год с литературой. Квартал второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Круглый год с литературой. Квартал второй
Геннадий Красухин
Круглый год с литературой #2
Больше сорока лет автор работал в литературной печати. Из них 27 лет с 1967 по 1995 в «Литературной газете», которую вместе с другими своими коллегами начинал как шестнадцатиполосное издание, какое в то время обрело бешеную популярность. 12 лет – с 1992 по 2006 автор возглавлял газету для учителей «Литература» Издательского дома «Первое сентября». Доводилось работать автору и редактором сценарной коллегии Государственного Комитета по кинематографии СССР, входить в редакционную коллегию журнала «Вопросы литературы. Как уже писал автор, в аннотации к первой книге (кварталу) своего календаря, цель, которую он преследует: дать читателю почувствовать художника, о котором идёт речь в календарной заметке. Судьбы писателей разные, но, увы, большей частью их всё-таки не назовёшь счастливыми. Немало писателей осталось в литературе, но немало и будто канувших в небытиё. Впрочем, история литературы знает и случаи, так сказать, воскрешения писателя из небытия. Иногда с одной его книгой, или с одним его рассказом, или с одним стихотворением. И об этом вы прочтёте в книге – в этом литературном календаре.
Геннадий Красухин
КРУГЛЫЙ ГОД С ЛИТЕРАТУРОЙ
КВАРТАЛ ВТОРОЙ
Календарь, частично основанный на мемуарах
1 АПРЕЛЯ
Конечно, символично, что наш великий сатирик Николай Васильевич Гоголь родился в День смеха или, как ещё называют этот праздник, в День дурака, – то есть 1 апреля 1809 года.
Предлагаю небольшой этюд, связанный с его комедией «Ревизор».
Скажите, пожалуйста, какой смысл Хлестакову клеветать на чиновников в своём письме приятелю Тряпичкину? «Ты, я знаю, пишешь статейки, – обращается к Тряпичкину Хлестаков: – помести их в свою литературу».
А он и не клевещет. Он просто описывает каждого, как тот ему, Хлестакову, раскрывается. И передаёт его в этом виде Тряпичкину, надеясь, что тот каждого «общёлкает хорошенько».
Итак!..
«Городничий – глуп, как сивый мерин». Ещё бы не глуп, если оказалось, что его так легко провести на мякине!
«Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьёт горькую». А уж департаментского сторожа Михеева Тряпичкин знает не хуже Хлестакова.
«Надзиратель за богоугодным заведением Земляника – совершенная свинья в ермолке». Гоголь, расписавший в «замечаниях для господ актёров» всех своих героев, вплоть до габаритов, знает, что Земляника предстанет перед Хлестаковым как «очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек», которого Хлестакову легко вообразить свиньёй. Он и воображает. И надевает на свинью-Землянику ермолку. «И неостроумно! – обиженно говорит Земляника… – где ж свинья бывает в ермолке?» Нигде, конечно, не бывает. Кроме, как у Хлестакова, который не просто вообразил Землянику свиньёй, но надел на свиную голову – то ли кипу, в какой правоверные иудеи сидят в синагоге и не снимают во время еды, то ли головной убор знатного человека в Руси, то ли традиционную академическую шапочку. И в таком виде отправил Тряпичкину, которому, конечно, легко будет опознать в Землянике чванливую свинью.
А судья, которому льстят чиновники: «У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел». Подтвердит ли такое мнение о нём Хлестаков, если судья только что не мычит от неумения начать и поддержать разговор с ним? Какой уж там Цицерон при подобной поразительной невоспитанности! «В высшей степени моветон» – ещё один типажик, готовый для тряпичкинской литературы.
Но что прикажете делать Тряпичкину с Лукой Лукичём, о котором он прочтёт в письме: «Смотритель училищ протухнул насквозь луком». Как ни крути, но с такой характеристикой его «в свою литературу», то есть в какой-либо фельетон не вставишь. На что ему этот провонявший луком типаж? Зачем вообще Хлестакову было сообщать о нём приятелю?
Ну, для того, наверное, чтобы подтвердить самого Гоголя, известившего о Хлестакове: «несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове…». И там же – в тех же «замечаниях для господ актёров»: «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». То есть, характеризуя Луку Лукича, Хлестаков, кажется, забыл, что пишет для Тряпичкина.
Услышав, что написал о нём Хлестаков, Лука Лукич божится зрителям: «Ей-Богу, и в рот никогда не брал луку». Но мы ему в этом не поверим. Трудно представить, для чего Хлестакову понадобилась такая экзотическая выдумка.
Ну, а Луке Лукичу с какой стати было нажираться луку, если он собрался появиться перед таким начальником, выше кого он никогда ещё не видел на свете?
Тем более что Лука Лукич очень выделяется среди чиновников, которых позвал Городничий в надежде, что сообща они придумают, как справиться с поступившим ему «пренеприятным известием». Выделяется тем, что, в отличие от других, не способен высказать своё мнение: слишком труслив Лука Лукич для этого.
Ведь не так уж и боятся поначалу таинственного ревизора подчинённые Городничего. «Как ревизор?» – откликнутся уведомляющему их Городничему судья и попечитель богоугодных заведений. «Вот те на!» – разовьёт своё удивление от известия Городничего судья Ляпкин-Тяпкин. «Вот не было заботы, так подай!» – вторит ему Земляника. И только Лука Лукич затрепещет от страха: «Господи боже мой! ещё и с секретным предписаньем!»
А аргументы, которые находит каждый из них в пользу того, что не он первый должен представиться петербургскому вельможе, каким они считают Хлестакова? Такого аргумента, который находит для себя Лука Лукич, не находит больше никто. Потому что он, кажется, единственный персонаж, который не увиливает, но говорит чистую правду: «Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет и язык как в грязь увял».
Всего одним чином повыше!
Чистая, как я уже сказал, правда!
Именно, что страх Луки Лукича особенно понятен при рассмотрении чина, который он носит (а в «Ревизоре», представляясь Хлестакову, каждый чиновник называет, в каком он чине.) Лука Лукич в самом меньшем. Он – титулярный советник: чиновник IX класса – «ваше благородие» по формуле тогдашнего титулования. Судья коллежский асессор – чиновник VIII класса, почтмейстер и попечитель богоугодных заведений – надворные советники, чиновники VII класса; все трое – «ваше высокоблагородие».
Наверняка, надворным является и городничий. Недаром частный пристав в последнем действии и его называет «вашим высокоблагородием». Да и ироническое отношение почтмейстера к угрозе Городничего: «Я вас под арест…» весьма показательно «Кто? Вы?» – презрительно переспрашивает почтмейстер. «Да, я!» – храбрится Городничий. «Руки коротки!» – бросает почтмейстер, и Городничему на это ответить нечем.
Конечно, городничий мечтал бы стать «вашим высокородием», то есть статским советником – тоже всего одним чином повыше – последним, кстати, чином перед вожделенным им – генеральским. Но сделаться статским, возглавляя небольшой уездный город, – вещь, почти невозможная. Другое дело, если б городничий стоял во главе губернского. Но на это в пьесе нет даже намёка.
Может быть, пропасть между Лукой Лукичом (IX класс) и следующим чиновником (VIII класс) так же широка, как пропасть между чином городничего (VI класс) и статским (V класс; ваше высокородие), но проскочить её титулярному было куда более жизненно важно, чем городничему стать «высокородием». У Луки Лукича дело шло не только, и – главным образом – не столько об амбициях.
Лука Лукич достиг титулярного. Этот чин равен армейскому капитану. Но он не давал права на потомственное дворянство.
Если Лука Лукич из разночинцев, то, достигнув титулярного, он получил личное, непотомственное дворянство. Это значит, что личной дворянкой становилась его жена, но дети только почётными гражданами. Они освобождались от подушной подати, рекрутской обязанности и телесных наказаний. Но дворянами не становились и своим детям в наследство дворянство не передавали. То есть внуки личного дворянина дворянства не наследовали.
Потомственное дворянство начиналось с VIII класса, «всего одним чином повыше», чем на Луке Лукиче.
Ну, а если Лука Лукич – дворянин? И в этом случае достичь чина VIII класса – коллежского асессора ему будет очень нелегко. Дворянину для этого требовался университетский или лицейский диплом, или сдача соответствующего экзамена. Ведь с VIII класса чиновничество приравнивалось к штаб-офицерству, куда попасть было сложно.
Поэтому чтобы проскочить в коллежские асессоры, Лука Лукич готов заискивать перед всяким – «всего одним чином повыше»!
Но позвольте. Вспомните, как встречает Хлестаков своих визитёров. Почти зевая от судейского «моветонства». Вспоминая департаментского сторожа Михеича, скорее всего, встретясь с охотным почтмейстерским поддакиванием: «Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне…» – «Совершенно справедливо». Радуясь, кажется, словоохотливому Землянике, но, услышав в его сплетнях и кляузах самодовольное чванство. Конечно, свою дань «взаймы» он у каждого отбирает.
Так как же он их встречает? Предлагает вина, воды, фруктов?
Ну, не фрукты с вином, но всё же:
«– А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? (Подаёт ему сигару.)»
Кому Хлестаковым предложена сигара? Судье? Попечителю богоугодных заведений? Почтмейстеру?
Нет, она предложена Луке Лукичу.
Но почему?
Потому что Хлестакову важно, чтобы закурил именно Лука Лукич?
Для чего?
Чтобы перебить запах, который Хлестаков учуял, едва смотритель училищ появился в его комнате. О чём и уведомил своего петербургского приятеля Тряпичкина.
Зачем же Лука Лукич нажрался луку перед встречей с Хлестаковым?
А помните судебного заседателя, о котором шла речь в начале комедии? «…Он, конечно, человек сведущий, – резюмирует городничий, – но от него такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного завода…» «Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, – защищает заседателя судья, – и с тех пор от него отдаёт немного водкою». Слышит ли их разговор Лука Лукич? Несомненно. «Секретное предписание», с которым должен появиться в городе чиновник, так напугало смотрителя училищ, что он, скорее, побоится пропустить что-нибудь для него важное из говорящего, будет улавливать и запоминать любую деталь, любую реплику. В том числе и реплику городничего: «Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое».
Лук, который перед визитом к чиновнику из Петербурга ел Лука Лукич, свидетельствует о настоящей буре, какая свирепствовала в его душе. Скорее всего, он решил выпить для храбрости. Выпил, возможно, немного, но немедленно испугался, что этим навредил себе ещё больше: Хлестаков может учуять винный запах.
Потому и схватился за лук, чтобы не дай Бог не показаться вельможной особе пьяницей!
Лука Лукич, кстати, обнаруживает, как мы должны отнестись к немой сцене комедии. В ответ на известие, сообщённое жандармом, писал «господам актёрам» Гоголь «вся группа должна переменить положение в один миг ока», а в ремарке пьесы добавил, что «вся группа, вдруг переменивши положение, остаётся в окаменении». То есть становится коллективным памятником себе, где каждый запечатлён таким, каким он оказался в последний момент, внезапно выявляя свою сущность. Как, например, Лука Лукич, раскрывший в своей статуарности невероятную трусость – «потерявшийся самым невинным образом».
Геннадий Красухин
Круглый год с литературой #2
Больше сорока лет автор работал в литературной печати. Из них 27 лет с 1967 по 1995 в «Литературной газете», которую вместе с другими своими коллегами начинал как шестнадцатиполосное издание, какое в то время обрело бешеную популярность. 12 лет – с 1992 по 2006 автор возглавлял газету для учителей «Литература» Издательского дома «Первое сентября». Доводилось работать автору и редактором сценарной коллегии Государственного Комитета по кинематографии СССР, входить в редакционную коллегию журнала «Вопросы литературы. Как уже писал автор, в аннотации к первой книге (кварталу) своего календаря, цель, которую он преследует: дать читателю почувствовать художника, о котором идёт речь в календарной заметке. Судьбы писателей разные, но, увы, большей частью их всё-таки не назовёшь счастливыми. Немало писателей осталось в литературе, но немало и будто канувших в небытиё. Впрочем, история литературы знает и случаи, так сказать, воскрешения писателя из небытия. Иногда с одной его книгой, или с одним его рассказом, или с одним стихотворением. И об этом вы прочтёте в книге – в этом литературном календаре.
Геннадий Красухин
КРУГЛЫЙ ГОД С ЛИТЕРАТУРОЙ
КВАРТАЛ ВТОРОЙ
Календарь, частично основанный на мемуарах
1 АПРЕЛЯ
Конечно, символично, что наш великий сатирик Николай Васильевич Гоголь родился в День смеха или, как ещё называют этот праздник, в День дурака, – то есть 1 апреля 1809 года.
Предлагаю небольшой этюд, связанный с его комедией «Ревизор».
Скажите, пожалуйста, какой смысл Хлестакову клеветать на чиновников в своём письме приятелю Тряпичкину? «Ты, я знаю, пишешь статейки, – обращается к Тряпичкину Хлестаков: – помести их в свою литературу».
А он и не клевещет. Он просто описывает каждого, как тот ему, Хлестакову, раскрывается. И передаёт его в этом виде Тряпичкину, надеясь, что тот каждого «общёлкает хорошенько».
Итак!..
«Городничий – глуп, как сивый мерин». Ещё бы не глуп, если оказалось, что его так легко провести на мякине!
«Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьёт горькую». А уж департаментского сторожа Михеева Тряпичкин знает не хуже Хлестакова.
«Надзиратель за богоугодным заведением Земляника – совершенная свинья в ермолке». Гоголь, расписавший в «замечаниях для господ актёров» всех своих героев, вплоть до габаритов, знает, что Земляника предстанет перед Хлестаковым как «очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек», которого Хлестакову легко вообразить свиньёй. Он и воображает. И надевает на свинью-Землянику ермолку. «И неостроумно! – обиженно говорит Земляника… – где ж свинья бывает в ермолке?» Нигде, конечно, не бывает. Кроме, как у Хлестакова, который не просто вообразил Землянику свиньёй, но надел на свиную голову – то ли кипу, в какой правоверные иудеи сидят в синагоге и не снимают во время еды, то ли головной убор знатного человека в Руси, то ли традиционную академическую шапочку. И в таком виде отправил Тряпичкину, которому, конечно, легко будет опознать в Землянике чванливую свинью.
А судья, которому льстят чиновники: «У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел». Подтвердит ли такое мнение о нём Хлестаков, если судья только что не мычит от неумения начать и поддержать разговор с ним? Какой уж там Цицерон при подобной поразительной невоспитанности! «В высшей степени моветон» – ещё один типажик, готовый для тряпичкинской литературы.
Но что прикажете делать Тряпичкину с Лукой Лукичём, о котором он прочтёт в письме: «Смотритель училищ протухнул насквозь луком». Как ни крути, но с такой характеристикой его «в свою литературу», то есть в какой-либо фельетон не вставишь. На что ему этот провонявший луком типаж? Зачем вообще Хлестакову было сообщать о нём приятелю?
Ну, для того, наверное, чтобы подтвердить самого Гоголя, известившего о Хлестакове: «несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове…». И там же – в тех же «замечаниях для господ актёров»: «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». То есть, характеризуя Луку Лукича, Хлестаков, кажется, забыл, что пишет для Тряпичкина.
Услышав, что написал о нём Хлестаков, Лука Лукич божится зрителям: «Ей-Богу, и в рот никогда не брал луку». Но мы ему в этом не поверим. Трудно представить, для чего Хлестакову понадобилась такая экзотическая выдумка.
Ну, а Луке Лукичу с какой стати было нажираться луку, если он собрался появиться перед таким начальником, выше кого он никогда ещё не видел на свете?
Тем более что Лука Лукич очень выделяется среди чиновников, которых позвал Городничий в надежде, что сообща они придумают, как справиться с поступившим ему «пренеприятным известием». Выделяется тем, что, в отличие от других, не способен высказать своё мнение: слишком труслив Лука Лукич для этого.
Ведь не так уж и боятся поначалу таинственного ревизора подчинённые Городничего. «Как ревизор?» – откликнутся уведомляющему их Городничему судья и попечитель богоугодных заведений. «Вот те на!» – разовьёт своё удивление от известия Городничего судья Ляпкин-Тяпкин. «Вот не было заботы, так подай!» – вторит ему Земляника. И только Лука Лукич затрепещет от страха: «Господи боже мой! ещё и с секретным предписаньем!»
А аргументы, которые находит каждый из них в пользу того, что не он первый должен представиться петербургскому вельможе, каким они считают Хлестакова? Такого аргумента, который находит для себя Лука Лукич, не находит больше никто. Потому что он, кажется, единственный персонаж, который не увиливает, но говорит чистую правду: «Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет и язык как в грязь увял».
Всего одним чином повыше!
Чистая, как я уже сказал, правда!
Именно, что страх Луки Лукича особенно понятен при рассмотрении чина, который он носит (а в «Ревизоре», представляясь Хлестакову, каждый чиновник называет, в каком он чине.) Лука Лукич в самом меньшем. Он – титулярный советник: чиновник IX класса – «ваше благородие» по формуле тогдашнего титулования. Судья коллежский асессор – чиновник VIII класса, почтмейстер и попечитель богоугодных заведений – надворные советники, чиновники VII класса; все трое – «ваше высокоблагородие».
Наверняка, надворным является и городничий. Недаром частный пристав в последнем действии и его называет «вашим высокоблагородием». Да и ироническое отношение почтмейстера к угрозе Городничего: «Я вас под арест…» весьма показательно «Кто? Вы?» – презрительно переспрашивает почтмейстер. «Да, я!» – храбрится Городничий. «Руки коротки!» – бросает почтмейстер, и Городничему на это ответить нечем.
Конечно, городничий мечтал бы стать «вашим высокородием», то есть статским советником – тоже всего одним чином повыше – последним, кстати, чином перед вожделенным им – генеральским. Но сделаться статским, возглавляя небольшой уездный город, – вещь, почти невозможная. Другое дело, если б городничий стоял во главе губернского. Но на это в пьесе нет даже намёка.
Может быть, пропасть между Лукой Лукичом (IX класс) и следующим чиновником (VIII класс) так же широка, как пропасть между чином городничего (VI класс) и статским (V класс; ваше высокородие), но проскочить её титулярному было куда более жизненно важно, чем городничему стать «высокородием». У Луки Лукича дело шло не только, и – главным образом – не столько об амбициях.
Лука Лукич достиг титулярного. Этот чин равен армейскому капитану. Но он не давал права на потомственное дворянство.
Если Лука Лукич из разночинцев, то, достигнув титулярного, он получил личное, непотомственное дворянство. Это значит, что личной дворянкой становилась его жена, но дети только почётными гражданами. Они освобождались от подушной подати, рекрутской обязанности и телесных наказаний. Но дворянами не становились и своим детям в наследство дворянство не передавали. То есть внуки личного дворянина дворянства не наследовали.
Потомственное дворянство начиналось с VIII класса, «всего одним чином повыше», чем на Луке Лукиче.
Ну, а если Лука Лукич – дворянин? И в этом случае достичь чина VIII класса – коллежского асессора ему будет очень нелегко. Дворянину для этого требовался университетский или лицейский диплом, или сдача соответствующего экзамена. Ведь с VIII класса чиновничество приравнивалось к штаб-офицерству, куда попасть было сложно.
Поэтому чтобы проскочить в коллежские асессоры, Лука Лукич готов заискивать перед всяким – «всего одним чином повыше»!
Но позвольте. Вспомните, как встречает Хлестаков своих визитёров. Почти зевая от судейского «моветонства». Вспоминая департаментского сторожа Михеича, скорее всего, встретясь с охотным почтмейстерским поддакиванием: «Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне…» – «Совершенно справедливо». Радуясь, кажется, словоохотливому Землянике, но, услышав в его сплетнях и кляузах самодовольное чванство. Конечно, свою дань «взаймы» он у каждого отбирает.
Так как же он их встречает? Предлагает вина, воды, фруктов?
Ну, не фрукты с вином, но всё же:
«– А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? (Подаёт ему сигару.)»
Кому Хлестаковым предложена сигара? Судье? Попечителю богоугодных заведений? Почтмейстеру?
Нет, она предложена Луке Лукичу.
Но почему?
Потому что Хлестакову важно, чтобы закурил именно Лука Лукич?
Для чего?
Чтобы перебить запах, который Хлестаков учуял, едва смотритель училищ появился в его комнате. О чём и уведомил своего петербургского приятеля Тряпичкина.
Зачем же Лука Лукич нажрался луку перед встречей с Хлестаковым?
А помните судебного заседателя, о котором шла речь в начале комедии? «…Он, конечно, человек сведущий, – резюмирует городничий, – но от него такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного завода…» «Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, – защищает заседателя судья, – и с тех пор от него отдаёт немного водкою». Слышит ли их разговор Лука Лукич? Несомненно. «Секретное предписание», с которым должен появиться в городе чиновник, так напугало смотрителя училищ, что он, скорее, побоится пропустить что-нибудь для него важное из говорящего, будет улавливать и запоминать любую деталь, любую реплику. В том числе и реплику городничего: «Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое».
Лук, который перед визитом к чиновнику из Петербурга ел Лука Лукич, свидетельствует о настоящей буре, какая свирепствовала в его душе. Скорее всего, он решил выпить для храбрости. Выпил, возможно, немного, но немедленно испугался, что этим навредил себе ещё больше: Хлестаков может учуять винный запах.
Потому и схватился за лук, чтобы не дай Бог не показаться вельможной особе пьяницей!
Лука Лукич, кстати, обнаруживает, как мы должны отнестись к немой сцене комедии. В ответ на известие, сообщённое жандармом, писал «господам актёрам» Гоголь «вся группа должна переменить положение в один миг ока», а в ремарке пьесы добавил, что «вся группа, вдруг переменивши положение, остаётся в окаменении». То есть становится коллективным памятником себе, где каждый запечатлён таким, каким он оказался в последний момент, внезапно выявляя свою сущность. Как, например, Лука Лукич, раскрывший в своей статуарности невероятную трусость – «потерявшийся самым невинным образом».