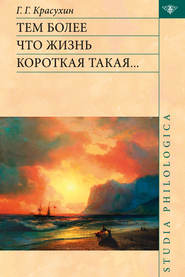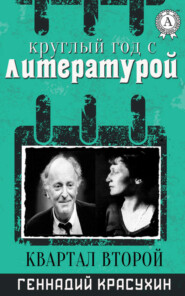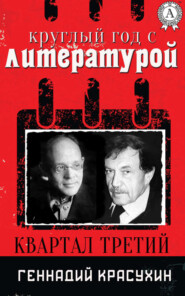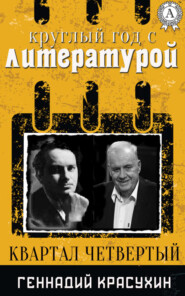По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стежки-дорожки. Литературные нравы недалекого прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И не ошиблись. «Красная звезда» была органом всемогущего ведомства – политуправления армии. Её критика ничего другого, кроме оргвыводов не требовала. И спешно созванная коллегия Министерства просвещения их немедленно сделала. Орлов получил выговор, Померанцева из редколлегии вывели (или добились, чтобы он сам из неё вышел, – не помню). Искали, конечно, стрелочника. Но я в штате не работал. И было понятно, что в обозримом будущем меня туда и не возьмут.
Но Пётр Ильич расплатился со мной щедро. Настоял даже на публикации совершенно не журнальной вещи – моём радиоочерке о поэте Евгении Винокурове. «Вам что, деньги не нужны?» – обосновывал он своё решение печатать радиоочерк. Оплатил он как не пошедшие не по вине авторов и многие набранные материалы. Среди них особенно было жалко, что не успели мы напечатать рассказ Льва Александровича Кривенко «Фурье».
С Лёвой Кривенко меня познакомил Борис Балтер, который очень рекомендовал его печатать. «Это – настоящее», – говорил он о его рассказах. Так же, как и Балтер, Кривенко был автором калужского альманаха «Тарусские страницы» – своеобразного «Метрополя» тех лет, потому что подвергся не меньшему, чем в будущем «Метрополь», официальному остракизму. Сразу же после критики «Тарусских страниц» воронежский «Подъём» выломал из макета номера и вернул Лёве его «Фурье». Не спасло рассказ предисловие учителя Кривенко (и Балтера, и многих других, с которыми я познакомился и подружился именно в доме Кривенко) Константина Георгиевича Паустовского. Лёва был его любимым учеником, а из всех учеников Паустовского был Кривенко человеком, пожалуй, самой несчастной творческой судьбы. Фронтовик, командир взвода автоматчиков, тяжело раненый и демобилизованный в 43-м по инвалидности, с рукой, которую носил как бы наперевес из-за повреждённого локтевого сустава, Лёва описал злоключения своего взвода в повести, которая очень горячо была принята на семинаре Паустовского. Защищённая как диплом в Литинституте, она получила высшую оценку и дала возможность её автору продолжать учёбу в аспирантуре. А вот с её публикацией дело обстояло не так здорово. Московские и ленинградские журналы печатать её не решились: слишком не похоже было толкование фронтовых событий в этой повести на то, к чему стали приучать послевоенного читателя. (Вспомним, что даже получившая сперва сталинскую премию «Молодая гвардия» через короткое время была признана порочной, и её автору было предложено ввести в повествование якобы действующее в подполье партийное руководство молодёжной организацией, что Фадеев и сделал, хотя знал, что райком партии позорно бежал, когда немцы подошли к Краснодону.) Паустовский не унимался и продолжал предлагать Лёвину повесть любому объявляющему о себе областному альманаху. В результате из одного из них повесть отправилась в агитпроп ЦК, где её внимательно прочитали и добились по ней некоего закрытого постановления, пресекающего любые Лёвины попытки напечататься. Не имея ни одной публикации, Кривенко попал в чёрный список тех, кто их никогда иметь не будет.
Ничто не вечно под луною! Хрущёвская оттепель сняла табу с Лёвиного имени, и «Тарусские страницы», как я уже сказал, рассказ Кривенко напечатали. Однако эта публикация повлекла за собой новое табу. Заранее оповещённые в «Магистрали» Окуджавой, мы оставили на улице Кирова (бывшей и нынешней Мясницкой) в магазине областных изданий открытки-заявки на альманах. Его мы получили чудом, потому что почти сразу же из многих идеологических орудий был нанесён по альманаху мощный залп, и 75 тысяч экземпляров, заявленные в выходных данных, на самом деле не поступили в продажу: половина тиража, оставшаяся на складе издательства, была немедленно уничтожена по верховному приказу из Москвы. Калужские издатели слетели со своих постов. И кто знает, как развивались бы события дальше, если б Паустовский (так рассказывают) не добился приёма у Хрущёва, который отменил особо погромные пункты решения по альманаху Бюро ЦК КПСС по РСФСР (существовала одно время такая начальствующая над всеми российскими регионами партийная инстанция).
Я подарил Лёве гранки нашего набора, и он подколол их к набору воронежского «Подъёма». «Тираж – 2 экземпляра», – невесело констатировал он.
Было в нём, однако, какое-то удивительное жизнелюбие, привлекавшее к нему многих. Я любил бывать у него на улице Чаплыгина в доме, где прежде находилось общество бывших политкаторжан и его издательство, выпускавшее документальные свидетельства очевидцев разного рода революционных событий. В этом же доме бывшие политкаторжане и жили. Отсюда их увезли на «воронках» славные наши чекисты после того, как общество было разогнано, а издательство закрыто. Надо ли говорить, что с советской каторги или из советских застенков большинство бывших политкаторжан не вернулось? Среди них – Александр Кривенков, отец Лёвы (почему потерялась в их фамилии «в», Лёва не знал). Семью после ареста отца уплотнили, подселили соседей.
В комнате, которую занимали Лёва с женой Еленой Савельевной (Лелей), вечно было шумно, накурено, но чисто. Чистюля Лёля, работавшая в ведомственном журнале, весь день пропадала там, а в это время у Лёвы собиралась разношёрстная компания. Лёва курил свои папиросы и сигареты гостей, часто очень артистично читал собственные рассказы («сырой ещё, – предупреждал он, надевая очки, – ночью закончил»), иногда играл в шахматы – особенно азартно с Юрием Трифоновым (оба считали себя сильными шахматистами, впрочем, оба неизменно проигрывали Балтеру!) и, наконец, угощал друзей великим множеством баек, особенно фронтовых. Вечером возвращалась Лёля, компания уходила. Иногда – вместе с хозяином, чтобы расположиться во дворе на скамейках вокруг стола, слегка выпивать и слушать Лёвины очень живописные байки.
Уже после Хрущёва в той же Калуге стараниями Лёвиных друзей была издана первая небольшая книжка его рассказов «Голубая лодка». Через какое-то время Лёву приняли в Союз писателей. Но печатали всё так же неохотно. Толстую же свою книгу, которая вышла в «Советском писателе» и даёт более-менее неискажённое представление о его творчестве, он так и не увидел. Лёва умер рано, в конце семидесятых, от рака. Книгу потом уже собрала и издала Лёля: к мёртвому писателю советская власть всегда относилась лучше, чем к живому. Может, потому ещё, что в этом случае редактор получал значительно больше воли: что-то вычёркивал, что-то заменял, а родственники умершего, как правило, вели себя куда более покладисто, чем живой автор.
Так же, кстати, обстояло дело и с другим моим старшим товарищем – Владимиром Михайловичем Померанцевым. Все инфаркты он получил, борясь с издательскими работниками. И на его похоронах представитель «Советского писателя» вспоминал о рукописи, которая вот уже несколько лет никак не становилась книгой, говорил, что выпустить книгу Померанцева – долг перед его памятью. Что ж. Прошло ещё несколько лет, и книга, наконец, была издана – с большинством тех поправок, которые свели её автора в могилу.
А рассказ Лёвы Кривенко «Фурье» мы с Петей Гелазония в «Семье и школе» напечатали. Но уже при Горбачёве, когда ослабли тиски цензуры. То есть напечатал рассказ, конечно, работающий в журнале Петя, но он уговорил меня написать к Лёвиной публикации предисловие, где я и рассказал о злоключениях «Фурье».
* * *
Министерский погром «Семьи и школы» совпал с семинаром молодых творческих работников Москвы в Красной Пахре, в котором меня пригласили участвовать. Я поехал. И подивился роскоши, которая нас обступала. В утопающих в вековых соснах коттеджах были большие комнаты на двоих, очень вместительные террасы и даже кухни, где стояли стол, стулья, газовая плита и холодильник. Притом, что кормили нас в огромном коттедже с залом, больше похожим на ресторанный: массивные хрустальные люстры, зеркала, пальмы, цветы, столики на шестерых. Не говорю уже о самой еде: она была изысканна, как та; о которой напоминал своему Амвросию автор «Мастера и Маргариты».
Здесь собрались представители всех творческих профессий: литераторы, живописцы, работники кино, театра, радио, телевидения. Мы общались друг с другом неделю. После завтрака отправлялись в кинозал смотреть какой-нибудь спорный (или уже положенный на полку) советский фильм. Потом приходили на встречу с крупными мастерами, или общественными деятелями, или политиками. Потом – после обеда – семинары по творческим интересам. Потом – прогулки («смотри: эта дача Нагибина, а эта – Тендрякова, а эта – Твардовского!»), или биллиард, или подвижные спортивные игры: теннис, волейбол, футбол. Вечером, после ужина – раритетный зарубежный фильм. Рай!
Однажды на встречу с нами вместе с другими писателями приехал Борис Балтер. Сперва он прослушал приветственное слово, которое произнёс представитель горкома комсомола, организовавшего этот семинар в Красной Пахре. Закончил свою речь комсомольский деятель неожиданно – длинной цитатой из песни Окуджавы, сорвав аплодисменты публики. Балтер расцвёл: «Смотри, какие пошли сейчас комсомольцы! – сказал он мне. – Надо запомнить его фамилию». Мы посмотрели в программку: Евгений Сидоров. Да, это был тот самый Сидоров, ставший впоследствии хорошим литературным и театральным критиком, который позже работал и ректором Литинститута, и министром культуры России, и послом в ЮНЕСКО. С Балтером их пути ещё раз пересеклись в «Юности», где оба состояли на парт-учёте и где партячейка отказалась выполнить требование райкома и исключить Бориса Балтера из партии за то, что тот подписал коллективное письмо писателей в защиту диссидентов. «Для меня, – сказал на этом собрании Женя Сидоров, – фронтовик, майор, орденоносец Борис Балтер являет собой образ честного, настоящего, принципиального коммуниста». Райком не прислушался ни к Сидорову, ни к мнению всего собрания: исключил Балтера из партии, чем сильно осложнил ему жизнь в оставшиеся годы. Оставалось ему не так уж много: у него было больное сердце.
А в Красной Пахре Борис покорил зал, отвечая на выступление Феликса Чуева. Тот жаловался, что всем национальным художникам разрешено писать о том, чем особенно хороши представители их нации. «И только русским писателям, – закончил Чуев с пафосом, – это запрещено!»
«Чушь! – мгновенно и уверенно среагировал Балтер. – Если у вас и вправду не берут стихи о том, чем хороши русские люди, то это значит, что стихи ваши совсем уж никуда не годятся!»
Будущий член ЦК комсомола, а Чуев потом выбирался в этот орган с той же неизменностью, с какой Корнейчук или Шолохов избирались в ЦК партии, как оплёванный, смотрел в смеющийся зал…
Разгром «Семьи и школы» снова обозначил для меня, жены и сына приближение безденежья. И оно приблизилось вплотную: гонорары, которые я изредка получал, были малы, а про зарплату жены я уже говорил: прожить на неё было невозможно.
– Вам, может быть, деньги нужны? – спрашивал Померанцев. – Не стесняйтесь, возьмите у меня.
Но я стеснялся.
Наконец, решился, когда совсем прижало:
– Владимир Михайлович, Вы не можете дать мне 150 рублей? Но не на тех условиях, на которых Вам давал деньги Дымшиц. Я верну с первого же большого гонорара.
– Отдадите, когда сможете, – коротко заключил Померанцев.
Эти деньги нам очень помогли. Я начинал входить в ритм человека, живущего «на вольных хлебах»: в этом месяце я твёрдо получу столько-то, в будущем – столько-то и так далее, уже не пропуская времени, не позволяя себе расслабляться.
Деньги Померанцеву я отдал очень скоро. Но отлаженный было ритм неожиданно нарушился.
Позвонил Храмов.
– Ты всё ещё в «Семье и школе»? – спросил он.
– Нет, – отвечаю, – я «на вольных хлебах».
– Вот и хорошо! – обрадовался Женя. – Слушай, ты не мог бы поработать вместо меня пару месяцев. Я беру творческий отпуск.
– Где? – спрашиваю. Что в «Юности» он давно не работает, мне было известно.
– В «Кругозоре». Завом литературы.
– Это газета или журнал? – спрашиваю у него.
– Ну вот! Не вздумай говорить главному, что ты до сих пор не подозревал о существовании этого журнала. Он выходит при Радиокомитете. Редакция сидит в этом же здании на Пятницкой. В общем, давай встретимся хоть завтра в ЦДЛ, я тебе покажу журнал и всё объясню.
Журнал меня удивил своим внешним видом: яркий маленький глянцевитый. До сих пор я таких не видел. К тому же он был с кармашком, в котором помещалась гибкая пластинка.
– Видишь, – втолковывал мне Храмов, – вот маленький рассказик. Но можно брать и небольшой законченный отрывок. Его авторы дают охотно – это дополнительная реклама новому произведению. Вот стихи. А пластинку ты будешь записывать вместе с оператором. Пусть он записывает побольше, а ты отберёшь, сколько нужно.
В отделе кадров Радиокомитета заартачились:
– А почему вы не работаете больше года? Что такое профком литераторов? Принесите оттуда справку, что у вас есть право не работать.
– Чего? – недовольно переспросил меня председатель профкома. – Пошли ты их, знаешь куда! Мы дадим тебе, конечно, справку. А вот про наши привилегии они обязаны знать. Пусть поговорят со своими юристами.
Так я и передал кадровику.
– Хорошо, – недоверчиво и зловеще сказал он. – С юристом я переговорю. Но пеняйте на себя, если всё это не так, как вы изображаете.
Пенять на себя мне не пришлось. Через несколько дней я был оформлен временно исполняющим обязанности.
Многоэтажное здание Радиокомитета представляло собой сложную слоистую организацию. На какие-то этажи пускали по обычному, выдаваемому в отделе кадров пропуску. На какие-то – только по спецпропускам. А какие-то охранялись как государственная граница: чтобы пройти туда, нужно было иметь особый допуск.
– Иновещание! – объяснили мне.
То есть речь шла о радиопередачах для иностранцев. Разумеется, особенно бдительно охраняли не тех, кто вещал на социалистические страны, а тех, кто обращался к народам, одурманенным капиталистической идеологией.
В наш же «Кругозор» мог пройти любой, если, конечно, кто-нибудь из сотрудников закажет ему пропуск. Так, на второй день моей работы в журнале по пропуску, выписанному музыкальным редактором Люсей Кренкель, дочерью знаменитого полярника и женой Жени Храмова, пришёл в журнал композитор Микаэл Таривердиев с большой сумкой, в которой было столько вина и закуски, что мы пировали всё рабочее время, отвлекаясь от стола на музыкальные паузы, которые устраивал тот же Таривердиев, наигрывая на рояле недавно сочинённые им мелодии для кинофильмов «Прощай», «Любить», «Последний жулик». Как потом я понял, он отмечал в редакции выход журнала с его пластинкой, на которой были записаны песенки из этих кинофильмов.
– А вы не стесняйтесь, – сказал он мне тихо, пожимая на прощанье руку, – держитесь раскованней.
– Он не стесняется, – отозвался за меня стоявший рядом Юрий Визбор. – Он новенький.
Точно! Таривердиев был, наверное, наблюдательным человеком и заметил, как напряжённо я улыбался, когда кто-то из редакции рассказывал о ком-то или о чём-то мне неведомом и слышал в ответ взрыв хохота. Все смеются, а я не знаю над чем. Естественно, что я чувствовал себя чужим в этой редакции.
Разумеется, недолго.
Человек, как собака, быстро привыкает к какому-то месту, кружку, сообществу. Я оценил быстроту реакции заместителя главного редактора Евгения Велтистова, который все вопросы решал с ходу, почти не задумываясь. Работать с ним было поэтому очень легко. Но о его писательском таланте я узнал уже много позже. Оказывается, он был детским писателем. И за повесть «Приключения Электроника» получил какую-то из государственных премий. То ли СССР, то ли РСФСР. Правда, в это время он уже работал в ЦК КПСС.