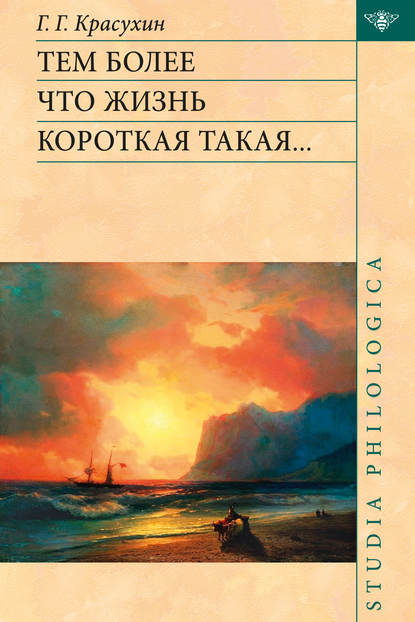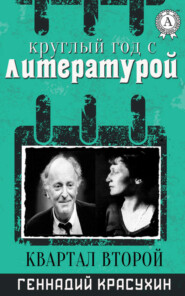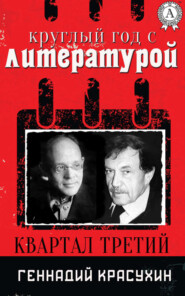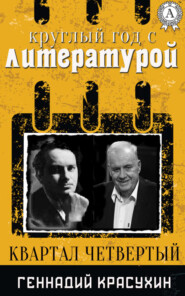По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тем более что жизнь короткая такая…
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выходит, не зря я усомнился, что Трайчо Костов мог перед казнью написать покаянное письмо, где признавался, что шпионил в пользу фашистской Югославии. Не зря не верил, что и Ласло Райк был агентом кровавой клики Тито-Ранковича.
Этому я не верил, но не верить тому, что кровавая клика вообще существовала, не верить художникам Кукрыниксам, много рисовавшим Тито, мне и в голову не приходило. Они изображали маленького толстого человечка, летящего по воздуху. С его головы свалилась маршальская фуражка, а на заду красовался чёткий отпечаток подошвы сапога с маркой изделия «Made in USA». А из газеты «За социалистическую Югославию», которую я брал в читальном зале библиотеки, я узнавал о сотнях тысяч политзаключённых, об ужасных пытках в гестаповских застенках руководителя службы госбезопасности Александра Ранковича, о множестве трупов умерших от голода людей, которых ежедневно подбирают и свозят в крематорий. Как я мог не верить таким вещам? Ведь это писали сами югославы!
И вдруг оказалось, что все врали. И журналисты (югославы и не югославы), и карикатуристы. Не было в Югославии фашизма. Не стояла во главе страны кровавая клика. Была там, как и у нас, единственная партия, которая называлась Союзом коммунистов Югославии. Её председателем был президент страны маршал Тито.
Народ немедленно отозвался на крушение сталинского мифа. Яков Лазаревич со смехом прочитал нам ходившее по рукам четверостишие:
Дорогой товарищ Тито,
Ты нам друг и брат!
Нам сказал Хрущёв Никита:
«Ты не виноват!»
3
Ничего, разумеется, хорошего не выходило из того, что мы из 545-й вернулись в новой школе отчасти к тому, что уже знали.
В прежнюю школу я ходил с охотой. С предвкушением интереса, который вызовет в тебе увлечённый своим предметом учитель. В новой школе энтузиастов своего дела среди педагогов было немного. В старой я привык к урокам-беседам. В 653-й, как правило, перед каждым учеником во время урока лежал учебник. Учителя заставляли читать из него чуть ли не вслух, а потом вызывали к доске повторить прочитанное.
Нет, отстать мы не отстали, но навёрстывать упущенное, пока скучали и не очень вникали, бросились. Наверстали быстро.
В школе действовали кружки. Я записался в химический. Ходил в него год, толок в ступе разные смеси, поджигал их на горелке, но химию так и не полюбил.
С большим удивлением я обнаружил среди старых своих бумаг грамоту чемпиона школы 1955 года по шахматам. Ведь шахматами я никогда особенно не увлекался. А потом вспомнил: действительно такой турнир проводили. По олимпийской системе: проигравший выбывает. Девочки выбыли первыми. А я как-то исхитрился выйти в финал и кого-то из ребят победить. Видно, не было в школе сильных шахматистов.
А стенгазета была. В классе мы её выпускали, кажется, раз в две недели. А для школьной, которая называлась «За отличную учёбу», раз в месяц вставляли в деревянный трафарет новые заметки. Стихи туда и туда писал не только я. Писал их и Женя Д., мой одноклассник, любитель изящного.
Сейчас объясню, почему я не называю его фамилии. Мы обменивались тетрадками со стихами, коллекциями открыток с репродукциями: у меня их было мало, а его родители помогли ему собрать довольно приличную. Он размещал их в альбомах по системе: «античная живопись», «живопись эпохи Возрождения», фламандцы, классицисты, передвижники и т. д. Приносил он и альбомы с марками, но их я разглядывал из вежливости: марки меня не интересовали.
Девочки, как мухи, облепляли его альбомы. Меня несколько раздражало, что он говорил с ними, томно кокетничая, словно передразнивая их ужимки.
Я встретил его в 13-м троллейбусе, когда ехал на работу в «Литературную газету». Трамвай по Цветному бульвару уже не ходил, а 13-й троллейбус, кажется, ходит и сейчас. Мы вместе вышли: оказалось, что работаем напротив друг друга на разных сторонах бульвара. Он – в издательстве «Искусство».
Я заходил несколько раз в его редакцию, где работала моя знакомая Саша Денисова, жена детского драматурга Льва Устинова. Саша давала мне рукописи на внутренние (для редакции) рецензии. А теперь выяснилось, что и Женька Д., мой одноклассник, устроился сюда работать. Я пришёл к ним с бутылкой. Женька царил за столом, шутил, рассказывал вполне приличные анекдоты.
Совсем немного времени прошло, когда Саша испуганно сказала мне, что Женя арестован. За что – сказала ещё через некоторое время, когда был оглашён приговор: за гомосексуализм. Саша очень удивлялась: кто бы мог подумать? Такой компанейский мужик! И женщинам в редакции нравился, и ухаживал за ними красиво.
А я вспомнил ещё со школьных времён его, выражаясь по-есенински, «изломанные и лживые жесты». Всё-таки действительно кокетничал он, как девчонка, и в девичьем обществе чувствовал себя, как рыба в воде.
– За что же его посадили? – спросил я Сашу. – Он кого-нибудь совратил?
– Нет, – ответила она. – В уголовном кодексе есть статья про гомосексуалистов. Их как гомосексуалистов и сажают.
Лёнька Лобанов, когда у нас зашёл о Женьке разговор, сказал, что ничуть этим не удивлён. У Жени Д. была разбитная двоюродная сестра, которая охотно знакомилась с его приятелями. Познакомилась и с Лёнькой. И рассказывала ему, что знакомиться с её подружками брат отказывался, зато оживлялся, когда она представляла ему своих кавалеров.
Я ничего о нём больше не знаю. Не встречал его, не видел. Но что ему жизнь сломали, убеждён.
Как сказала Фаина Григорьевна Раневская, узнавшая о подобном случае: «Что же это за страна, в которой человек не хозяин собственной ж…»
В школе мы с Женей писали эпиграммы, скетчи, какие-нибудь поздравления именинникам. У кого были лучше, судить не берусь. Наверное, у обоих не слишком хорошие, коль ни из него, ни из меня поэта не вышло. Да мы и не соперничали. Но относились к творчеству друг друга серьёзно.
Не сохранились мои детские тетрадки. Жаль. Потому что были на полях стихов Женькины замечания. А в его тетрадке – мои. Мы писали друг другу, как Пушкин на полях Батюшкова (о чём, конечно, то есть о пушкинских замечаниях, в то время не подозревали!): «Здорово!», «здесь я бы вместо того-то написал бы то-то!», «эти строки надо доработать!»
А по школьному радио читали то мои стихотворные фельетоны, то Женькины. Оба были те ещё моралисты: высмеивали то, чем грешили сами – прогульщиков, грубиянов, матерщинников. Сказывалась, разумеется, советская атмосфера, разлитая в обществе: думай, как хочешь, а пиши, как надо. Я и в печати поначалу следовал этому правилу. Но быстро понял его порочность: перестал быть официантом советского официоза.
Но в чём у меня действительно было преимущество перед Женькой, это в начитанности. Женька не читал того, что читали мы с Мариком. Да и вообще читал мало. Поэтому Анна Александровна, наша учительница литературы, отличала не его, а меня. А после одного сочинения, которое задала нам написать на свободную тему в форме диалога, уверенно сказала: «Ты будешь писателем!»
С этим моим сочинением долго носились. Его поместили в школьной стенгазете. Посылали на какой-то районный литературный конкурс (правда, никаких премий я не получал). С одной стороны, меня это радовало. А с другой – удивляло: почему не носятся так с моими стихами?
Тем более что диалог я написал очень быстро. Ещё по дороге из школы домой я его продумал, а дома сразу же и записал. Телефон в нашей коммунальной квартире, как я уже здесь писал, висел в коридоре. Если ты на кухне, то не хочешь, но услышишь, о чём говорят Витька, Ира, тётя Лена, тётя Катя или моя мать. Слушая, я каждый раз поражался сумбурности живого разговора. За каких-нибудь пять-десять минут о чём только не говорили собеседники. Я фиксировал и свои разговоры. И тоже находил их далёкими от стройной логики. Вот эту сумбурность я и передал. Назвал сочинение «Разговор по телефону» и начал:
– Ты понял, о чём нам задали писать сочинение?
А дальше, ответив на этот вопрос, пошёл перескакивать с темы на тему и закончил диалог, заставив собеседников перелететь от недавних гастролей французского театра «Комеди Франсез» к проходящей сейчас неделе французских фильмов, на которой я успел посмотреть «Красное и чёрное» и «Плату за страх».
– Скорее всего, ты будешь драматургом, – сказала мне Анна Александровна. Не угадала. Драматургом я не стал.
Вспоминая сейчас, как преподавали у нас литературу, и сравнивая это с тем, как преподают литературу сейчас, думаю, что много грехов на душе у коммунистических правителей, но такого греха, как не дать детям углубиться в тексты Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Л. Толстого, Чехова, они на собственную душу не взяли. Оболгали, конечно, писателей статьями прислуживающих им идеологов, учебниками, имеющими отношение не к литературе, а к социологии. Некоторых классиков вообще не допустили к школьникам – Достоевского, Лескова. Но ведь не выкинули на свалку всю русскую литературу, дали в неё вчитаться и, стало быть, иметь возможность хотя бы про себя, для себя не соглашаться с лжецами!
Провальных сочинений я у своих одноклассников не помню. Грамотой владели не все, но даже вечно пишущие с грамматическими ошибками Галя Толстая, Тоня Мерзлякова, Юра Барабанов слогом владели. Не в высокопарном, конечно, значении, но в самом обычном: умели связно выражать свои мысли. Много ли, мало ли, но читали все!
Не было компьютеров и сотовых? Были телевизоры, сбегали с уроков посмотреть какой-нибудь фильм. Помню, чуть не полкласса вместо урока физкультуры смотрела в «Ударнике» «Терезу Ракэн». Аверьянов потом рвал и метал. На первом этаже вывесили огромное бумажное полотно: «Позор прогульщикам» – и наши имена крупными буквами. Плакат висел недолго. Юрка Барабанов его сорвал и сжёг в своём дворе. Всех опрашивали: кто это сделал? Но кому охота была доносить?
Давно уже слышу недоумённое – от либералов, радостное – от коммунистов: так что же, выходит, тогда было лучше, чем теперь? Не радуйтесь и не возмущайтесь: лучше не было.
Наши руки были скованны, наш энтузиазм – строго дозирован. Самостоятельность не поощрялась. Простенькую заметку в школьную или в классную стенгазету внимательно читал Шалва Валентинович, парторг школы. Он правил даже Надьку Монахову, очень старательную, усидчивую, всегда и во всём соглашавшуюся с любым учителем. Я уже писал, что она вырвала серебряную медаль зубами, зубрёжкой и благоговейным своим поведением. Отвечала она бесцветно, но правильно. Задачи решала верно, писала грамотно. Но интересовал ли её какой-либо предмет больше других, для всех так и осталось тайной. Куда она поступила после школы, я не знаю.
Так вот даже у Надьки Шалва Валентинович находил крамолу. «Не мы, ученики, – говорил он, – занося ручку над заметкой, – а мы, советские ученики, – он вписывал слово. – Не нас должно волновать, а нас, советских учеников, учащихся 653-й школы, должно волновать», – и снова вписывал. А уж мои или Женькины сатирические стихи на свет проглядывал. «Не слишком ли ты увлёкся критикой? – спрашивал он меня. – Может, припишешь что-нибудь жизнеутверждающее?» Я горячился: «Это же сатира?» «Ну и что?» – удивлялся Шалва Валентинович.
Да, какой-то весенний сквознячок иногда пронизывал затхлый, известный мне ещё по старой школе мир. Но мир по-прежнему оставался затхлым. Скучные казённые комсомольские собрания. Бесцветные политинформации, которые делал кто-нибудь из нас, назначенный Марьей Георгиевной. Обычно мы повторяли радиопередачи и газетные статьи. И всё-таки культурная жизнь в стране потихоньку оживлялась.
О гастролях театра «Комеди Франсез» и о неделе французских фильмов в Москве я уже здесь писал. Яков Лазаревич дал нам с Мариком прочитать в журнале «Театр» пьесу Виктора Розова «Вечно живые» с действительно очень живыми диалогами без нудной назидательности, которой так отличались спектакли в театрах, куда нам устраивали коллективные походы. Появился новый журнал «Юность». А в нём – повесть незнакомого нам Анатолия Гладилина «Хроника времён Виктора Подгурского». Ничего похожего на прежнюю унылую серятину.
Ну не улыбка ли это судьбы? Дочитали мы повесть, порадовались ей, и почти тут же приходят в школу наши соседи – работники телевидения (мы ведь находились совсем рядом с Шуховской башней). Говорят, что им нужны ребята, которые были бы зрителями на встрече с редакцией журнала «Юность». Анна Александровна отобрала человек пятнадцать. Аверьянов с Шалвой Валентиновичем напутствовали, как нам себя там вести. И мы отправились на встречу.
Её обещали показать в записи. Мать предупредила родственников. Телевизоры стояли у нас и у тёти Кати. У тёти Лены телевизора не было. Дядя Мотя лежал на кровати и храпел. Ему нужно было завтра рано вставать на работу. Тётя Лена убрала со стола пустые водочные бутылки и вместе с Ирой пошла к нам. Пришёл и Витька. Сперва все насмешничали: «Чего же тебя нет за столом? Ты зачем под столом прячешься?» За столом сидела редакция. Но вот стали показывать зрителей. Я несколько раз мелькнул среди других. И вдруг меня показали крупным планом. Десяток долгих секунд, наверное, держали в кадре: я слушал выступление Виктора Розова. Мама бросилась звонить тёте Лизе, дяде Мише – все видели, все меня поздравляли. Витька сказал, что за участие в массовках на киностудиях платят деньги. «Ты узнай, – советовал он мне, – может, тебе выписали что-нибудь». Мать насторожилась. «Ну где мне об этом узнавать? – спросил я. – Да и неудобно это». «Неудобно по потолку ходить, – сказал Витька, – а деньги получать очень удобно. Никогда не помешают».
Я посоветовался с Мариком. Яков Лазаревич меня высмеял: «Ну что ты, о каком гонораре может идти речь? Чушь, конечно. Никуда не ходи». Я и не пошёл. Но в 10-м классе послал стихи не просто в «Юность», а на имя Николая Константиновича Старшинова, которого Катаев представлял на телевидении как заведующего отделом поэзии. Отозвался, как я рассказывал об этом в «Стёжках-дорожках», поэт, консультант журнала Евгений Храмов.
Я уже не помню, прочитали ли нам на комсомольском собрании доклад Хрущёва о Сталине или пересказали его, но он произвёл на нас очень глубокое впечатление. Доклад Хрущёва о Сталине вскрыл тот гигантский гнойник, который многие годы отравлял страну. В школе растерялись. Мы осмелели и выломали из деревянного трафарета нашей школьной газеты «За отличную учёбу» двойной профиль Ленина-Сталина (профиль Сталина в таком медальоне располагался чуть правее ленинского). «Кто вам это разрешил? – гневался Шалва Валентинович. – Немедленно восстановите всё, как было!» Но восстановить мы не смогли бы, если б и захотели. Мы этот профиль разбили. Да и не захотели бы мы его восстанавливать. А заказать другой Шалва Валентинович не решился.
– Это вам так не сойдёт, – грозился он. – Вы ещё за это поплатитесь.
Как в воду глядел.
Комсомольское собрание было посвящено награждению комсомола орденом Ленина за освоение целины. Нам было предложено послать по этому поводу благодарственное письмо в ЦК партии. Такое письмо было делом привычно ритуальным, его зачитала наша учительница немецкого Зоя Михайловна Красовская. Оставалось только проголосовать. Уже произнесли: «Кто за то…» – как я прервал рутинное представление.
– А почему, – спрашиваю, – мы должны благодарить за награду ЦК партии, когда награждает президиум Верховного Совета? Давайте туда и пошлём наше письмо.
Тут же поднявшийся из-за стола на сцене Шалва Валентинович стал объяснять залу, в чём моя ошибка:
Этому я не верил, но не верить тому, что кровавая клика вообще существовала, не верить художникам Кукрыниксам, много рисовавшим Тито, мне и в голову не приходило. Они изображали маленького толстого человечка, летящего по воздуху. С его головы свалилась маршальская фуражка, а на заду красовался чёткий отпечаток подошвы сапога с маркой изделия «Made in USA». А из газеты «За социалистическую Югославию», которую я брал в читальном зале библиотеки, я узнавал о сотнях тысяч политзаключённых, об ужасных пытках в гестаповских застенках руководителя службы госбезопасности Александра Ранковича, о множестве трупов умерших от голода людей, которых ежедневно подбирают и свозят в крематорий. Как я мог не верить таким вещам? Ведь это писали сами югославы!
И вдруг оказалось, что все врали. И журналисты (югославы и не югославы), и карикатуристы. Не было в Югославии фашизма. Не стояла во главе страны кровавая клика. Была там, как и у нас, единственная партия, которая называлась Союзом коммунистов Югославии. Её председателем был президент страны маршал Тито.
Народ немедленно отозвался на крушение сталинского мифа. Яков Лазаревич со смехом прочитал нам ходившее по рукам четверостишие:
Дорогой товарищ Тито,
Ты нам друг и брат!
Нам сказал Хрущёв Никита:
«Ты не виноват!»
3
Ничего, разумеется, хорошего не выходило из того, что мы из 545-й вернулись в новой школе отчасти к тому, что уже знали.
В прежнюю школу я ходил с охотой. С предвкушением интереса, который вызовет в тебе увлечённый своим предметом учитель. В новой школе энтузиастов своего дела среди педагогов было немного. В старой я привык к урокам-беседам. В 653-й, как правило, перед каждым учеником во время урока лежал учебник. Учителя заставляли читать из него чуть ли не вслух, а потом вызывали к доске повторить прочитанное.
Нет, отстать мы не отстали, но навёрстывать упущенное, пока скучали и не очень вникали, бросились. Наверстали быстро.
В школе действовали кружки. Я записался в химический. Ходил в него год, толок в ступе разные смеси, поджигал их на горелке, но химию так и не полюбил.
С большим удивлением я обнаружил среди старых своих бумаг грамоту чемпиона школы 1955 года по шахматам. Ведь шахматами я никогда особенно не увлекался. А потом вспомнил: действительно такой турнир проводили. По олимпийской системе: проигравший выбывает. Девочки выбыли первыми. А я как-то исхитрился выйти в финал и кого-то из ребят победить. Видно, не было в школе сильных шахматистов.
А стенгазета была. В классе мы её выпускали, кажется, раз в две недели. А для школьной, которая называлась «За отличную учёбу», раз в месяц вставляли в деревянный трафарет новые заметки. Стихи туда и туда писал не только я. Писал их и Женя Д., мой одноклассник, любитель изящного.
Сейчас объясню, почему я не называю его фамилии. Мы обменивались тетрадками со стихами, коллекциями открыток с репродукциями: у меня их было мало, а его родители помогли ему собрать довольно приличную. Он размещал их в альбомах по системе: «античная живопись», «живопись эпохи Возрождения», фламандцы, классицисты, передвижники и т. д. Приносил он и альбомы с марками, но их я разглядывал из вежливости: марки меня не интересовали.
Девочки, как мухи, облепляли его альбомы. Меня несколько раздражало, что он говорил с ними, томно кокетничая, словно передразнивая их ужимки.
Я встретил его в 13-м троллейбусе, когда ехал на работу в «Литературную газету». Трамвай по Цветному бульвару уже не ходил, а 13-й троллейбус, кажется, ходит и сейчас. Мы вместе вышли: оказалось, что работаем напротив друг друга на разных сторонах бульвара. Он – в издательстве «Искусство».
Я заходил несколько раз в его редакцию, где работала моя знакомая Саша Денисова, жена детского драматурга Льва Устинова. Саша давала мне рукописи на внутренние (для редакции) рецензии. А теперь выяснилось, что и Женька Д., мой одноклассник, устроился сюда работать. Я пришёл к ним с бутылкой. Женька царил за столом, шутил, рассказывал вполне приличные анекдоты.
Совсем немного времени прошло, когда Саша испуганно сказала мне, что Женя арестован. За что – сказала ещё через некоторое время, когда был оглашён приговор: за гомосексуализм. Саша очень удивлялась: кто бы мог подумать? Такой компанейский мужик! И женщинам в редакции нравился, и ухаживал за ними красиво.
А я вспомнил ещё со школьных времён его, выражаясь по-есенински, «изломанные и лживые жесты». Всё-таки действительно кокетничал он, как девчонка, и в девичьем обществе чувствовал себя, как рыба в воде.
– За что же его посадили? – спросил я Сашу. – Он кого-нибудь совратил?
– Нет, – ответила она. – В уголовном кодексе есть статья про гомосексуалистов. Их как гомосексуалистов и сажают.
Лёнька Лобанов, когда у нас зашёл о Женьке разговор, сказал, что ничуть этим не удивлён. У Жени Д. была разбитная двоюродная сестра, которая охотно знакомилась с его приятелями. Познакомилась и с Лёнькой. И рассказывала ему, что знакомиться с её подружками брат отказывался, зато оживлялся, когда она представляла ему своих кавалеров.
Я ничего о нём больше не знаю. Не встречал его, не видел. Но что ему жизнь сломали, убеждён.
Как сказала Фаина Григорьевна Раневская, узнавшая о подобном случае: «Что же это за страна, в которой человек не хозяин собственной ж…»
В школе мы с Женей писали эпиграммы, скетчи, какие-нибудь поздравления именинникам. У кого были лучше, судить не берусь. Наверное, у обоих не слишком хорошие, коль ни из него, ни из меня поэта не вышло. Да мы и не соперничали. Но относились к творчеству друг друга серьёзно.
Не сохранились мои детские тетрадки. Жаль. Потому что были на полях стихов Женькины замечания. А в его тетрадке – мои. Мы писали друг другу, как Пушкин на полях Батюшкова (о чём, конечно, то есть о пушкинских замечаниях, в то время не подозревали!): «Здорово!», «здесь я бы вместо того-то написал бы то-то!», «эти строки надо доработать!»
А по школьному радио читали то мои стихотворные фельетоны, то Женькины. Оба были те ещё моралисты: высмеивали то, чем грешили сами – прогульщиков, грубиянов, матерщинников. Сказывалась, разумеется, советская атмосфера, разлитая в обществе: думай, как хочешь, а пиши, как надо. Я и в печати поначалу следовал этому правилу. Но быстро понял его порочность: перестал быть официантом советского официоза.
Но в чём у меня действительно было преимущество перед Женькой, это в начитанности. Женька не читал того, что читали мы с Мариком. Да и вообще читал мало. Поэтому Анна Александровна, наша учительница литературы, отличала не его, а меня. А после одного сочинения, которое задала нам написать на свободную тему в форме диалога, уверенно сказала: «Ты будешь писателем!»
С этим моим сочинением долго носились. Его поместили в школьной стенгазете. Посылали на какой-то районный литературный конкурс (правда, никаких премий я не получал). С одной стороны, меня это радовало. А с другой – удивляло: почему не носятся так с моими стихами?
Тем более что диалог я написал очень быстро. Ещё по дороге из школы домой я его продумал, а дома сразу же и записал. Телефон в нашей коммунальной квартире, как я уже здесь писал, висел в коридоре. Если ты на кухне, то не хочешь, но услышишь, о чём говорят Витька, Ира, тётя Лена, тётя Катя или моя мать. Слушая, я каждый раз поражался сумбурности живого разговора. За каких-нибудь пять-десять минут о чём только не говорили собеседники. Я фиксировал и свои разговоры. И тоже находил их далёкими от стройной логики. Вот эту сумбурность я и передал. Назвал сочинение «Разговор по телефону» и начал:
– Ты понял, о чём нам задали писать сочинение?
А дальше, ответив на этот вопрос, пошёл перескакивать с темы на тему и закончил диалог, заставив собеседников перелететь от недавних гастролей французского театра «Комеди Франсез» к проходящей сейчас неделе французских фильмов, на которой я успел посмотреть «Красное и чёрное» и «Плату за страх».
– Скорее всего, ты будешь драматургом, – сказала мне Анна Александровна. Не угадала. Драматургом я не стал.
Вспоминая сейчас, как преподавали у нас литературу, и сравнивая это с тем, как преподают литературу сейчас, думаю, что много грехов на душе у коммунистических правителей, но такого греха, как не дать детям углубиться в тексты Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Л. Толстого, Чехова, они на собственную душу не взяли. Оболгали, конечно, писателей статьями прислуживающих им идеологов, учебниками, имеющими отношение не к литературе, а к социологии. Некоторых классиков вообще не допустили к школьникам – Достоевского, Лескова. Но ведь не выкинули на свалку всю русскую литературу, дали в неё вчитаться и, стало быть, иметь возможность хотя бы про себя, для себя не соглашаться с лжецами!
Провальных сочинений я у своих одноклассников не помню. Грамотой владели не все, но даже вечно пишущие с грамматическими ошибками Галя Толстая, Тоня Мерзлякова, Юра Барабанов слогом владели. Не в высокопарном, конечно, значении, но в самом обычном: умели связно выражать свои мысли. Много ли, мало ли, но читали все!
Не было компьютеров и сотовых? Были телевизоры, сбегали с уроков посмотреть какой-нибудь фильм. Помню, чуть не полкласса вместо урока физкультуры смотрела в «Ударнике» «Терезу Ракэн». Аверьянов потом рвал и метал. На первом этаже вывесили огромное бумажное полотно: «Позор прогульщикам» – и наши имена крупными буквами. Плакат висел недолго. Юрка Барабанов его сорвал и сжёг в своём дворе. Всех опрашивали: кто это сделал? Но кому охота была доносить?
Давно уже слышу недоумённое – от либералов, радостное – от коммунистов: так что же, выходит, тогда было лучше, чем теперь? Не радуйтесь и не возмущайтесь: лучше не было.
Наши руки были скованны, наш энтузиазм – строго дозирован. Самостоятельность не поощрялась. Простенькую заметку в школьную или в классную стенгазету внимательно читал Шалва Валентинович, парторг школы. Он правил даже Надьку Монахову, очень старательную, усидчивую, всегда и во всём соглашавшуюся с любым учителем. Я уже писал, что она вырвала серебряную медаль зубами, зубрёжкой и благоговейным своим поведением. Отвечала она бесцветно, но правильно. Задачи решала верно, писала грамотно. Но интересовал ли её какой-либо предмет больше других, для всех так и осталось тайной. Куда она поступила после школы, я не знаю.
Так вот даже у Надьки Шалва Валентинович находил крамолу. «Не мы, ученики, – говорил он, – занося ручку над заметкой, – а мы, советские ученики, – он вписывал слово. – Не нас должно волновать, а нас, советских учеников, учащихся 653-й школы, должно волновать», – и снова вписывал. А уж мои или Женькины сатирические стихи на свет проглядывал. «Не слишком ли ты увлёкся критикой? – спрашивал он меня. – Может, припишешь что-нибудь жизнеутверждающее?» Я горячился: «Это же сатира?» «Ну и что?» – удивлялся Шалва Валентинович.
Да, какой-то весенний сквознячок иногда пронизывал затхлый, известный мне ещё по старой школе мир. Но мир по-прежнему оставался затхлым. Скучные казённые комсомольские собрания. Бесцветные политинформации, которые делал кто-нибудь из нас, назначенный Марьей Георгиевной. Обычно мы повторяли радиопередачи и газетные статьи. И всё-таки культурная жизнь в стране потихоньку оживлялась.
О гастролях театра «Комеди Франсез» и о неделе французских фильмов в Москве я уже здесь писал. Яков Лазаревич дал нам с Мариком прочитать в журнале «Театр» пьесу Виктора Розова «Вечно живые» с действительно очень живыми диалогами без нудной назидательности, которой так отличались спектакли в театрах, куда нам устраивали коллективные походы. Появился новый журнал «Юность». А в нём – повесть незнакомого нам Анатолия Гладилина «Хроника времён Виктора Подгурского». Ничего похожего на прежнюю унылую серятину.
Ну не улыбка ли это судьбы? Дочитали мы повесть, порадовались ей, и почти тут же приходят в школу наши соседи – работники телевидения (мы ведь находились совсем рядом с Шуховской башней). Говорят, что им нужны ребята, которые были бы зрителями на встрече с редакцией журнала «Юность». Анна Александровна отобрала человек пятнадцать. Аверьянов с Шалвой Валентиновичем напутствовали, как нам себя там вести. И мы отправились на встречу.
Её обещали показать в записи. Мать предупредила родственников. Телевизоры стояли у нас и у тёти Кати. У тёти Лены телевизора не было. Дядя Мотя лежал на кровати и храпел. Ему нужно было завтра рано вставать на работу. Тётя Лена убрала со стола пустые водочные бутылки и вместе с Ирой пошла к нам. Пришёл и Витька. Сперва все насмешничали: «Чего же тебя нет за столом? Ты зачем под столом прячешься?» За столом сидела редакция. Но вот стали показывать зрителей. Я несколько раз мелькнул среди других. И вдруг меня показали крупным планом. Десяток долгих секунд, наверное, держали в кадре: я слушал выступление Виктора Розова. Мама бросилась звонить тёте Лизе, дяде Мише – все видели, все меня поздравляли. Витька сказал, что за участие в массовках на киностудиях платят деньги. «Ты узнай, – советовал он мне, – может, тебе выписали что-нибудь». Мать насторожилась. «Ну где мне об этом узнавать? – спросил я. – Да и неудобно это». «Неудобно по потолку ходить, – сказал Витька, – а деньги получать очень удобно. Никогда не помешают».
Я посоветовался с Мариком. Яков Лазаревич меня высмеял: «Ну что ты, о каком гонораре может идти речь? Чушь, конечно. Никуда не ходи». Я и не пошёл. Но в 10-м классе послал стихи не просто в «Юность», а на имя Николая Константиновича Старшинова, которого Катаев представлял на телевидении как заведующего отделом поэзии. Отозвался, как я рассказывал об этом в «Стёжках-дорожках», поэт, консультант журнала Евгений Храмов.
Я уже не помню, прочитали ли нам на комсомольском собрании доклад Хрущёва о Сталине или пересказали его, но он произвёл на нас очень глубокое впечатление. Доклад Хрущёва о Сталине вскрыл тот гигантский гнойник, который многие годы отравлял страну. В школе растерялись. Мы осмелели и выломали из деревянного трафарета нашей школьной газеты «За отличную учёбу» двойной профиль Ленина-Сталина (профиль Сталина в таком медальоне располагался чуть правее ленинского). «Кто вам это разрешил? – гневался Шалва Валентинович. – Немедленно восстановите всё, как было!» Но восстановить мы не смогли бы, если б и захотели. Мы этот профиль разбили. Да и не захотели бы мы его восстанавливать. А заказать другой Шалва Валентинович не решился.
– Это вам так не сойдёт, – грозился он. – Вы ещё за это поплатитесь.
Как в воду глядел.
Комсомольское собрание было посвящено награждению комсомола орденом Ленина за освоение целины. Нам было предложено послать по этому поводу благодарственное письмо в ЦК партии. Такое письмо было делом привычно ритуальным, его зачитала наша учительница немецкого Зоя Михайловна Красовская. Оставалось только проголосовать. Уже произнесли: «Кто за то…» – как я прервал рутинное представление.
– А почему, – спрашиваю, – мы должны благодарить за награду ЦК партии, когда награждает президиум Верховного Совета? Давайте туда и пошлём наше письмо.
Тут же поднявшийся из-за стола на сцене Шалва Валентинович стал объяснять залу, в чём моя ошибка: