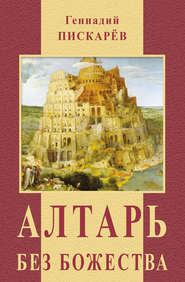По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ныне, обращаясь памятью к временам, когда был я редактором «Сельской жизни» по отделу культуры и сельских школ, сожалею лишь об одном: писал установочные статьи о школьном воспитании и образовании на селе, весьма сдержанно, приглушая застенчиво порывы вскрыть гнойники застоя в этом деле до конца. Правда, сказать удалось все же немало. И хорошего, и не очень.
Счастье не так уж слепо
Получив аттестат зрелости, в котором общий приличный вид портила единственная тройка по черчению – совершенно не усвоенный мной предмет, то ли из-за какого-то особого склада ума, то ли потому, что не имел, чертя по заданию учителя замысловатые фигуры, ни ватмана, ни белой плотной бумаги, не говоря уж об инструментах, таких как циркуль или рейсфедер. Специальную же готовальню я и во сне не видел.
Посему намерение поступить в какое-либо техническое учебное заведение отпало само по себе – там ведь везде требовалось умение понимать и создавать чертежи деталей, блоков тех или иных механизмов, машин. О гуманитарных учебных заведениях, кроме нашей Галичской культпросветшколы, мы знали мало. Учителя, а уж тем более родители, видевшие в нас подросших, способных к физической работе парней и девчат, на поступление в заведения такого толка – не то, что не ориентировали, а не заикались о них. Правда, мне одна из моих бывших учительниц, работавшая в момент окончания мною школы в упомянутой Галичской культпросветшколе, при встрече посоветовала подать заявление к ним, пообещав и определенное содействие при поступлении. Идти я туда не захотел: девчоночья работа какая-то.
Перечитав данную мне классной руководительницей Риммой Алексеевной Смирновой характеристику, я подался в военкомат, к райвоенкому узнать, в какое бы военно-морское училище порекомендовал он мне поступить. У меня забрали документы и попросили подождать вызова на медицинское освидетельствование.
Радостный вернулся домой, где меня поджидали друзья: двоюродный брат Костя Головин и сосед Коля Бонокин – тоже выпускники школы. Они сообщили, что сегодня в деревне Ощепково отмечается престольный праздник, и они намерены сходить туда погулять. Пойду ли я с ними? Какой разговор.
Пошли. Зашли в гости – к своей однокласснице – Вале Сорокиной, созревшей, пышнотелой, кареглазой брюнетке. В нее, как потом выяснится, был тайно влюблен мой двоюродный брат. Ощепковские парни, видимо, догадывались об этом и решили за девушку постоять. Поздно ночью, когда мы выходили из Валиного дома, они ослепили нас электрофонариками, а сзади другой отряд набросился на «пилатовских кавалеров» с ножами. Косте удар пришелся в шею, ему повредили какой-то нерв и рука обвисла. Коле Бонокину изрезали голову, чуть ли не скальп сняли, но черепа не пробили – отделался легко. Мне всадили самодельную финку в левую лопатку. От удара в кость она сломалась, но придись этот удар на сантиметр ниже – лежать бы мне в земле сырой в свои семнадцать лет.
В горячке, вырвавшись из окружения, мы добежали до железнодорожной станции «Бродни», откуда были отправлены в райбольницу.
Вот и такие нравы царствовали в то время в нашей стороне. Кстати, уголовного дела никто по нашему случаю не заводил, тем более, что мы никаких заявлений никуда не подавали.
На вызов военкомата я, понятно, не явился. А заживив рану, стал работать в колхозе, в котором к тому времени начинались особые перемены. На укрепление хозяйств на селе стали присылать так называемых «тридцатитысячников» – партийных, хозяйственных руководителей из городов. Помню «своего» – работника РК КПСС Стёпочкина. Ретивый был человек. Бескорыстный, свято верящий в наведение порядка в разложившейся послевоенной деревне. Сам ходил по домам, «наряжая», выгоняя людей на работу, не спал по ночам, выслеживая местных воришек, поймав коих, облагал штрафами, руганью, но в милицию никого не сдавал. У Стёпочкина была большая семья. Он всю ее перевез в деревню. Жаль, продержался он недолго. Отозвали его снова в райцентр. Через несколько лет встретил я его в городе Буе, живущим на крохотную пенсию в коммунальной квартире. Он узнал меня, подивился, что я вроде бы выбился в люди.
Встретил я тогда и дочку одного, тоже видного у нас партработника Гусарова (женского угодника, любителя солдатских вдовушек и не только), во время хрущевских перемен смещенного со всех ответственных должностей. Как сейчас вижу: в телогрейке, с полным ртом мелких гвоздей он сидит на крыше дома моей бабушки и латает щепой разодранные места кровли. За работу бабушка кормит Гусарова окрошкой, дает какие-то маленькие деньжата. Гусаров искренне, вежливо благодарит старушку. А дочка его со временем возглавит Буйский краеведческий музей, где я ее и увидел, придя с новым районным руководством познакомиться с работой этого культурного центра. Директриса вспомнила меня, пилатовского мальчишку, а теперь сотрудника газеты ЦК КПСС, страшно заинтересовалась, как это я дошел до таких высот. А узнав, что 7 ноября я был на трибунах на Красной площади, стоял рядом с Валентиной Терешковой и другими космонавтами, что неоднократно бывал в Кремле на съездах партии, сессиях Верховного Совета и т. д., работу которых освещал, убедительно стала упрашивать, чтобы я прислал соответствующие свои пропуска и аккредитационные карточки ей для создания специальной экспозиции в районном музее. Я обещал это сделать, но, увы, так и не выполнил обещанного.
А в то далекое послешкольное наше время жилось в деревне нелегко. Мы даже за хлебом ездили в город Буй. Ездили мы, ребята, на товарных поездах, чтобы не платить за билет в пассажирском поезде. «Товарняки» тогда охранялись стрелками, кои зачастую, ради развлечения, гонялись за нами по крышам вагонов, а, поймав, сажали в свою сторожку, приговаривая: «Будете сидеть до той поры, пока свой хлеб до крошки не съедите». А хлеба в мешке у каждого было минимум как на две недели для всей семьи. Конечно, нас отпускали, и мы опять цеплялись за проходящий в сторону нашей станции товарняк. Нередко поезд проходил эту станцию без остановки. Приходилось прыгать на ходу. Занятие весьма опасное! Скорость поездов тогда доходила до 60 километров в час. Зимой прыгать представлялось опасным вдвойне: можно было напороться на металлический занесенный снегом пикет. Они, эти пикеты, сделанные из обрубков неисправных рельс, ставились через каждые 100 метров.
Право, каждый такой прыжок с бегущего с огромной скоростью состава можно смело приравнять к прыжку с самолета. Кажется, после каждого поездного прыжка, я терял даже в весе. Домой бежал от станции легко, вприпрыжку, ни разу не подумав, что мог бы и покалечиться. Да, Бог меня миловал, а вот приятеля Славку Кукова нет. Влетел он однажды в невидимый рельсовый обрубок…
Зимой в деревне постоянной работы, кроме как на животноводческой ферме, вообще-то нет. И мы в надежде на заработок, уходили на лесозаготовки, прибившись к разношерстным, в основном состоящих из бывших уголовников, бригадам. Лес пилили с корня ручными пилами. Трелевали его, вывозили к железнодорожным станциям, вручную грузили, воруя для стяжек проволоку у местных связистов.
Расчет после работы производился с нами «клиентом» – так называли мы заказчика-работодателя – прямо на пеньке. Уголовная братия спускала, т. е. пропивала заработанное сразу же в ближайшем магазине. Приобщались к этому действу и мы. Но иногда удавалось и вывернуться, довести кой-какие гроши до матери.
Такой режим я выдержал лишь одну зиму. По лету нам с двоюродным братом, под видом поступления на учебу, удалось «удрать» из колхоза и поступить в Костромскую дистанцию связи разнорабочими. Мы тянули провода вдоль строящейся тогда железной дороги, должной соединить Кострому с городом Галичем. Столбы под провода готовили из лесин прорубленной нами же просеки. Ямы под опоры долбили ломами, копали лопатами. Параллельно с нами работали бригады путейцев, строя насыпи, укрепляя их дерном. На насыпи укладывали шпалы и рельсы. Среди путейцев трудилось немало бывших уголовников, а на укладку дерна, помнится, как-то пригнали настоящих женщин-зэчек. Вот уж насмотрелись мы тогда похабства. Но удивительное дело, ко многим из нас, лично ко мне, оно не пристало. Честное слово, я даже матом не ругался. Не владею этим искусством и сейчас.
Зато Кострома, с многочисленными церквами, старейший город России, давшей ей царскую династию Романовых, Кострома – родина философа Рязанова, пристанище А. Н. Островского, автора рожденной им на этой земле языческой, удивительно-поэтической пьесы «Снегурочка», очаровала меня. Как и Матушка-Волга, несущая свои святые воды, можно сказать, чуть ли не посредине святого города.
А жили мы в вагончиках. За порядком в них следила племянница нашего бригадира Николая Макланчука. Между прочим, именно в вагончике я лег впервые в постель, заправленную белоснежной простыней. И здесь, в Костроме, примерил импортный, присланный служившим в Германии дядей Костей моднейший, с зауженными брюками, коричневый, с синей продольной полоской костюм. Как он не вязался с моими рабочими яловыми ботинками, (других не было) и грубой клетчатой рубахой! Мы сдали костюм в комиссионку, купив на вырученные деньги широченные штаны и на «белой микропорке» красные ботинки. Такая экипировка считалась у нас в то время и красивой, и стильной.
Народ в нашей связисткой бригаде был дюже разнохарактерный и своеобразный. Все мне казались удивительными людьми: начиная с Ивана Розума, читавшего и покупавшего на свои деньги Льва Толстого, кончая Володькой Захаровым, поспорившим на поллитровку, что целый год постригаться не будет. Но в любом случае, в отличие от «лесных братьев», воздействовали они на мое нравственное состояние куда как плодотворнее. А запруженная белоснежными лайнерами, баржами, катерами, лодками Волга вновь всколыхнула «матросскую мечту».
И вот в один прекрасный день я оказался в городе Рыбинске, в управлении местного пароходства. Чуть было не оформился палубным рабочим на судно малого каботажа. Но в отделе кадров на меня обратил внимание какой-то пожилой мужчина с красивым «крабом» на фуражке. Как потом выяснилось, им оказался случайно зашедший сюда капитан пассажирского парохода «Станюкович», курсирующего между Москвой и Пермью, Епифанов. Он-то и пригласил меня на работу к себе. Сказал, когда надо явиться на судно, которое находилось на ремонте в Хлебниковской базе под Москвой, Я явился в назначенный срок. Грязный, оборванный, голодный. Потому как, стесняясь быть дома без работы, ждал назначенного капитаном «Станюковича» срока на вокзале в Рыбинске, подрабатывая на хлеб в это время выполнением мелких поручений носильщиков. В Москву я приехал без билета на крыше поезда, разыскал Хлебниковскую базу, причал, где швартовался мой пароход. Боцман, стоявший у трапа, увидев меня, затрапезного, шагнувшего к нему, грудью закрыл дорогу. Но тут из рубки, сверху раздался голос капитана: «Пропусти его, Расторгуев. Это мой кадр».
А далее началась сказка. Общежитие в поселке «Водники», теплый душ, постель, кормежка, выдача обмундирования.
Первый рейс, Химкинский северный порт – здание речного вокзала в виде плывущего корабля, утро под Угличем, – пароход идет по водохранилищу, нависшему над городом, над маковками церквей, разноцветных крышами и кронами деревьев. И, кажется, не по водам плывет пароход наш, а парит, как воздушный корабль, над городом древним. Чудо!
Чудо длилось несколько месяцев. Города, селенья вдоль великой русской реки, левитановский Плёс, Волжские угоры в городе Горьком, татарская с мечетями и башнями времен Золотой Орды Казань, уральская столица Пермь (в ту пору город Молотов), огневые нефтевышки в Башкирских степях, Набережные Челны, где был создан в свое время первый в России химический завод, и где реактивы в цехах смешивали лопатой за поллитровку выносливые татары – все это волновало до глубины души, ложилось на дно ее вязским слоем, которому в будущем суждено будет всколыхнуться и расцвести букетами моих наивных рассказов об увиденном. Рождались стихи:
Ночь. Все заснуло. Дремлет Волга
И лишь суда не спят – плывут.
Для них луна пунктиром желтым
Вдоль Волги вывела маршрут.
В тумане белом – черный берег.
Идут суда сквозь сонный мир.
И среди них, больших, затерян,
Невидим маленький буксир.
О борт волна надрывно бьется.
Как-будто плачет. Мир жесток.
Он издевается, смеется
Над тем, кто горд и одинок.
Мир в душной тьме и в сонном царстве.
А кто развеет эту тьму?
Здесь люд в бессмысленном коварстве
Друг друга травит. Почему?
«Все в книжках есть, – рычит сердито
Мальчишке повар, – это так».
Спасибо, кок! Каким инстинктом
Ты указал на тот маяк?
Волна песчаный берег лижет
И черной галькою шуршит,
Но нет еще на свете книжек
Про русский искаженный быт.
Он их напишет!
Зло дней грешных
Ложится в душу чередом,
Как снег февральских вьюг кромешных,
На Волгу, скованную льдом.
Придет весна и южный ветер
Растопит снег и вспучит лед.
И есть ли что сильней на свете,
Чем сила вешних волжских вод?
…Спит Волга. Ветер воду морщит.
Буксир в сиянии огней.
Плывет на нем великий Горький –
Пока что Пешков Алексей.
О, какие вечера проходили в нашей кают-компании, где после вахты за общим обеденным столом усаживались все: палубные матросы и мотористы, механики и штурманы, и сам капитан Епифанов. Повариха Нина угощала всех одинаково: наваристым борщом, макаронами по-флотски, густым компотом. Кормили на корабле нас бесплатно, качественно, что, наверняка, сохранило мой молодой организм от нежелательных изъянов. Двоюродный брат мой Костя, оставшийся на вольных хлебах, питающийся в юности кое-как, быстрехонько заработал язву желудка.
Не забыть мне с песнями и танцами организованных командой и пассажирами общих увеселений при заходе солнца, на верхней палубе корабля. Я был тогда влюблен во всех – даже в нашего старого ворчливого матроса Андрея Смурова, которому тоже посвятил стихи:
Река, река! Его стихия.
Он, как мальчишка, с давних пор
Влюблен в разливы голубые,
В свет бакенов, речной простор.
Он стар. Зимою к непогоде
Сдает железный организм.
Спина побаливает вроде,
К ногам крадется ревматизм.
Но лишь подует ветер с юга,
И скинет лед с себя река,
Как утихают все недуги –