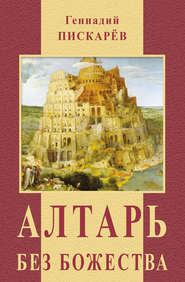По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Болячек нет у старика.
И вот он бодрою походкой
Уже в затон шагает вновь,
Где в ряд стоят буксиры, лодки,
Где чаек крик и крик гудков.
Он – «волк морской». Он полон планов
И из себя он важный весь.
Бранит мальчишек – капитанов
За их начальственную спесь.
Они с улыбкой переносят
Его ворчанье и укор.
А впереди – речные плесы,
А впереди – речной простор.
Сверкают блики золотые
На волнах Волги – вверх и вниз.
Река, река! Его стихия,
Его любовь, работа, жизнь.
И здесь на корабле произошла у меня судьбоносная встреча с одним человеком. Это случилось на пристани в Камбарке. По просьбе местного шкипера наш капитан согласился перевезти в трюме своего корабля несколько тюков с чаем. Грузчиками назначили нас, матросов. По трапу на спинах таскаем весело в трюм огромные, но легкие по весу грузы. Со стороны это впечатляет, видно. Недаром все пассажиры высыпают из кают, смотрят на нас, аплодируют. Справившись с работой, получив наличными за шабашку, идем с матросом Колькой Гарцевым в буфет (их на корабле, как и ресторанов несколько) выпить по кружке пива. И вдруг видим – направляется в нашу сторону некий джентльмен.
– Ребята, наблюдаю за вами. Вот это работа! Прямо картина Максима Горького, описание им разгрузки севшей на мель баржи. Поэзия в труде да и только. После этого можно принять кое-что и покрепче пива.
Смотрим удивленно на чудака; а он ничтоже сумняшеся, заказывает три стопки старки – одну себе, две нам. Не имея скромности отказываться, мы выпиваем предложенное. Завязывается разговор, заканчивающийся декламацией Григорием Петровичем (так назвался наш визиви) стихов почти неизвестного тогда нам Сергея Есенина и приглашением посетить каюту, в которой он отдыхает со своими друзьями. «До Горького они были с женами, но там сошли – навестить своих подруг», – пояснил Петрович и попросил, когда придем к нему, захватить какой-либо музыкальный инструмент. У меня была гармошка, у Кольки – гитара.
Так все начиналось, а кончилось тем, что по приходу в Москву Григорий Петрович дал нам свой адрес и телефон, пригласил к себе в гости. Мы не воспользовались этим смелым поступком нашего загадочного пассажира. Снова ушли в рейс. Вернулись через 18 дней. Подходим к Химкинскому причалу, глядь, среди встречающих Петрович. Когда пассажиры сошли, он направился к трапу, но дорогу ему преградил боцман Расторгуев, суровый и неприступный страж. Петрович достает из кармана красненькую книжицу – удостоверение. Боцман растерянно пятится. А тут и мы выскакиваем: «Петрович, каким образом ты здесь?» Расторгуев, кажется, балдеет окончательно.
Григорий Петрович Панкратов, (о нем я писал в своих ранних книгах) – лауреат Сталинской премии, один из создателей атомной бомбы, референт Совета Министров СССР, проживающий на Фрунзенской набережной в доме 50, где проживали Лазарь Каганович, тогдашний министр путей сообщения Бещев, другие высокие правительственные лица, пришел встретить «своих матросов», которые, когда он отдыхал у нас на корабле, по-свойски могли в любое время дня и ночи достать ему и его приятелям случающуюся нехватку хмельного.
И вот мы в доме 50 на Фрунзенской набережной. Минуя, внимательно осмотревшего нас в подъезде у лифта, «консьержа» (не иначе сотрудника КГБ), впервые оказываемся в столичной квартире – да какой. Паркетный пол, мягкие кресла и шкафы, шкафы с книгами не библиотечными – собственными. Они-то и поразили меня больше всего, пожалуй, впечатление от них значительно превзошло не столь еще давнее потрясение от белых простыней в железнодорожном связистском вагончике. Зазвонил телефон, на чей-то голос в трубке Петрович радостно заговорил:
– Игорь Васильевич, ну, конечно же, помню. Непременно, непременно буду.
Оказалось, как объяснил нам, некоторое время спустя Панкратов, звонил ему… Курчатов.
За изысканно накрытым столом мы разговаривали с большим человеком, которому не составляло труда установить уровень интеллектуального развития каждого из нас. Во мне он, видимо, нашел что-то такое, предложил с матросским делом закруглиться и идти дальше, подать, например, заявление в химико-технологический институт имени Менделеева, где он, Григорий Петрович Панкратов, читает лекции студентам и аспирантам. Вероятно, мне удалось бы поступить туда, но, увы, я уже сдал документы в Горьковское военизированное училище на штурманское отделение.
Но судьба – суд Бога – отвели от меня и эту чашу. В штурманы я не годился: медкомиссия выявила какой-то совершенно не замечаемый мною дефект в левом глазу. Предложение переадресовать заявление на электротехническое отделение, я отклонил, не колеблясь, лишь только глянул на показанную затейливо-витиеватую электросхему обычного парохода.
Осенью, по окончанию навигации «забрили» меня в солдаты. Попал в курсантскую школу механиков-водителей легких танков и САУ при парадной Таманской дивизии, находившейся в сорока километрах от Москвы. Во время первого же увольнения, а нам его давали на двое суток, я позвонил Панкратову и был приглашен в гости. Вечером того же дня Петрович повел меня в театр – Большой театр. Достать билет ему проблемы не составляло: работник Совмина СССР имел для этого специальную книжечку с отрывными талонами. Смотрели «Пламя Парижа». У меня шла кругом голова.
Шла она кругом и от того, что к нам в дивизию часто приезжали высокие военачальники, свои и министры вооруженных сил стран Варшавского договора, для которых мы разыгрывали успешно показные с имитацией атомного взрыва военные действия, за что многие из нас получали иностранные знаки отличия, а от своего командования – краткосрочные отпуска на родину. Лично я таким образом поощрялся не раз, удивляя земляков своими частыми появлениями в родной деревне. Такого здесь не бывало со времен службы на Черноморском флоте Коли Трусова – выходца из соседней деревни Фоминское. Коля был спортсменом, отстаивал честь черноморцев в лодочных гонках, после соревнований, заняв призовое место, он, как правило, отпускался на побывку домой. Коля был парень горячий и буйный. Любил выпить и позадираться. Дядя Ваня Трусов, отец бравого моряка, бывало, уж и не радовался очень, когда сынок его в полосатой тельняшке и клешах появлялся очередной раз на пороге родного дома. А провожая его обратно на службу, случалось, и вагон перекрестит, куда посадит отгулявшего и отплясавшего на сельских вечерках маримана: «Слава Богу, спровадил. Теперь спокойнее дома станет». Но, глядь, через месяца три Коля опять в отпуске, гуляет, пьет, бузит.
Типаж, подобный Коле Трусову, довелось, как ни странно, встретить мне и в Таманской дивизии, когда после окончания школы механиков был распределен в мотострелковый полк водителем на командирскую машину. Я ее принимал поздней осенью от демобилизующегося Виктора Хромова. В деревне, куда должен был вернуться отслуживший срочную Виктор, из родни у него была одна бабушка. Родители умерли рано. Дедушка скончался, когда Витька дослуживал полагающийся срок в армии, на похороны предоставили отпуск. Кстати, он и раньше ездил к своим старикам довольно часто. Командование учитывало, что тем, одиноким нужна помощь внука: дров заготовить, сена накосить, дом подлатать.
Деда Виктор проводил в последний путь по-бойцовски, устроив на могиле из стащенных со стрельбища ракет и петард громоподобный салют, чем немало перепугал бабушку и селян.
После смерти деда, в штабе полка Виктору посоветовали, чтобы он попросил в очередном письме бабушку обратиться в местный военкомат с заявлением о досрочной демобилизации внука. Там, дескать, пойдут навстречу, вышлют соответствующую бумагу в часть, которая и примет положительное решение. Витя с радостью ухватился за подкинутую начальством идею, написал бабусе слезное послание. И вот через некоторое время раздается в роте звонок – из штаба, дежурный просит зайти туда механика Хромова: от бабушки пришел ответ на имя командира части.
Хромов, встрепанно-вобужденный бежит в штаб, радостно оповещая друзей: «Ребята, ура! Дембель!»
Через некоторое время он возвращается, как оплеванный, ругаясь, кляня свою бабку: «Старая карга, надо же что написала! Не нуждаюсь, говорит, в досрочной демобилизации Витьки. Пусть служит подольше: мне без него переживаний меньше».
А вообще-то, дворцовая, кремлевская дивизия формировалась из отборных парней центральных областей России. Все они, как правило, имели общее среднее или среднетехническое образование. Служили в ней и недоучившиеся студенты вузов, в которых не имелось военных кафедр. Так в одной роте со мной оказался, например, мобилизованный со второго курса философского факультета МГУ Юра Хрусталев. Особыми познаниями, склонностью к неординарному мышлению он поражал всех, меня, закостенелого в знаниях, определенной школьной программой, особенно. Помню, Юра дал мне почитать книгу Вересаева «Пушкин в жизни». Она шокировала меня. Пушкин, святой, непорочный, как представляли его школьные учебники, оказывается по выходу из лицея «представлял собою тип самого грязного, разнузданного разврата» (воспоминания однокашника Александра – графа Корфа), лечился от венерической болезни. А царь, тот самый царь Николай Палкин, что сгубил по общему мнению гения России, сказал однажды недоброжелателям и критикам великого поэта: «Пушкин принадлежит не нам, а будущему поколению». Кстати, этот самый Палкин выплатил все долги поэта, проявил отечественную заботу о его семье. Впоследствии в своих ранних книгах я часто обращался к деяниям нашего национального гения, сумел боле менее объективно взглянуть и на творчество его и на поведение в жизни. Но тогда мой нетренированный ум запечатлел лишь скабрезные вызывающе-нахальные проявления в поступках человека, раздираемого буйством, противоречивостью, ложью и лицемерием окружающей среды. Со зла я даже решился «на разговор с Пушкиным». О зиме.
«Зима! Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь.
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью, как-нибудь»
Так Александр Сергеич Пушкин
Писал с восторгом о зиме.
А сам, наверно, пил из кружки
Вино иль водку, знать не мне.
Конечно, плохо ль так зимою.
Кружится белый снег, как пух,
Леса, одетые парчою,
Ни комаров тебе, ни мух.
Иль в лисью шубу, завернувшись,
Часок по полю побродить.
Полезен холод, а вернувшись,
Писать, читать и снова пить.
Я сам, наверное, не хуже,
Писал бы вирши, друг ты мой
О первом снеге, вьюге, стуже,
Когда б стоял передо мной
Вот так же водочки графин,
А у окна пылал графин.
Но, Александр Сергеич, милый,
У нас зиме никто не рад.
Для нас зима, что в спину вилы,
И, как для нивы, летний град.
Что скажешь ты, я знать хотел бы,
Когда в мороз, не ночь, не две
Со мною вместе погремел бы
Костями в танке, на броне.
Ты чувствовал себя бы скверно,
Ты б дар поэта потерял
И как мне кажется, наверно,
Ты ждать того бы дня не стал,
Когда тебя Дантес пристрелит,
А сам покончил бы с собой,
Я в этом больше, чем уверен,
Характер вольный, зная твой.
Сейчас за голову хватаешься, как в нее могло прийти такое свинство? А тогда, движимый ёрничеством и цинизмом, написал в день рождения одного своего однополчанина Бориса Алалыкина вот эти непотребные стихи. (Надо сказать, что излюбленным делом у Бори было поболтать на досуге, в солдатской курилке, о «бабах», говорил он о них вожделенно, но чувствовалось, что тесных связей ни с кем у него не было):
Он двадцать лет прожил в кошмаре
В предчувствии грехобеды.
Но без нее он был, как на пожаре
Пожарная команда без воды.
О, бедный отрок Алалыкин,
И вот он бодрою походкой
Уже в затон шагает вновь,
Где в ряд стоят буксиры, лодки,
Где чаек крик и крик гудков.
Он – «волк морской». Он полон планов
И из себя он важный весь.
Бранит мальчишек – капитанов
За их начальственную спесь.
Они с улыбкой переносят
Его ворчанье и укор.
А впереди – речные плесы,
А впереди – речной простор.
Сверкают блики золотые
На волнах Волги – вверх и вниз.
Река, река! Его стихия,
Его любовь, работа, жизнь.
И здесь на корабле произошла у меня судьбоносная встреча с одним человеком. Это случилось на пристани в Камбарке. По просьбе местного шкипера наш капитан согласился перевезти в трюме своего корабля несколько тюков с чаем. Грузчиками назначили нас, матросов. По трапу на спинах таскаем весело в трюм огромные, но легкие по весу грузы. Со стороны это впечатляет, видно. Недаром все пассажиры высыпают из кают, смотрят на нас, аплодируют. Справившись с работой, получив наличными за шабашку, идем с матросом Колькой Гарцевым в буфет (их на корабле, как и ресторанов несколько) выпить по кружке пива. И вдруг видим – направляется в нашу сторону некий джентльмен.
– Ребята, наблюдаю за вами. Вот это работа! Прямо картина Максима Горького, описание им разгрузки севшей на мель баржи. Поэзия в труде да и только. После этого можно принять кое-что и покрепче пива.
Смотрим удивленно на чудака; а он ничтоже сумняшеся, заказывает три стопки старки – одну себе, две нам. Не имея скромности отказываться, мы выпиваем предложенное. Завязывается разговор, заканчивающийся декламацией Григорием Петровичем (так назвался наш визиви) стихов почти неизвестного тогда нам Сергея Есенина и приглашением посетить каюту, в которой он отдыхает со своими друзьями. «До Горького они были с женами, но там сошли – навестить своих подруг», – пояснил Петрович и попросил, когда придем к нему, захватить какой-либо музыкальный инструмент. У меня была гармошка, у Кольки – гитара.
Так все начиналось, а кончилось тем, что по приходу в Москву Григорий Петрович дал нам свой адрес и телефон, пригласил к себе в гости. Мы не воспользовались этим смелым поступком нашего загадочного пассажира. Снова ушли в рейс. Вернулись через 18 дней. Подходим к Химкинскому причалу, глядь, среди встречающих Петрович. Когда пассажиры сошли, он направился к трапу, но дорогу ему преградил боцман Расторгуев, суровый и неприступный страж. Петрович достает из кармана красненькую книжицу – удостоверение. Боцман растерянно пятится. А тут и мы выскакиваем: «Петрович, каким образом ты здесь?» Расторгуев, кажется, балдеет окончательно.
Григорий Петрович Панкратов, (о нем я писал в своих ранних книгах) – лауреат Сталинской премии, один из создателей атомной бомбы, референт Совета Министров СССР, проживающий на Фрунзенской набережной в доме 50, где проживали Лазарь Каганович, тогдашний министр путей сообщения Бещев, другие высокие правительственные лица, пришел встретить «своих матросов», которые, когда он отдыхал у нас на корабле, по-свойски могли в любое время дня и ночи достать ему и его приятелям случающуюся нехватку хмельного.
И вот мы в доме 50 на Фрунзенской набережной. Минуя, внимательно осмотревшего нас в подъезде у лифта, «консьержа» (не иначе сотрудника КГБ), впервые оказываемся в столичной квартире – да какой. Паркетный пол, мягкие кресла и шкафы, шкафы с книгами не библиотечными – собственными. Они-то и поразили меня больше всего, пожалуй, впечатление от них значительно превзошло не столь еще давнее потрясение от белых простыней в железнодорожном связистском вагончике. Зазвонил телефон, на чей-то голос в трубке Петрович радостно заговорил:
– Игорь Васильевич, ну, конечно же, помню. Непременно, непременно буду.
Оказалось, как объяснил нам, некоторое время спустя Панкратов, звонил ему… Курчатов.
За изысканно накрытым столом мы разговаривали с большим человеком, которому не составляло труда установить уровень интеллектуального развития каждого из нас. Во мне он, видимо, нашел что-то такое, предложил с матросским делом закруглиться и идти дальше, подать, например, заявление в химико-технологический институт имени Менделеева, где он, Григорий Петрович Панкратов, читает лекции студентам и аспирантам. Вероятно, мне удалось бы поступить туда, но, увы, я уже сдал документы в Горьковское военизированное училище на штурманское отделение.
Но судьба – суд Бога – отвели от меня и эту чашу. В штурманы я не годился: медкомиссия выявила какой-то совершенно не замечаемый мною дефект в левом глазу. Предложение переадресовать заявление на электротехническое отделение, я отклонил, не колеблясь, лишь только глянул на показанную затейливо-витиеватую электросхему обычного парохода.
Осенью, по окончанию навигации «забрили» меня в солдаты. Попал в курсантскую школу механиков-водителей легких танков и САУ при парадной Таманской дивизии, находившейся в сорока километрах от Москвы. Во время первого же увольнения, а нам его давали на двое суток, я позвонил Панкратову и был приглашен в гости. Вечером того же дня Петрович повел меня в театр – Большой театр. Достать билет ему проблемы не составляло: работник Совмина СССР имел для этого специальную книжечку с отрывными талонами. Смотрели «Пламя Парижа». У меня шла кругом голова.
Шла она кругом и от того, что к нам в дивизию часто приезжали высокие военачальники, свои и министры вооруженных сил стран Варшавского договора, для которых мы разыгрывали успешно показные с имитацией атомного взрыва военные действия, за что многие из нас получали иностранные знаки отличия, а от своего командования – краткосрочные отпуска на родину. Лично я таким образом поощрялся не раз, удивляя земляков своими частыми появлениями в родной деревне. Такого здесь не бывало со времен службы на Черноморском флоте Коли Трусова – выходца из соседней деревни Фоминское. Коля был спортсменом, отстаивал честь черноморцев в лодочных гонках, после соревнований, заняв призовое место, он, как правило, отпускался на побывку домой. Коля был парень горячий и буйный. Любил выпить и позадираться. Дядя Ваня Трусов, отец бравого моряка, бывало, уж и не радовался очень, когда сынок его в полосатой тельняшке и клешах появлялся очередной раз на пороге родного дома. А провожая его обратно на службу, случалось, и вагон перекрестит, куда посадит отгулявшего и отплясавшего на сельских вечерках маримана: «Слава Богу, спровадил. Теперь спокойнее дома станет». Но, глядь, через месяца три Коля опять в отпуске, гуляет, пьет, бузит.
Типаж, подобный Коле Трусову, довелось, как ни странно, встретить мне и в Таманской дивизии, когда после окончания школы механиков был распределен в мотострелковый полк водителем на командирскую машину. Я ее принимал поздней осенью от демобилизующегося Виктора Хромова. В деревне, куда должен был вернуться отслуживший срочную Виктор, из родни у него была одна бабушка. Родители умерли рано. Дедушка скончался, когда Витька дослуживал полагающийся срок в армии, на похороны предоставили отпуск. Кстати, он и раньше ездил к своим старикам довольно часто. Командование учитывало, что тем, одиноким нужна помощь внука: дров заготовить, сена накосить, дом подлатать.
Деда Виктор проводил в последний путь по-бойцовски, устроив на могиле из стащенных со стрельбища ракет и петард громоподобный салют, чем немало перепугал бабушку и селян.
После смерти деда, в штабе полка Виктору посоветовали, чтобы он попросил в очередном письме бабушку обратиться в местный военкомат с заявлением о досрочной демобилизации внука. Там, дескать, пойдут навстречу, вышлют соответствующую бумагу в часть, которая и примет положительное решение. Витя с радостью ухватился за подкинутую начальством идею, написал бабусе слезное послание. И вот через некоторое время раздается в роте звонок – из штаба, дежурный просит зайти туда механика Хромова: от бабушки пришел ответ на имя командира части.
Хромов, встрепанно-вобужденный бежит в штаб, радостно оповещая друзей: «Ребята, ура! Дембель!»
Через некоторое время он возвращается, как оплеванный, ругаясь, кляня свою бабку: «Старая карга, надо же что написала! Не нуждаюсь, говорит, в досрочной демобилизации Витьки. Пусть служит подольше: мне без него переживаний меньше».
А вообще-то, дворцовая, кремлевская дивизия формировалась из отборных парней центральных областей России. Все они, как правило, имели общее среднее или среднетехническое образование. Служили в ней и недоучившиеся студенты вузов, в которых не имелось военных кафедр. Так в одной роте со мной оказался, например, мобилизованный со второго курса философского факультета МГУ Юра Хрусталев. Особыми познаниями, склонностью к неординарному мышлению он поражал всех, меня, закостенелого в знаниях, определенной школьной программой, особенно. Помню, Юра дал мне почитать книгу Вересаева «Пушкин в жизни». Она шокировала меня. Пушкин, святой, непорочный, как представляли его школьные учебники, оказывается по выходу из лицея «представлял собою тип самого грязного, разнузданного разврата» (воспоминания однокашника Александра – графа Корфа), лечился от венерической болезни. А царь, тот самый царь Николай Палкин, что сгубил по общему мнению гения России, сказал однажды недоброжелателям и критикам великого поэта: «Пушкин принадлежит не нам, а будущему поколению». Кстати, этот самый Палкин выплатил все долги поэта, проявил отечественную заботу о его семье. Впоследствии в своих ранних книгах я часто обращался к деяниям нашего национального гения, сумел боле менее объективно взглянуть и на творчество его и на поведение в жизни. Но тогда мой нетренированный ум запечатлел лишь скабрезные вызывающе-нахальные проявления в поступках человека, раздираемого буйством, противоречивостью, ложью и лицемерием окружающей среды. Со зла я даже решился «на разговор с Пушкиным». О зиме.
«Зима! Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь.
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью, как-нибудь»
Так Александр Сергеич Пушкин
Писал с восторгом о зиме.
А сам, наверно, пил из кружки
Вино иль водку, знать не мне.
Конечно, плохо ль так зимою.
Кружится белый снег, как пух,
Леса, одетые парчою,
Ни комаров тебе, ни мух.
Иль в лисью шубу, завернувшись,
Часок по полю побродить.
Полезен холод, а вернувшись,
Писать, читать и снова пить.
Я сам, наверное, не хуже,
Писал бы вирши, друг ты мой
О первом снеге, вьюге, стуже,
Когда б стоял передо мной
Вот так же водочки графин,
А у окна пылал графин.
Но, Александр Сергеич, милый,
У нас зиме никто не рад.
Для нас зима, что в спину вилы,
И, как для нивы, летний град.
Что скажешь ты, я знать хотел бы,
Когда в мороз, не ночь, не две
Со мною вместе погремел бы
Костями в танке, на броне.
Ты чувствовал себя бы скверно,
Ты б дар поэта потерял
И как мне кажется, наверно,
Ты ждать того бы дня не стал,
Когда тебя Дантес пристрелит,
А сам покончил бы с собой,
Я в этом больше, чем уверен,
Характер вольный, зная твой.
Сейчас за голову хватаешься, как в нее могло прийти такое свинство? А тогда, движимый ёрничеством и цинизмом, написал в день рождения одного своего однополчанина Бориса Алалыкина вот эти непотребные стихи. (Надо сказать, что излюбленным делом у Бори было поболтать на досуге, в солдатской курилке, о «бабах», говорил он о них вожделенно, но чувствовалось, что тесных связей ни с кем у него не было):
Он двадцать лет прожил в кошмаре
В предчувствии грехобеды.
Но без нее он был, как на пожаре
Пожарная команда без воды.
О, бедный отрок Алалыкин,