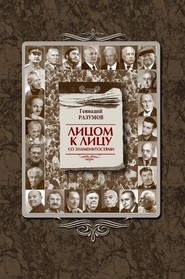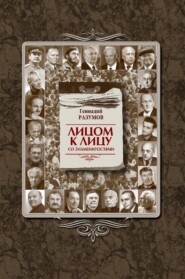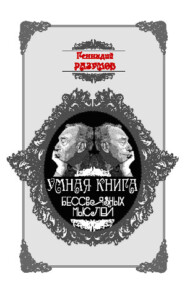По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зебра полосатая. На переломах судьбы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От такого отлупа у меня щипание в глазах перешло в мокрую стадию, а мороженщица, заметив вопросительно-укоризненные взгляды стоявших рядом взрослых покупателей, уже не так озверело добавила:
– Вот жди, когда все распродадут, посмотрим, если что останется.
Но я ничего ждать не стал и, размазывая слезы по щекам, побежал к бабушке…
Зачем так странно, так несправедливо устроена память? Почему все плохое остается в ней с большими подробностями, а хорошее забывается? Вот ведь ту детскую обиду я помню в деталях, а как конкретно она завершилась, забыл. Скорее всего, моя энергичная бабушка поставила на место ту подлую продавщицу, а может быть, она заплатила за мороженое еще раз. Но вкус у него был совершенно обалденный!
Почти по прямой ассоциации вспомнил я сейчас и другие встретившиеся мне хитроумства шустрых продавцов холода-мороза. В войну в тыловом уральском Златоусте нам, эвакуированным, продавалось так называемое “молоко”, замороженное в тарелках льдышками-дисками, которые при оттаивании превращались в чуть белую водяную муть – можно себе представить, сколько там было жира и прочих присущих молоку ингредиентов.
Уже в брежневские времена на Преображенском рынке в Москве мы покупали мороженую треску, которая при оттаивании заставляла ахнуть от удивления и зарычать от возмущения. Бывшая полненькой, а теперь худосочная тощая рыбка, потеряв свой ледяной привес, оказывалась лежащей в миске, полностью заполненной мутной белесой водой.
А вот еще одно на сей раз южное ноу-хау, тайну которого раскрыл мне как-то в Ташкенте на площади Навои один разговорчивый сосед по очереди за бочковым пивом.
– Настоящим пивком покайфовать можно только с утра, когда его привозят, – объяснил он, – пока лед, который кидают в бочку, еще не растаял. А потом это уже не пиво, а одна вода.
Но в те времена нам, послевоенным малолеткам, никакие взрослые хитрости были неизвестны, непонятны и неинтересны. Для нас быстрее бы погрузить губы в ярко-белую сладкую мякоть – вот что было нашим главным – сказочным вожделением. С каким восторгом, с каким наслаждением скользил нетерпеливый язык по ледяной снежной вкуснятине. Сколько бы потом я не ел всяких крем-брюлеевых, ванильных, ореховых, шоколадных, ягодных и прочих сладких мороженых изысков, ничего подобного я больше никогда не испытывал.
Среди конфетных эксклюзивов особое место занимали шоколадные “бомбы”. Это были в основном круглые полые шары, внутри которых иногда оказывались даже маленькие “секретки” – деревянные или тоже шоколадные игрушечные машинки, куколки, солдатики.
А в скучной повседневности моего детского питания царствовала противная манная каша, которая, как считала мама и бабушка, должна была нарастить мяса на мои торчавшие во все стороны кости. Я этого никак не мог понять, так как думал, что для моего умяснения больше подходит мясо курочки или на худой конец овечки. А еще воротило меня от мерзкого пойла, которое называлось рыбьим жиром и которое впихивалось в меня каждый день двумя большими столовыми ложками. Он, видите ли, должен был предотвратить тот самый рахит. Другим отвратным питьем, которым во мне травили глистов, была какая-то вонючая адонисно-ромашково-тыквенная настойка, вызывавшая у меня рвотные позывы.
Противоположностью этим гадостям был прекрасный сладкий “гоголь-моголь”, самое лучшее лечебное кушанье. Он ублажал меня и скрашивал вынужденное домашнее затворничество, которое обрушивали на меня с неизменной частотой повторяемости гнусные враги детских радостей – простуды, грипы, ангины, кашли и сопли. Со временем, чтобы понаслаждаться тем вкуснейшим из лекарств, я даже стал хитрить, жалуясь на боль в горле, хотя оно еще только слегка саднило или просто першило.
Гоголем-моголем называлась роскошная, необыкновенная, сказочная масса, которую мама чайной ложкой тщательно перемешивала и растирала в старинной бабушкиной фарфоровой чашке. Предвкушая удовольствие, в нетерпеливом ожидании я смотрел, как быстрым ударом ножа она разбивала сырое куриное яйцо, отделяла от него желток, выливала в чашку, потом клала туда кусок сливочного масла, насыпала сахарный песок и какао-порошок “Золотой ярлык”. Это была настоящая пища богов, особенно, как я позже выяснил, врачевателя Асклепия, сына красавца бога Аполлона.
Вообще, считалось, что мне, слишком худому и хилому, следует ограничить свою неугомонность, перестать носиться, как угорелому, и больше сидеть за чтением полезных книжек и за пианино, укрепляя пальцы и развивая слух музыкальными гаммами. Но моей усидчивости хватало только на нудные школьные часы, остальное время отдавалось двору – салочкам с колдунчинами, пряткам, прыгалкам, городкам и другим шумным играм, пришедшим к нам из подмосковских деревень, стремительно опустошавшихся набиравшими размах индустриализацией и коллективизацией.
* * *
В 1940 году после заключения пресловутого Пакта Рибентропа-Молотова из Германии в Москву приехали “по обмену опытом” немецкие специалисты-сталелитейщики. От этого события у нас в доме остался набор столовых ножей и вилок с выгравированными на них двумя пляшущими человечками, логотипом Рура. Еще в юности я почему-то думал, что это очень ценное столовое серебро, хранил его в отдельной упаковке и в повседневный обиход не пускал. Я даже привез его в Америку. На самом же деле, он оказался простым совсем потемневшим от времени железом, лишь чуть-чуть улучшенным какими-то никелевохромовыми присадками. По-видимому, в то время германскому Рейху было не к чему возить Советам дорогие изделия и, тем более, показывать некие свои разработки, важные для военной техники.
Мой папа работал в то время в одном из ведущих “почтовых ящиков”, как тогда назывались “номерные” закрытые учреждения оборонного назначения, названия и адреса которых скрывались за таинственными цифрами (номерами) и аббревиатурами. Так, его заведение обозначалось ТСПИ-6” (Государственный Специальный Проектный Институт № 6). Отец был довольно успешным инженером-металургом и, видимо, поэтому его неоднократно приглашали на всякие важные совещания, кажется, однажды он побывал даже у знаменитого промышленного наркома С.Орджоникидзе.
С одного такого, на сей раз немецко-советского, совещания, проходившего по вопросам технологии производства легированной низкоуглеродистой стали, папа принес как-то домой подаренный ему немцами красивый цанговый карандаш. Он лежал у него на письменном столе и манил меня своим ярким стальным блеском. Ну, конечно, я не удержался и днем, когда никого дома не было, решил выяснить, как выдвигается грифель из этого диковинного немецкого карандаша и что за пружинка у него внутри.
Грифель сломался сразу, а пружинка вылетела через пару минут. Пришедшая с работы мама заохала-заахала, безуспешно пыталась карандаш починить, потом сказала: “Вот уж тебе теперь достанется”.
Услышав в коридоре шаги отца, я страшно испугался и залез под широкую родительскую тахту, стоявшую у стены. Но к моей радости никакой взбучки не последовало, и маме с папой долго пришлось меня уговаривать вылезти из моего убежища, обещая, что порка мне не грозит. Потом я, как обычно, забрался под длинный байковый халат, в который отец всегда облачался, приходя с работы, и весь вечер ходил с ним по квартире из угла в угол.
Преображение Преображенки
Подобно Жюлю Верну, почти никогда не покидавшему свой жилой квартал, я всю свою московскую жизнь просуществовал в одном месте. Хотя, в отличие от знаменитого писателя-фантаста, меридианы-параллели планеты мне довелось пересекать не в каких-то виртуальных наутилусах, воздушных шарах и пушечных снарядах, а в реальных плацкартных вагонах, на узких сидениях ИЛ-ов и в пыльных кабинках уазиков.
Место же моей малой родины весьма примечательное. Преображенка – как не удивиться долгой драматической судьбе этого древнего куска земли, лежащего в центре нынешнего северо-восточного округа российской столицы. Его история необычна и в то же время типична для большинства плотно населенных уголков России и, возможно, вообще для стран восточной Европы.
По некоторым косвенным данным именно здесь завоеватель Москвы хан Тохтамыш 24 августа 1382 года разбил свой шатер. А через два дня, когда знаменитый князь Дмитрий Донской, герой той самой полумифической Куликовской битвы, позорно сбежал, бросив жену, в Кострому, татарские конники захватили, разграбили и сожгли город.
Это предательство будущего Великого князя Дмитрия особенно прискорбно, так как именно в Преображенском он провел свое детство – здесь на берегу Черкизовского (Архиерейского) пруда тогда располагалась летняя резиденция весьма влиятельного митрополита Алексия I, который был его учителем и воспитателем. Нынешний же бизнес-патриарх всея Руси предприимчивый Кирилл, на месте сгоревшего при странных обстоятельствах старинного деревянного здания в начале 2000-тысячных годов возвел себе роскошные хоромы псевдорусского лубочного стиля.
Но населенным пунктом с названием Преображенское это место стало лишь при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем). В 1657 году на берегу Яузы он построил дворец, получивший свое имя по возведенной тогда же церкви Преображения Господнего.
Знаменит московский микромир моего детства еще и тем, что первый в истории русский профессиональный театр под названием “Комедийная хоромина” начал давать свои представления в 1672 году здесь же в Преображенском дворце.
Дальнейшее развитие село Преображенское получило при Петре I. Здесь будущий царь, еще не став царем, водил свои Потешные полки, и отсюда с друзьями и родственниками Нарышкиными ему нередко приходилось убегать в Сокольнический лес, где он спасался от гнева своей ярой противницы властной сестры-царицы Софьи, правившей страной из московского Кремля.
Позже, одолев сестрицу и отправив ее в монастырскую опалу, воцаривший в России Петр превратил ту свою малую родину в резиденцию страшной черной охранки. После стрелецкого бунта 1698 года царь сделал “Преображенский приказ” одним из дальних предтечей ежовско-бериевского НКВД. Его глава князь-кесарь Федор Ромодановский пыточными дыбами, раскаленными клещами и огненными щипцами строгого дознания вытягивал ложные признания и оговоры из не повинившихся Петру бояр Милославских и всех прочих сторонников Софьи с ее московскими стрельцами. На Преображенской же площади стрельцам, солдатам старого войска, рубили на плахе головы и вешали на столбах в назидание всем последующим ослушникам нововведений Петра I.
В будущем, восстанавливая свою раннепетровскую нелояльность к действующей власти, Преображенка круто повернулась боком и к официальной Церкви. Не случайно фоном для персонажа своей картины крамолки “Боярыни Морозовой” Суриков избрал краснокирпичные стены именно Преображенского старообрядческого православного монастыря. Он просуществовал вплоть до революции, и поныне на бывшей его территории стоит одна из немногих церквей Старого обряда.
* * *
Надо отметить еще одну яркую особенность моей дорогой Преображенки – ее непреходящую рыночную торгово-купеческую сущность, сохранявшуюся даже в самые строгие, самые упертые годы сталинско-хрущевско-брежневского социализма. У стен бывшего монастыря, несмотря на неоднократные разгоны и запреты, много десятилетий подряд кипел бурными базарными страстями продуктово-крестьянский и барахольновещевой Преображенский рынок.
Такой же полу-капиталистической, “воровской”, жизнью до поры до времени жила и знаменитая когда-то “Преображенская яма”, старый овраг – место, бывшее одним из главных гнезд торговопреступного мира Москвы. Еще до моего рождения его ликвидировали, овраг засыпали, и на месте ее многочисленных лавок, хибар, мазанок, хаз и малин пролег широкий проспект – Большая Черкизовская улица, где, кстати, стоит и восьмиэтажный дом с моей московской квартирой. По этой магистрали, являющейся продолжением Щелковского шоссе, из подмосковного Звездного городка в свое время ехали в Кремль торжественные кортежи с Юрием Гагариным, Германом Титовым и другими знаменитыми героями космических одиссей.
Неистребимый торгово-криминальный дух особенно высоко взмыл над нашим районом в начале 90-х, когда здесь широко раскинулся всероссийский приснопамятный оптовый рынок Черкизон. Долгие годы тысячи “челноков” с пузатыми тяжелыми баулами, а потом и плотно набитые кузова траков и фур обычно ночью грузили в необъятные чрева базара-монстра нелегальные “заморские” товары. Под кожу сделанные полимерные куртки, пальто, ложнохлопковые платья, костюмы, рубашки, тишорты, поддельно-кожаные туфли, ботинки, сапоги миллионами штук громоздились под дощатыми крышами бесчисленных павильонов, палаток, лотков. Все это шилось, кроилось, клепалось в каких-то таинственных подпольных мастерских, фабричках и на всех товарах красовались липовые лейблы “Jeans”, “Bata”, “Zilli”, Century” “Levi” и другие. Цены были пустяковые, поэтому эти подделки успешно расходились среди москвичей и гостей столицы.
Черкизон просуществовал вплоть конца первого десятилетия XXI века и с большим скандалом был закрыт новым московским мэром С.Собяниным, сменившим на этом посту предыдущего вора-пахана Ю.Лужкова.
* * *
А в начале XX столетия Преображенка начала стремительно приобретать дымный облик промышленного предместья Москвы. Десятки прядильных, красильных, суконных, ткацких текстильных фабрик возникли на берегах реки Хапиловки и Яузы. В период “сталинской индустриализации” эта специфика района значительно выросла.
Не могу удержаться, чтобы не привести описание Преображенки 30-х годов, которое дал в своем талантливо написанном романе “Я ищу детство” мой школьный товарищ Валерий Осипов.
"Вот какая смешанная и даже смешная получилась картина. Преображенский монастырь захватили и жили в нем рабочие. В центре монастырских зданий (новые обитатели которых любили и пошуметь, и выпить, и подраться) молились своему древнему, дониконианскому богу дремучие староверы. У стен монастыря с одной стороны бойко шумел Преображенский рынок, с другой – активно вела медицинскую пропаганду туберкулезная больница, с третьей – печально качало листвой Преображенское кладбище (со своей и ныне действующей церковью), с четвертой – тянулась Черкизовская яма, населенная рыночными спекулянтами и ворьем, с пятой – гудел колоколами Богоявленский храм, а в двух шагах от храма, на берегу Яузы, поднимались кварталы будущего швейного объединения “Красная заря”, а за кладбищем дымилось и пыхтело опять что-то ткацкое и текстильное (так прямо и называлась одна из самых больших улиц этих мест – Ткацкая). Вот такая мешанина образовалась на месте бывшего царского села Петра I Преображенского”.
Не могу не добавить к этому и мои собственные воспоминания, относящиеся к этому времени. Первой водной поверхностью увиденной мною, будущим гидротехником, был полноводный Хапиловский пруд, где у причала стояли прогулочные плоскодонки лодочной станции. А его берег зеленел большим сквером, разбитым на месте старой городской свалки, засыпанной добровольцами-комсомольцами профсоюза рабочих расположенного неподалеку Электролампового завода.
На этом сквере меня, туго запеленатого в бумазейные и фланелевые пеленки и подгузники, то мама, то нянька катали по гаревым дорожкам в моссельпромовской детской коляске. Здесь же делал я свои первые неуверенные шаги, а потом гонял надувной резиновый мяч с соседскими ребятами.
После войны пруд был закопан, а позже и сама речка Хапиловка, приток Яузы, потекла по бетонной трубе, над которой быстро выросли хрущевские многоэтажки. А на бывшей Введенской площади (потом имени Журавлева, какого-то партийного функционера) вместо снесенной одноименной церкви рядом с Электрозаводом вознеслось четырех-колонное клубное здание, нынешний архитектурный памятник сталинского соц-неоклассицизма. После своего изначального предназначения оно поочередно стало принадлежать сначала театру “Имени Моссовета”, потом “Телевизионному театру”, а затем снова клубу завода, уже обозначавшегося аббревиатурой МЭЛЗ (Московский электроламповый завод). Кто еще будет его хозяином? Вопрос.
Причуды архитектуры
Не столько из глубин моего инженерно-строительного образования, сколько с высот многодесятилетнего возраста, мне четко высвечивается старая истина: ничто так точно, образно и наглядно не отражает ход времен, как архитектура. “Застывшая в камне история” – вовсе не расхожий штамп, а строгая теорема, постоянно доказываемая сменой общественного строя, режима власти, предпочтений культуры, переоценкой ценностей. Например, пирамиды фараонов, Колизеи Рима, дворцы французских Людовиков и высотки сталинской Москвы так же точно отразили эпохи тоталитаризма, как башни Эйфеля, Шухова, небоскребы Нью-Йорка, Чикаго и каркасы Карбюзье выразили начало индустриальной эры.
Преображенская площадь на глазах одного моего поколения развернула свои каменные страницы многотомной исторической энциклопедии. В раннем детстве я ходил по ней мимо двухэтажных купеческих особняков, ставших после революции продуктовыми и москательными магазинами, заходил с мамой в булочную, сапожную мастерскую, пошивочное ателье. Мальчишкой я глазел на сцены драк возле основанного когда-то братьями Звездиными ресторана “Звездочка”, возле которого после войны бились костылями до первой крови крепко поддатые ветераны Великой Отечественной. В мои более поздние школьные годы рядом с ветшавшими строениями “проклятого царского прошлого” встали пятиэтажные жилые дома конструктивистского вида, напротив них призывно горели афиши нашего придворного кинотеатра Орион. А рядом по праздникам звонила одноглавая Богоявленская церквушка.
Потом колокола смолкли и “заговорили пушки”. Преображенскую площадь почти целиком захватил некий “Почтовый ящик” с крупным научно-исследовательским институтом, большим конструкторским бюро и заводом по производству опытных изделий. На нем до радикулитной боли в спине и глаукомной рези в глазах вкалывали конструкторы 1-ой, 2-ой и 3-ей категории, старшие инженеры и просто инженеры, начальники отделов и секторов, завлабы, младшие и старшие научные сотрудники, рабочие-монтажники и электрики. Все они принадлежали многотысячной дивизии бойцов тыла Холодной войны, на пике которой и оккупировал Преображенку тот почтовый ящик. Сначала он обозначался каким-то простым номером, а позже стал для маскировки “Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи” (НИИДАР). Под этим камуфляжным прикрытием решалась одна из главных технологических военно-стратегических задач – перехват низко летящих целей, не улавливаемых радарами того времени.
Для ее решения были снесены десятки домов, и гигантский научно-производственный спрут поглотил сразу несколько кварталов частной застройки. Позже, чтобы не маячила перед парадным входом в то военно-оборонное святилище, пошла под бульдозер стоявшая на площади с XIX века поместная Богоявленская церковь.
Но вот великий перелом истории свалил страну Советов, и вместо лучезарного лика коммунизма перед народом разверзся “звериный оскал капитализма”. В его прожорливую пасть с Преображенской площади полетело все, что раньше было ценно и значимо: дореволюционные особняки, сталинские многоэтажки, панельные хрущевки. Исчез ресторан Звездочка, кинотеатр Орион, зачах, пригнулся, опустел бывший всемогущий “НИИДАР”. Его еще недавно наглухо закрытые режимные недра оккупировали всевозможные “ООО”, разношерстные торговые точки, многочисленные кафе, ресторанчики, аптеки – шустрые делатели “быстрых денег”. А вслед за ними чуть позже на месте проклятого советского прошлого вознеслись высоко к небу богато облицованные гранитом каменные громады офисных билдингов, элитно-жилые комплексы и торгово-развлекательные центры. То были зримые приметы XXI века.
Стала явью и еще одна особенность агрессии нового времени – нарочито тихое, но непомерно активное проникновение РПЦ (русской православной церкви) в жизнь Преображенки. Меня очень удивило, что вместо скромного пятачка, на котором до волюнтариста Хрущева стояла та самая Богоявленская церковка, теперь для ее восстановления была выделена обширная территория, занимающая почти всю длину зданий “НИИДАР”,а. Теперь именно она стала главной архитектурной доминантой всей Преображенской площади.
А затем начал серьезно обсуждаться и вопрос о возвращении РПЦ зданий бывшего