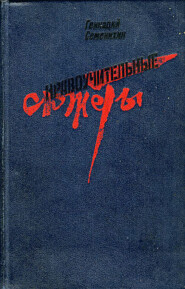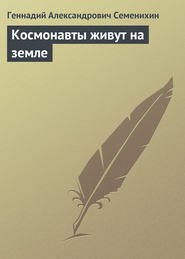По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Над Москвою небо чистое
Год написания книги
1959
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пусть он и теперь делает по сто двадцать вылетов в течение трех-четырех суток, а потом будет делать по девяносто, – так же тихо продолжал маршал. – Вчера звонил главнокомандующий. Поставил задачу держаться, пока не будут готовы резервы для решительного контрудара. Кое-что он сейчас подбросит нашему фронту, чтобы стабилизировать положение. Ни шагу назад – были его последние слова. Авиация тоже будет подброшена. Восемь – десять дней – вот сколько нужно будет Демидову держать оборону доверенного ему воздушного коридора, воевать, как вы говорите, за целую дивизию. Это же крепкий, сколоченный полк, Комаров. Он должен выстоять.
– За десять дней его разобьют, товарищ маршал, – угрюмо заключил Комаров и сразу вспомнил всех демидовских летчиков, чьи лица он осязаемо хранил в памяти. И своих любимчиков – широколобого Алешу Стрельцова и вихрастого Воронова, – и комиссара Румянцева, и майора Жернакова с его «пушкинскими» бакенбардами, и стройного, с тонкой талией, капитана Султан-хана, и плечистого Боркуна, смахивающего на былинного Добрыню Никитича. Он их представил веселыми и задумчивыми, радостными и негодующими, но живыми, прочно шагающими по земле. Ему стало горько и обидно при мысли, что многие из них через три-четыре дня уйдут в госпитали или будут похоронены вблизи своего аэродрома, и это в лучшем случае. А в худшем – они вместе с останками своих самолетов сгорят за линией фронта на земле, вытоптанной врагом, где даже и похоронить их по-человечески будет некому. И он снова повторил: – За десять дней полк будет разбит.
Оттолкнувшись от подлокотников кресла, маршал встал, давая понять, что беседа затянулась.
– Я вас выслушал, генерал Комаров. В своих рассуждениях вы вполне логичны. Но знаете, что я вспомнил? Как я недавно Панфилова в бой провожал. Талантливого, волевого генерала. На такой участок пришлось его отправлять, что заранее все мы знали, какими неравными будут там силы. А задачу свою он выполняет сейчас образцово. Задержал фашистские танки, помог вырвать время на перегруппировку. Одним словом, генерал Комаров, пожелайте от моего имени больших удач подполковнику Демидову и его летчикам.
Маршал протянул Комарову руку и вышел из кабинета не через приемную, а через узкую дверь, ведущую прямо в коридор. Комаров вздохнул и рассеянно взял со стола тонкую кожаную папку. В кабинете было бы совершенно тихо, если бы не легкий шелест вовсе не нужного в это прохладное утро вентилятора.
Комаров расправил над поясом гимнастерку и упругим солдатским шагом вышел в приемную.
– Маршал ушел? – спросил его полковник, сидевший за одним из столов.
– Да, ушел, – отрывисто сказал Комаров. Он бросил взгляд на широкое грубоватое лицо дремавшего в приемной Демидова и с наигранной бодростью воскликнул: – Ну что, Демидыч? Заждался? Идем, идем, сейчас все узнаешь.
И опять они пошли по лестнице, устланной ковра-» ми, скрадывающими шаги. Черного ЗИСа у подъезда уже не было. По узкой аллейке вернулись они в маленький особняк и прошли в кабинет Комарова. Генерал велел адъютанту никого не впускать и подать завтрак. Он ничего еще не сказал, но Демидов успел уловить атмосферу взволнованности, которая окружала его теперь. За завтраком он был тих, послушно поддакивал генералу, молча выпил предложенную к бифштексу рюмку английского виски, но, когда генерал бодро воскликнул: «Ну, а теперь к делу», весь обратился в слух и внимание.
Их разговор ничем не напоминал разговор командующего фронтом и Комарова. Там столкнулись требования одного и просьбы об уступках другого. А здесь они говорили просто, как два идущих в атаку солдата. Только один солдат был старшим, а другой младшим.
– Вот это твой пояс, Демидыч, – говорил старший солдат, водя тонким карандашом по карте. – Противник, конечно, отсюда на Москву поднапрет. На то он и противник. Но ты выстоишь. Первые три-четыре дня придется делать по сто двадцать вылетов. Ты поднатужься, Демидыч. Я помню, под Вязьмой ты выдерживал.
– Выдерживал, товарищ генерал, – говорил в ответ солдат-младший.
– Вот и отлично, – одобрительно поддакивал старший. – Значит, и тут выдержишь. Выстоишь!
А Демидов слушал его и дополнял все то, что Комаров сознательно опускал в своих лаконичных пояснениях. И слова солдата-старшего звучали для него так: «Ты, конечно, понимаешь, Демидов, против тебя стоит не кто-нибудь, а отборный корпус Рихтгофена со своими бомбардировщиками и истребителями. Понимаешь ты и другое: если раньше этот воздушный коридор защищали три боевых полка, а сейчас только один твой, легкой жизни не жди. Понимаешь и то, что за десять дней полк твой растрепят, что будут потери. Но главное – надо отстоять московское небо, сделать его если не совершенно неприступным, то, по крайней мере, труднопроходимым. А раз так, то к черту все мрачные мысли. Драться, драться и драться!»
Это Демидов прекрасно понимал. Стоять насмерть и даже погибать, но не открывать московского неба врагу. Москва недавнего прошлого и Москва сурового настоящего – вот что было ближе всего земного, дороже всего личного.
И подполковник, расправив крутые плечи, посмотрел в лицо генералу, посмотрел сурово, но ясно и первый, в нарушение всех уставных норм, протянул ему широкую узловатую ладонь!
– Будет выполнено, – сказал он тихо, сказал просто и твердо, и этого было достаточно.
Не замечая протянутой руки, Комаров шагнул ему навстречу, сильно притянул к себе, поцеловал в колючие седоватые усы.
– Спасибо, Демидыч, – проговорил он, – спасибо, старина!
В штабной землянке над столом светила на этот раз не какая-нибудь потемочная «летучая мышь», а настоящая трехсотсвечовая электрическая лампа. Это лейтенант Ипатьев проявил завидную расторопность и к полковому совещанию летного состава успел подвести сюда провод от гарнизонной электростанции. Демидов, закончивший свое короткое сообщение о новой боевой задаче, поставленной перед полком штабом Западного фронта, отер ладонью вспотевший лоб.
– Вот и все, товарищи.
Пристальные, въедавшиеся в человека глаза Демидова всматривались в подчиненных. Его не удивил расстроенный вид начальника штаба Петельникова. Кто, как не он, во всей полноте представляет сложность и серьезность воздушной оборонительной операции, в которой их полку дали такую ответственную роль. Подполковник с облегчением вздохнул, убедившись, что летчики смотрят гораздо бодрее и увереннее.
– Так что, товарищи летчики? Все ли понятно?
Боркун тяжелой ладонью похлопал себя по шее, будто хотел попробовать ее крепость. Усмехнулся, покосился на своего соседа Султан-хана, но коричневое лицо горца ни одним мускулом не ответило на его улыбку.
– Понятно, товарищ командир, – флегматично произнес Боркун, – только уточнить бы хотелось. Сто двадцать боевых вылетов в день – это, если разделить на брата, по четыре на каждого получится. Туговата Нагрузочка, что называется, предельная.
– Боитесь, что это будет вам не по силам, Боркун? – холодно спросил Румянцев.
И Боркун моментально притих, улыбнулся извиняющейся улыбкой.
– Да не поняли вы меня, товарищ комиссар. Такому бугаю, как я, и шесть вылетов по силам. У меня же бицепсы, как у Ивана Поддубного. Я к другому клоню. Надо наш молодняк подготовить получше, чтобы осечек не вышло. Питание чтобы строгое было, по утрам физзарядка, никаких гулянок и спиртных излишеств.
– Дело говорит капитан, – сказал Петельников, – я за всем этим буду следить беспощадно. Порывисто вскочил Султан-хан.
– Я не русский, я дагестанец, товарищ командир, – воскликнул он, – но, когда разговор идет о Москве и защите московского неба от поганых фашистов, я трижды русский! Тут передо мной выступал капитан Боркун. Говорил о физзарядке, о бытовом режиме, арифметикой мало-мало занимался, вылеты на брата делил. Одно могу сказать: хороший ты баец, Вася, а говорить не умеешь. С того ли надо начинать! Нам московское небо доверили. Кто доверил? Родина доверила, партия доверила, народ наш советский. Так разве тут может идти речь, сколько раз можно, а сколько нэ можно подниматься в небо за один день! Сколько командир прикажет – столько и поднимемся. Я так считаю, – твердо закончил Султан-хан, и вся землянка ему зааплодировала.
После выздоровления лейтенант Бублейников стал несколько строже и суше в обращении с товарищами. Раньше он был говорливым пустословом, готовым угощать любого собеседника остротами, анекдотами, всевозможными новостями до полного одурения. Впрочем, такие, как он, часто встречались среди молодых летчиков, еще не побывавших в серьезных переделках. За ретивостью, а порой и заносчивостью они старательно прятали свою робость перед грядущими испытаниями.
Но стоило молодому летчику побывать в жестоком бою, где лоб в лоб сталкивался он со смертельной опасностью, как на глазах у всего полка он превращался из лихого говоруна в совершенно иного человека. Он и по земле начинал ходить увереннее, и словом своим дорожить, не бросая его на ветер, и во взгляде, в движениях; у него появлялась степенность. Все это произошло и с Бублейниковым. Но с Алешей Стрельцовым он был по-прежнему покровительственно шутливым: и уважал Алешу, и посмеивался над его житейской неопытностью.
На новом аэродроме эскадрилью майора Жернакова разместили в большой светлой комнате, где раньше помещалась аэродинамическая лаборатория: на стенах остались схемы действия сил на крыло самолета при взлете, наборе высоты, на предельных скоростях.
Бублейников занимал самую крайнюю койку. Когда Алеша зашел за ним по пути на ужин, он сидел за тумбочкой и химическим карандашом надписывал на конверте адрес. Рядом лежала целая груда писем, и он, показывая на нее, счастливо жмурился:
– Видал?
Алеша вопросительно посмотрел на него.
– Эх ты, детеныш, – добродушно сказал Бублейников, – это все от нее. От «паташонка» моего. За неделю столько сочинила, а! Знать, не забывает.
– Неужели за неделю? – удивился Алеша.
– А думаешь, – хмыкнул Бублейников, – бывает, так распишется, что и больше пришлет. А получать их приятно, Алексей, ох-и приятно.
Стрельцов улыбнулся.
– Чего зубы оскалил? – заворчал Бублейников. – Разве тебе понять! «Не доходчиво», как говорил у нас на занятиях один начхим. Эх, Леха, приятный ты парень и летчик что надо, а в личном вопросе отстаешь. Женить бы тебя, шельмеца. Ведь и рожа приличная, и башка на месте пристегнута, да и все остальное, наверное. И чего ты медлишь? Вон в госпитале медсестра Варя расспросами о тебе замучила. Спрашивает, а глаза – вот такие широкие, как фары на посадке.
– Неужели спрашивала? – улыбнулся Алеша, Бублейников кивнул: – Весь госпиталь говорит, какая она недотрога.
– Ладно, когда-нибудь и на ком-нибудь, может, и женюсь, – вздохнул Алеша. – Идем ужинать, что ли!
Глава одиннадцатая
На новом аэродроме следователю военной прокуратуры майору Стукалову, отвели изолированную комнату с отдельным входом. Черноволосый писарь Володя Рогов вместе с шофером дежурной автомашины внес небольшой, но и не маленький коричневый сейф Стукалова и выдал майору три ключа: от дверного замка, от английского и от навесного. Майор Стукалов довольно осмотрел свое новое жилище, подкинул на ладошке все три ключа и отпустил своих помощников. Потом снял очки в роговой оправе, старательно протер их запотевшие стекла.
Оставшись один, он запер дверь, попробовал, работает ли телефон, и, услышав протяжный гудок подмосковной АТС, удовлетворенно положил на рычаг трубку.
Так уж повелось, что майор Стукалов, прикомандированный к демидовскому полку, с самых первых дней войны везде поселялся отдельно от всех. Так было удобнее работать, вести деловую переписку и переговоры в полной уверенности, что это никому не станет известным.
Стукалов снял гимнастерку и аккуратно сложил ее на табуретке тем самым конвертом, каким обычно складывают гимнастерки в солдатских казармах. Оставшись в клетчатом коричневом джемпере, из выреза которого выглядывали его тощие ключицы, он с удовольствием лег на свежезастеленную кровать. Переливчатый звон пружинного матраца и запах свежего постельного белья усилили и без того хорошее настроение. Сцепив руки за затылком, Стукалов смотрел на чистенький, с зеленой аккуратной каемочкой потолок и думал о том, что не столь уж плохо после землянок и фронтовой грязи провести день-другой в такой обстановке.
С детства Женя Стукалов привык вырывать у жизни все хорошее с боя. Он быстро усвоил немудреную истину, что без борьбы и настойчивости это хорошее не заполучишь. Нельзя грешить на Жениных родителей, утверждая, что это они привили ему такое качество. Его отец, директор гидростанции, взъерошенный, одутловатый человек, вечно куда-то торопившийся, ходивший, хотя у него был персональный автомобиль, в грубых, забрызганных водой и цементным раствором сапогах, на строительных точках бывал чаще, чем дома, и на формирование характера своего сына вряд ли оказывал какое-либо влияние. Энтузиаст многих хороших дел, человек, уважаемый всей округой, он незаметно сгорел, пораженный неотвратимо надвигавшейся сердечной болезнью.
После его смерти Женя остался на попечении у своей преждевременно поседевшей матери. Пенсии не хватало, и мать стала преподавать в школе. К сыну она относилась ровно: не баловала, но и не была излишне строгой. Однажды в период безденежья десятилетнему Жене захотелось иметь нарядный двухколесный велосипед, выставленный в местном универмаге. Мама отказала в покупке. Женя ревел целых два часа, но услышал короткий неутешительный ответ:
– За десять дней его разобьют, товарищ маршал, – угрюмо заключил Комаров и сразу вспомнил всех демидовских летчиков, чьи лица он осязаемо хранил в памяти. И своих любимчиков – широколобого Алешу Стрельцова и вихрастого Воронова, – и комиссара Румянцева, и майора Жернакова с его «пушкинскими» бакенбардами, и стройного, с тонкой талией, капитана Султан-хана, и плечистого Боркуна, смахивающего на былинного Добрыню Никитича. Он их представил веселыми и задумчивыми, радостными и негодующими, но живыми, прочно шагающими по земле. Ему стало горько и обидно при мысли, что многие из них через три-четыре дня уйдут в госпитали или будут похоронены вблизи своего аэродрома, и это в лучшем случае. А в худшем – они вместе с останками своих самолетов сгорят за линией фронта на земле, вытоптанной врагом, где даже и похоронить их по-человечески будет некому. И он снова повторил: – За десять дней полк будет разбит.
Оттолкнувшись от подлокотников кресла, маршал встал, давая понять, что беседа затянулась.
– Я вас выслушал, генерал Комаров. В своих рассуждениях вы вполне логичны. Но знаете, что я вспомнил? Как я недавно Панфилова в бой провожал. Талантливого, волевого генерала. На такой участок пришлось его отправлять, что заранее все мы знали, какими неравными будут там силы. А задачу свою он выполняет сейчас образцово. Задержал фашистские танки, помог вырвать время на перегруппировку. Одним словом, генерал Комаров, пожелайте от моего имени больших удач подполковнику Демидову и его летчикам.
Маршал протянул Комарову руку и вышел из кабинета не через приемную, а через узкую дверь, ведущую прямо в коридор. Комаров вздохнул и рассеянно взял со стола тонкую кожаную папку. В кабинете было бы совершенно тихо, если бы не легкий шелест вовсе не нужного в это прохладное утро вентилятора.
Комаров расправил над поясом гимнастерку и упругим солдатским шагом вышел в приемную.
– Маршал ушел? – спросил его полковник, сидевший за одним из столов.
– Да, ушел, – отрывисто сказал Комаров. Он бросил взгляд на широкое грубоватое лицо дремавшего в приемной Демидова и с наигранной бодростью воскликнул: – Ну что, Демидыч? Заждался? Идем, идем, сейчас все узнаешь.
И опять они пошли по лестнице, устланной ковра-» ми, скрадывающими шаги. Черного ЗИСа у подъезда уже не было. По узкой аллейке вернулись они в маленький особняк и прошли в кабинет Комарова. Генерал велел адъютанту никого не впускать и подать завтрак. Он ничего еще не сказал, но Демидов успел уловить атмосферу взволнованности, которая окружала его теперь. За завтраком он был тих, послушно поддакивал генералу, молча выпил предложенную к бифштексу рюмку английского виски, но, когда генерал бодро воскликнул: «Ну, а теперь к делу», весь обратился в слух и внимание.
Их разговор ничем не напоминал разговор командующего фронтом и Комарова. Там столкнулись требования одного и просьбы об уступках другого. А здесь они говорили просто, как два идущих в атаку солдата. Только один солдат был старшим, а другой младшим.
– Вот это твой пояс, Демидыч, – говорил старший солдат, водя тонким карандашом по карте. – Противник, конечно, отсюда на Москву поднапрет. На то он и противник. Но ты выстоишь. Первые три-четыре дня придется делать по сто двадцать вылетов. Ты поднатужься, Демидыч. Я помню, под Вязьмой ты выдерживал.
– Выдерживал, товарищ генерал, – говорил в ответ солдат-младший.
– Вот и отлично, – одобрительно поддакивал старший. – Значит, и тут выдержишь. Выстоишь!
А Демидов слушал его и дополнял все то, что Комаров сознательно опускал в своих лаконичных пояснениях. И слова солдата-старшего звучали для него так: «Ты, конечно, понимаешь, Демидов, против тебя стоит не кто-нибудь, а отборный корпус Рихтгофена со своими бомбардировщиками и истребителями. Понимаешь ты и другое: если раньше этот воздушный коридор защищали три боевых полка, а сейчас только один твой, легкой жизни не жди. Понимаешь и то, что за десять дней полк твой растрепят, что будут потери. Но главное – надо отстоять московское небо, сделать его если не совершенно неприступным, то, по крайней мере, труднопроходимым. А раз так, то к черту все мрачные мысли. Драться, драться и драться!»
Это Демидов прекрасно понимал. Стоять насмерть и даже погибать, но не открывать московского неба врагу. Москва недавнего прошлого и Москва сурового настоящего – вот что было ближе всего земного, дороже всего личного.
И подполковник, расправив крутые плечи, посмотрел в лицо генералу, посмотрел сурово, но ясно и первый, в нарушение всех уставных норм, протянул ему широкую узловатую ладонь!
– Будет выполнено, – сказал он тихо, сказал просто и твердо, и этого было достаточно.
Не замечая протянутой руки, Комаров шагнул ему навстречу, сильно притянул к себе, поцеловал в колючие седоватые усы.
– Спасибо, Демидыч, – проговорил он, – спасибо, старина!
В штабной землянке над столом светила на этот раз не какая-нибудь потемочная «летучая мышь», а настоящая трехсотсвечовая электрическая лампа. Это лейтенант Ипатьев проявил завидную расторопность и к полковому совещанию летного состава успел подвести сюда провод от гарнизонной электростанции. Демидов, закончивший свое короткое сообщение о новой боевой задаче, поставленной перед полком штабом Западного фронта, отер ладонью вспотевший лоб.
– Вот и все, товарищи.
Пристальные, въедавшиеся в человека глаза Демидова всматривались в подчиненных. Его не удивил расстроенный вид начальника штаба Петельникова. Кто, как не он, во всей полноте представляет сложность и серьезность воздушной оборонительной операции, в которой их полку дали такую ответственную роль. Подполковник с облегчением вздохнул, убедившись, что летчики смотрят гораздо бодрее и увереннее.
– Так что, товарищи летчики? Все ли понятно?
Боркун тяжелой ладонью похлопал себя по шее, будто хотел попробовать ее крепость. Усмехнулся, покосился на своего соседа Султан-хана, но коричневое лицо горца ни одним мускулом не ответило на его улыбку.
– Понятно, товарищ командир, – флегматично произнес Боркун, – только уточнить бы хотелось. Сто двадцать боевых вылетов в день – это, если разделить на брата, по четыре на каждого получится. Туговата Нагрузочка, что называется, предельная.
– Боитесь, что это будет вам не по силам, Боркун? – холодно спросил Румянцев.
И Боркун моментально притих, улыбнулся извиняющейся улыбкой.
– Да не поняли вы меня, товарищ комиссар. Такому бугаю, как я, и шесть вылетов по силам. У меня же бицепсы, как у Ивана Поддубного. Я к другому клоню. Надо наш молодняк подготовить получше, чтобы осечек не вышло. Питание чтобы строгое было, по утрам физзарядка, никаких гулянок и спиртных излишеств.
– Дело говорит капитан, – сказал Петельников, – я за всем этим буду следить беспощадно. Порывисто вскочил Султан-хан.
– Я не русский, я дагестанец, товарищ командир, – воскликнул он, – но, когда разговор идет о Москве и защите московского неба от поганых фашистов, я трижды русский! Тут передо мной выступал капитан Боркун. Говорил о физзарядке, о бытовом режиме, арифметикой мало-мало занимался, вылеты на брата делил. Одно могу сказать: хороший ты баец, Вася, а говорить не умеешь. С того ли надо начинать! Нам московское небо доверили. Кто доверил? Родина доверила, партия доверила, народ наш советский. Так разве тут может идти речь, сколько раз можно, а сколько нэ можно подниматься в небо за один день! Сколько командир прикажет – столько и поднимемся. Я так считаю, – твердо закончил Султан-хан, и вся землянка ему зааплодировала.
После выздоровления лейтенант Бублейников стал несколько строже и суше в обращении с товарищами. Раньше он был говорливым пустословом, готовым угощать любого собеседника остротами, анекдотами, всевозможными новостями до полного одурения. Впрочем, такие, как он, часто встречались среди молодых летчиков, еще не побывавших в серьезных переделках. За ретивостью, а порой и заносчивостью они старательно прятали свою робость перед грядущими испытаниями.
Но стоило молодому летчику побывать в жестоком бою, где лоб в лоб сталкивался он со смертельной опасностью, как на глазах у всего полка он превращался из лихого говоруна в совершенно иного человека. Он и по земле начинал ходить увереннее, и словом своим дорожить, не бросая его на ветер, и во взгляде, в движениях; у него появлялась степенность. Все это произошло и с Бублейниковым. Но с Алешей Стрельцовым он был по-прежнему покровительственно шутливым: и уважал Алешу, и посмеивался над его житейской неопытностью.
На новом аэродроме эскадрилью майора Жернакова разместили в большой светлой комнате, где раньше помещалась аэродинамическая лаборатория: на стенах остались схемы действия сил на крыло самолета при взлете, наборе высоты, на предельных скоростях.
Бублейников занимал самую крайнюю койку. Когда Алеша зашел за ним по пути на ужин, он сидел за тумбочкой и химическим карандашом надписывал на конверте адрес. Рядом лежала целая груда писем, и он, показывая на нее, счастливо жмурился:
– Видал?
Алеша вопросительно посмотрел на него.
– Эх ты, детеныш, – добродушно сказал Бублейников, – это все от нее. От «паташонка» моего. За неделю столько сочинила, а! Знать, не забывает.
– Неужели за неделю? – удивился Алеша.
– А думаешь, – хмыкнул Бублейников, – бывает, так распишется, что и больше пришлет. А получать их приятно, Алексей, ох-и приятно.
Стрельцов улыбнулся.
– Чего зубы оскалил? – заворчал Бублейников. – Разве тебе понять! «Не доходчиво», как говорил у нас на занятиях один начхим. Эх, Леха, приятный ты парень и летчик что надо, а в личном вопросе отстаешь. Женить бы тебя, шельмеца. Ведь и рожа приличная, и башка на месте пристегнута, да и все остальное, наверное. И чего ты медлишь? Вон в госпитале медсестра Варя расспросами о тебе замучила. Спрашивает, а глаза – вот такие широкие, как фары на посадке.
– Неужели спрашивала? – улыбнулся Алеша, Бублейников кивнул: – Весь госпиталь говорит, какая она недотрога.
– Ладно, когда-нибудь и на ком-нибудь, может, и женюсь, – вздохнул Алеша. – Идем ужинать, что ли!
Глава одиннадцатая
На новом аэродроме следователю военной прокуратуры майору Стукалову, отвели изолированную комнату с отдельным входом. Черноволосый писарь Володя Рогов вместе с шофером дежурной автомашины внес небольшой, но и не маленький коричневый сейф Стукалова и выдал майору три ключа: от дверного замка, от английского и от навесного. Майор Стукалов довольно осмотрел свое новое жилище, подкинул на ладошке все три ключа и отпустил своих помощников. Потом снял очки в роговой оправе, старательно протер их запотевшие стекла.
Оставшись один, он запер дверь, попробовал, работает ли телефон, и, услышав протяжный гудок подмосковной АТС, удовлетворенно положил на рычаг трубку.
Так уж повелось, что майор Стукалов, прикомандированный к демидовскому полку, с самых первых дней войны везде поселялся отдельно от всех. Так было удобнее работать, вести деловую переписку и переговоры в полной уверенности, что это никому не станет известным.
Стукалов снял гимнастерку и аккуратно сложил ее на табуретке тем самым конвертом, каким обычно складывают гимнастерки в солдатских казармах. Оставшись в клетчатом коричневом джемпере, из выреза которого выглядывали его тощие ключицы, он с удовольствием лег на свежезастеленную кровать. Переливчатый звон пружинного матраца и запах свежего постельного белья усилили и без того хорошее настроение. Сцепив руки за затылком, Стукалов смотрел на чистенький, с зеленой аккуратной каемочкой потолок и думал о том, что не столь уж плохо после землянок и фронтовой грязи провести день-другой в такой обстановке.
С детства Женя Стукалов привык вырывать у жизни все хорошее с боя. Он быстро усвоил немудреную истину, что без борьбы и настойчивости это хорошее не заполучишь. Нельзя грешить на Жениных родителей, утверждая, что это они привили ему такое качество. Его отец, директор гидростанции, взъерошенный, одутловатый человек, вечно куда-то торопившийся, ходивший, хотя у него был персональный автомобиль, в грубых, забрызганных водой и цементным раствором сапогах, на строительных точках бывал чаще, чем дома, и на формирование характера своего сына вряд ли оказывал какое-либо влияние. Энтузиаст многих хороших дел, человек, уважаемый всей округой, он незаметно сгорел, пораженный неотвратимо надвигавшейся сердечной болезнью.
После его смерти Женя остался на попечении у своей преждевременно поседевшей матери. Пенсии не хватало, и мать стала преподавать в школе. К сыну она относилась ровно: не баловала, но и не была излишне строгой. Однажды в период безденежья десятилетнему Жене захотелось иметь нарядный двухколесный велосипед, выставленный в местном универмаге. Мама отказала в покупке. Женя ревел целых два часа, но услышал короткий неутешительный ответ: