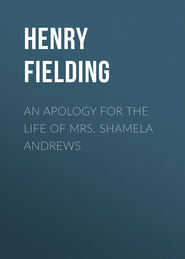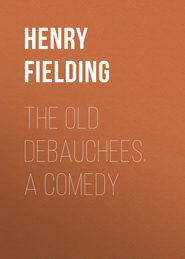По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Тома Джонса, найденыша. Том 1 (книги 1-8)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«рожденных потреблять полевых зверей», или, как их принято называть, дичь. Кто же станет отрицать, что наши сквайры в совершенстве исполняют это свое назначение?
Юный Джонс отправился однажды с полевым сторожем поохотиться; случилось так, что выводок куропаток, который они вспугнули у границы поместья, врученного Фортуной, во исполнение мудрых целей Природы, одному из таких потребителей дичи, – этот выводок куропаток полетел прямо на его землю и был, как говорится, взят нашими охотниками на прицел в кустах дрока, в двухстах или трехстах шагах за пределами владений мистера Олверти.
Мистер Олверти строжайше запретил полевому сторожу, под страхом увольнения со службы, заниматься браконьерством во владениях соседей, даже менее ревниво оберегающих свои права, чем хозяин названного поместья. По отношению к остальным соседям это приказание не всегда соблюдалось с большой пунктуальностью; но так как нрав джентльмена, у которого куропатки нашли убежище, был хорошо известен, то сторож ни разу еще не покушался вторгнуться в его земли. Не сделал бы он этого и теперь, если бы не уговоры его юного товарища, горевшего желанием преследовать убегающую дичь. Джонс так горячо его упрашивал, что сторож, и сам весьма рьяный охотник, послушался его наконец, проник в соседское поместье и застрелил одну куропатку.
На их беду, в это время невдалеке проезжал верхом сам хозяин; услышав выстрел, он немедленно поскакал туда и накрыл бедного Тома; полевой сторож успел шмыгнуть в густые кусты дрока и счастливо укрылся в них.
Обыскав юношу и найдя у него куропатку, джентльмен поклялся жестоко отомстить и довести до сведения мистера Олверти о проступке Тома. Свои слова он сразу же претворил в дело: помчался к дому соседа и принес жалобу на браконьерство в его поместье в таких сильных выражениях и таким озлобленным тоном, точно воры вломились к нему в дом и унесли самое ценное из обстановки. Он прибавил, что Джонс был не один, но ему не удалось поймать его сообщника: сквайр ясно слышал два выстрела, раздавшиеся почти одновременно.
– Мы нашли только одну эту куропатку, – сказал он, – но бог их знает, сколько они наделали вреда.
По возвращении домой Том немедленно был позван к мистеру Олверти. Он признался в преступлении и совершенно правильно сослался в свое оправдание на то обстоятельство, что выводок поднялся с земли мистера Олверти.
Затем Том был подвергнут допросу: кто с ним находился? Причем мистер Олверти объявил о своей твердой решимости дознаться, поставив обвиняемого в известность насчет показаний сквайра и двух его слуг, что они слышали два выстрела; но Том твердо стоял на своем, уверяя, что он был один; впрочем, сказать правду, сначала он немного колебался, что подтвердило бы убеждение мистера Олверти, если бы слова сквайра и его слуг нуждались в каком-либо подтверждении.
Затем был призван к допросу полевой сторож как лицо, на которое падало подозрение; но, полагаясь на данное ему Томом обещание взять все на себя, он решительно заявил, что не был с молодым барином и даже не видел его сегодня после полудня.
Тогда мистер Олверти обратился к Тому с таким сердитым лицом, какое редко у него бывало, советуя ему сознаться, кто с ним был, ибо он решил непременно это выяснить. Однако юноша упорно отказывался отвечать, и мистер Олверти с гневом прогнал его, сказав, что дает ему время подумать до следующего утра, иначе его подвергнут допросу другие и другим способом.
Бедный Джонс провел очень невеселую ночь, тем более невеселую, что его постоянный компаньон Блайфил был где-то в гостях со своей матерью. Страх грозившего наказания меньше всего мучил его; главной тревогой юноши было, как бы ему не изменила твердость и он не выдал полевого сторожа, который в таком случае был бы неминуемо обречен на гибель. Сторожу тоже было не по себе. Он мучился теми же страхами, что и юноша, также тревожась больше за честь его, чем за кожу.
Утром, явившись к его преподобию мистеру Твакому – особе, которой мистер Олверти поручил обучение обоих мальчиков, – Том услышал от этого джентльмена те же вопросы, какие ему были заданы накануне, и дал на них те же ответы. Следствием этого была жестокая порка, мало чем отличавшаяся от тех пыток, при помощи которых в иных странах исторгаются признания у преступников.
Том выдержал наказание с большой твердостью; и хотя его наставник спрашивал после каждого удара, сознается ли он наконец, мальчик скорее позволил бы содрать с себя кожу, чем согласился бы выдать приятеля или нарушить данное обещание.
Тревога полевого сторожа теперь прошла, и сам мистер Олверти начал проникаться состраданием к Тому; ибо, не говоря уже о том, что мистер Тваком, взбешенный безуспешностью своей попытки заставить мальчика сказать то, чего он от него добивался, поступил с ним гораздо суровее, чем того хотел добрый сквайр, мистер Олверти начал теперь думать, не ошибся ли его сосед, что легко могло случиться с таким крайне запальчивым и раздражительным человеком; а словам слуг, подтверждавшим показание своего господина, он не придавал большой цены. Жестокость и несправедливость были, однако, две такие вещи, сознавать которые в своих поступках мистер Олверти не мог ни одной минуты; он позвал Тома, дружески приласкал его и сказал:
– Я убежден, дитя мое, что мои подозрения были несправедливы, и сожалею, что ты за это так сурово наказан.
Чтобы загладить свою несправедливость, он даже подарил ему лошадку, повторив, что очень опечален случившимся.
Тому стало теперь стыдно своей провинности. Никакая суровость не могла бы довести его до этого состояния; ему легче было вынести удары Твакома, чем великодушие Олверти. Слезы брызнули из глаз его, он упал на колени и воскликнул:
– О, вы слишком, слишком добры ко мне, сэр! Право, я этого не заслуживаю!
И от избытка чувств он в эту минуту чуть было не выдал тайны; но добрый гений сторожа шепнул ему, какие суровые последствия может иметь для бедняги его признание, и эта мысль сомкнула ему уста.
Тваком изо всех сил старался убедить Олверти не жалеть мальчика и не обращаться с ним ласково, говоря, что «он упорствует в неправде», и даже намекнул, что вторичная порка, вероятно, откроет все начистоту.
Однако мистер Олверти решительно отказался дать свое согласие на этот опыт. Он сказал, что мальчик уже довольно наказан за сокрытие истины, даже если он виноват, так как, по-видимому, он поступил таким образом только из ложно понятого долга чести.
– Чести?! – с жаром воскликнул Тваком. – Просто упрямство и непокорность! Разве честь может учить человека лжи, разве честь может существовать независимо от религии?
Беседа происходила за столом по окончании обеда; присутствовали мистер Олверти, мистер Тваком и еще третий джентльмен, вступивший теперь в разговор. Прежде чем идти дальше, бегло познакомим с ним читателя.
Глава III
Характер мистера Сквейра, философа, и мистера Твакома, богослова, их спор касательно…
Имя этого джентльмена, жившего уже некоторое время в доме мистера Олверти, было мистер Сквейр. Его природные дарования были не первого сорта, но он их сильно усовершенствовал учением. Он был глубоко начитан в древних и большой знаток всех творений Платона и Аристотеля. По этим великим образцам он преимущественно и образовал себя; в одних случаях придерживаясь больше мнения первого, а в других – второго. В области нравственности он был убежденнейший платоник, в религии же склонялся к учению Аристотеля.
Однако же, построив свои нравственные понятия по образцам Платона, он был совершенно согласен с Аристотелем во взгляде на этого великого человека и считал его скорее философом и спекулятивным мыслителем, чем законодателем. Взгляд этот он простирал так далеко, что всю добродетель считал предметом одной только теории. Правда, насколько мне известно, он никому этого не высказывал; однако стоило только немножко приглядеться к его поступкам, и невольно напрашивалась мысль, что его убеждения действительно таковы, ибо они прекрасно объясняли некоторые странные противоречия в его натуре. Встречи этого джентльмена с мистером Твакомом почти никогда не обходились без споров, потому что их взгляды на вещи были диаметрально противоположны.
Сквейр считал человеческую природу верхом всяческой добродетели, а порок – такой же ненормальностью, как физическая уродливость. Тваком, наоборот, утверждал, что разум человеческий после грехопадения есть лишь вертеп беззакония, очищаемый и искупаемый только благодатью. В одном лишь они были согласны – именно в том, что во время споров о нравственности никогда не употребляли слова «доброта». Любимым выражением философа было «естественная красота добродетели); любимым выражением богослова – «божественная сила благодати». Философ мерил все поступки, исходя из непреложного закона справедливости и извечной гармонии вещей; богослов судил обо всем на основании авторитета, причем всегда прибегал к Священному Писанию и его комментаторам, как юрист прибегает к комментариям Коука[34 - Коук Эдуард (1552–1634) – основатель современного английского гражданского права, автор «Уставов» («Institutiones») в четырех томах, первый том которых является комментарием к упомянутому трактату Литтлтона. (Примеч. пер.)] на Литтлтона[35 - Литтлтон Эдуард (1589–1645) – английский юрист, написавший на так называемом юридическом французском языке трактат «О владении», который и до сих пор служит основой английского законодательства о собственности. (Примеч. пер.)], считая толкование и текст одинаково авторитетными.
После этого краткого вступления читатель благоволит припомнить, что священник заключил свою речь торжествующим вопросом, на который, по его мнению, не было ответа, а именно: разве честь может существовать независимо от религии?
Сквейр заявил на это, что, не установив предварительно значения слов, невозможно рассуждать о них философски и что едва ли найдутся два слова с более расплывчатым и неопределенным значением, чем слова, им упомянутые, ибо относительно чести существует почти столько же самых разнообразных мнений, как и относительно религии.
– Однако если под честью вы подразумеваете подлинную естественную красоту добродетели, то я берусь утверждать, что она может существовать независимо от всякой религии. Да ведь вы и сами допускаете, что она может существовать независимо от всех религии, кроме одной; то же самое скажет и магометанин, и еврей, и последователь любой секты на свете.
Тваком отвечал, что это обычный лукавый довод всех врагов истинной Церкви. Он сказал, что не сомневается в том, что всем неверующим и еретикам хотелось бы согласить честь со своими нелепыми заблуждениями и пагубными лжеучениями.
– Однако честь, – ораторствовал он, – не является многоразличной вследствие того, что о ней существует много нелепых мнений, как не является многоразличной религия оттого, что на свете есть разные секты и ереси. Когда я говорю о религии, я имею в виду христианскую религию, и не просто христианскую религию, а религию протестантскую, и не просто протестантскую религию, а англиканскую Церковь. И когда я говорю о чести, я разумею род божественной благодати, который не только совместим с этой религией, но и зависит от нее и в то же время несовместим ни с какой иной религией и от нее не зависит. При таких условиях говорить, что подразумеваемая мной честь – а мне кажется, ясно, что никакой иной чести я не мог подразумевать, – будет поддерживать и тем более предписывать неправду, значит, утверждать самую возмутительную нелепость.
– Я умышленно избегал, – отвечал Сквейр, – выводить заключение, которое, мне кажется, с очевидностью следует из моих слов; однако, если вы и уловили его, вы не сделали никакой попытки на него возразить. Впрочем, оставляя в стороне религию, из сказанного вами, я полагаю, ясно, что у нас различные понятия о чести; но почему бы нам не столковаться относительно определения ее в одних и тех же терминах? Я утверждал, что истинная честь и истинная добродетель – почти синонимы и обе основаны на непреложном законе справедливости и вечной гармонии вещей, а так как неправда совершенно несовместима с ними и противоречит им, то ясно, что истинная честь не может терпеть неправду. В этом, следовательно, мы согласны. Но говорить, что эта честь может основываться на религии, в то время как она ей предшествует, если под религией подразумевать положительный закон…
– Как! Я согласен с человеком, утверждающим, будто честь предшествует религии? – с жаром воскликнул Тваком. – Мистер Олверти, разве я согласился?
Тут мистер Олверти оборвал речь, холодно заметив, что они оба ошибочно его поняли, потому что он ничего не говорил об истинной чести. Впрочем, ему, может быть, нелегко было бы успокоить спорщиков, которые в одинаковой степени разгорячились, если бы разговору не положило конец одно неожиданное происшествие.
Глава IV
заключающая в себе необходимое оправдание автора и детскую ссору, тоже, может быть, нуждающуюся в оправдании
Прежде чем идти дальше, прошу позволения предотвратить некоторые кривотолки, к которым может привести слишком большое рвение иных читателей, ибо у меня нет ни малейшего желания кого-либо оскорблять, особенно людей, принимающих близко к сердцу интересы добродетели или религии.
Надеюсь поэтому, никто не допустит такого грубого непонимания и искажения моей мысли, чтобы вообразить, будто я стремлюсь подвергнуть осмеянию величайшие совершенства человеческой природы, которые одни только очищают и облагораживают человеческое сердце и возвышают человека над бессмысленными тварями. Смею уверить вас, читатель (и чем благороднее вы, тем охотнее мне поверите), что я скорее предал бы мнения двух упомянутых лиц вечному забвению, чем согласился высказаться неуважительно о таких священных предметах.
Напротив, я решился рассказать о жизни и действиях двух мнимых поборников добродетели и религии именно с той целью, чтобы содействовать прославлению столь высоких предметов. Вероломный друг – самый опасный враг, и я смело скажу, что лицемеры обесславили религию и добродетель больше, чем самые остроумные хулители и безбожники. Больше того: если добродетель и религия, в их чистом виде, справедливо называются скрепами гражданского общества и являются действительно благословеннейшими дарами, то, отравленные и оскверненные обманом, притворством и лицемерием, они сделались его злейшими проклятиями и толкали людей на самые черные преступления по отношению к их ближним.
Я не сомневаюсь, что такое осмеяние, вообще говоря, позволительно; но из уст двух описываемых мной лиц часто исходили самые верные и правильные суждения, и я боюсь главным образом того, как бы все не было свалено в одну кучу и читатель не подумал, будто я осмеиваю все огулом. Пусть он благоволит принять во внимание, что люди они были неглупые, и нельзя предполагать, будто они придерживались одних только ошибочных убеждений и высказывали одни только нелепости. Какое превратное дал бы я о них представление, если бы выбрал одни только дурные их черты! И какими жалкими и уродливыми показались бы все их рассуждения!
Словом, здесь выставлены с дурной стороны не религия или добродетель, а их отсутствие. Если бы при построении своей системы Тваком не пренебрегал до такой степени добродетелью, а Сквейр – религией и если бы оба они не сбросили со счета естественную доброту сердца, они никогда не явились бы предметом насмешки в этой истории, к которой мы теперь и возвращаемся.
Происшествием, положившим конец разговору, изложенному в последней главе, была ссора между молодым Блайфилом и Томом Джонсом, последствием которой явился окровавленный нос первого. Хоть и младший летами, Блайфил был ростом выше своего товарища, однако Том значительно превосходил его в благородном искусстве биться на кулачки.
Том, однако, тщательно избегал каких-либо столкновений с племянником мистера Олверти. Не говоря уже о том, что при всей своей проказливости Томми Джонс был юноша безобидный и искренне любил Блайфила, на него действовал сдерживающе мистер Тваком, всегда бравший сторону последнего.
Но справедливо сказал один писатель: «Нет человека, который был бы мудр каждую минуту»; неудивительно поэтому, если мудрость иногда покидала мальчика. Заспорив о чем-то во время игры, молодой Блайфил назвал Тома нищим ублюдком. В ответ на это Том, который был нрава горячего, тотчас же украсил его лицо только что упомянутым нами способом.
И вот молодой Блайфил, с текущей из носа кровью и струящимися из глаз вслед за ней слезами, явился на суд дяди и грозного Твакома. В этом трибунале Джонсу тотчас же было предъявлено обвинение в оскорблении действием и ранении. Том в оправдание сослался только на вызывающие слова Блайфила, о которых, впрочем, последний умолчал в своей жалобе. Очень может быть, что это обстоятельство действительно вылетело у него из памяти, потому что в своем ответе он решительно отрицал произнесение им обидных слов, воскликнув:
– Сохрани боже, чтобы из моих уст исходили когда-нибудь такие скверные слова!
Том, в противность всем судебным формальностям, отвечал на возражение повторением брани Блайфила. Тогда последний сказал:
– Неудивительно. Кто раз соврал, тот не посовестится соврать другой раз. Если бы я сказал моему учителю такую гадкую небылицу, как ты, я стыдился бы показаться на глаза людям.
Юный Джонс отправился однажды с полевым сторожем поохотиться; случилось так, что выводок куропаток, который они вспугнули у границы поместья, врученного Фортуной, во исполнение мудрых целей Природы, одному из таких потребителей дичи, – этот выводок куропаток полетел прямо на его землю и был, как говорится, взят нашими охотниками на прицел в кустах дрока, в двухстах или трехстах шагах за пределами владений мистера Олверти.
Мистер Олверти строжайше запретил полевому сторожу, под страхом увольнения со службы, заниматься браконьерством во владениях соседей, даже менее ревниво оберегающих свои права, чем хозяин названного поместья. По отношению к остальным соседям это приказание не всегда соблюдалось с большой пунктуальностью; но так как нрав джентльмена, у которого куропатки нашли убежище, был хорошо известен, то сторож ни разу еще не покушался вторгнуться в его земли. Не сделал бы он этого и теперь, если бы не уговоры его юного товарища, горевшего желанием преследовать убегающую дичь. Джонс так горячо его упрашивал, что сторож, и сам весьма рьяный охотник, послушался его наконец, проник в соседское поместье и застрелил одну куропатку.
На их беду, в это время невдалеке проезжал верхом сам хозяин; услышав выстрел, он немедленно поскакал туда и накрыл бедного Тома; полевой сторож успел шмыгнуть в густые кусты дрока и счастливо укрылся в них.
Обыскав юношу и найдя у него куропатку, джентльмен поклялся жестоко отомстить и довести до сведения мистера Олверти о проступке Тома. Свои слова он сразу же претворил в дело: помчался к дому соседа и принес жалобу на браконьерство в его поместье в таких сильных выражениях и таким озлобленным тоном, точно воры вломились к нему в дом и унесли самое ценное из обстановки. Он прибавил, что Джонс был не один, но ему не удалось поймать его сообщника: сквайр ясно слышал два выстрела, раздавшиеся почти одновременно.
– Мы нашли только одну эту куропатку, – сказал он, – но бог их знает, сколько они наделали вреда.
По возвращении домой Том немедленно был позван к мистеру Олверти. Он признался в преступлении и совершенно правильно сослался в свое оправдание на то обстоятельство, что выводок поднялся с земли мистера Олверти.
Затем Том был подвергнут допросу: кто с ним находился? Причем мистер Олверти объявил о своей твердой решимости дознаться, поставив обвиняемого в известность насчет показаний сквайра и двух его слуг, что они слышали два выстрела; но Том твердо стоял на своем, уверяя, что он был один; впрочем, сказать правду, сначала он немного колебался, что подтвердило бы убеждение мистера Олверти, если бы слова сквайра и его слуг нуждались в каком-либо подтверждении.
Затем был призван к допросу полевой сторож как лицо, на которое падало подозрение; но, полагаясь на данное ему Томом обещание взять все на себя, он решительно заявил, что не был с молодым барином и даже не видел его сегодня после полудня.
Тогда мистер Олверти обратился к Тому с таким сердитым лицом, какое редко у него бывало, советуя ему сознаться, кто с ним был, ибо он решил непременно это выяснить. Однако юноша упорно отказывался отвечать, и мистер Олверти с гневом прогнал его, сказав, что дает ему время подумать до следующего утра, иначе его подвергнут допросу другие и другим способом.
Бедный Джонс провел очень невеселую ночь, тем более невеселую, что его постоянный компаньон Блайфил был где-то в гостях со своей матерью. Страх грозившего наказания меньше всего мучил его; главной тревогой юноши было, как бы ему не изменила твердость и он не выдал полевого сторожа, который в таком случае был бы неминуемо обречен на гибель. Сторожу тоже было не по себе. Он мучился теми же страхами, что и юноша, также тревожась больше за честь его, чем за кожу.
Утром, явившись к его преподобию мистеру Твакому – особе, которой мистер Олверти поручил обучение обоих мальчиков, – Том услышал от этого джентльмена те же вопросы, какие ему были заданы накануне, и дал на них те же ответы. Следствием этого была жестокая порка, мало чем отличавшаяся от тех пыток, при помощи которых в иных странах исторгаются признания у преступников.
Том выдержал наказание с большой твердостью; и хотя его наставник спрашивал после каждого удара, сознается ли он наконец, мальчик скорее позволил бы содрать с себя кожу, чем согласился бы выдать приятеля или нарушить данное обещание.
Тревога полевого сторожа теперь прошла, и сам мистер Олверти начал проникаться состраданием к Тому; ибо, не говоря уже о том, что мистер Тваком, взбешенный безуспешностью своей попытки заставить мальчика сказать то, чего он от него добивался, поступил с ним гораздо суровее, чем того хотел добрый сквайр, мистер Олверти начал теперь думать, не ошибся ли его сосед, что легко могло случиться с таким крайне запальчивым и раздражительным человеком; а словам слуг, подтверждавшим показание своего господина, он не придавал большой цены. Жестокость и несправедливость были, однако, две такие вещи, сознавать которые в своих поступках мистер Олверти не мог ни одной минуты; он позвал Тома, дружески приласкал его и сказал:
– Я убежден, дитя мое, что мои подозрения были несправедливы, и сожалею, что ты за это так сурово наказан.
Чтобы загладить свою несправедливость, он даже подарил ему лошадку, повторив, что очень опечален случившимся.
Тому стало теперь стыдно своей провинности. Никакая суровость не могла бы довести его до этого состояния; ему легче было вынести удары Твакома, чем великодушие Олверти. Слезы брызнули из глаз его, он упал на колени и воскликнул:
– О, вы слишком, слишком добры ко мне, сэр! Право, я этого не заслуживаю!
И от избытка чувств он в эту минуту чуть было не выдал тайны; но добрый гений сторожа шепнул ему, какие суровые последствия может иметь для бедняги его признание, и эта мысль сомкнула ему уста.
Тваком изо всех сил старался убедить Олверти не жалеть мальчика и не обращаться с ним ласково, говоря, что «он упорствует в неправде», и даже намекнул, что вторичная порка, вероятно, откроет все начистоту.
Однако мистер Олверти решительно отказался дать свое согласие на этот опыт. Он сказал, что мальчик уже довольно наказан за сокрытие истины, даже если он виноват, так как, по-видимому, он поступил таким образом только из ложно понятого долга чести.
– Чести?! – с жаром воскликнул Тваком. – Просто упрямство и непокорность! Разве честь может учить человека лжи, разве честь может существовать независимо от религии?
Беседа происходила за столом по окончании обеда; присутствовали мистер Олверти, мистер Тваком и еще третий джентльмен, вступивший теперь в разговор. Прежде чем идти дальше, бегло познакомим с ним читателя.
Глава III
Характер мистера Сквейра, философа, и мистера Твакома, богослова, их спор касательно…
Имя этого джентльмена, жившего уже некоторое время в доме мистера Олверти, было мистер Сквейр. Его природные дарования были не первого сорта, но он их сильно усовершенствовал учением. Он был глубоко начитан в древних и большой знаток всех творений Платона и Аристотеля. По этим великим образцам он преимущественно и образовал себя; в одних случаях придерживаясь больше мнения первого, а в других – второго. В области нравственности он был убежденнейший платоник, в религии же склонялся к учению Аристотеля.
Однако же, построив свои нравственные понятия по образцам Платона, он был совершенно согласен с Аристотелем во взгляде на этого великого человека и считал его скорее философом и спекулятивным мыслителем, чем законодателем. Взгляд этот он простирал так далеко, что всю добродетель считал предметом одной только теории. Правда, насколько мне известно, он никому этого не высказывал; однако стоило только немножко приглядеться к его поступкам, и невольно напрашивалась мысль, что его убеждения действительно таковы, ибо они прекрасно объясняли некоторые странные противоречия в его натуре. Встречи этого джентльмена с мистером Твакомом почти никогда не обходились без споров, потому что их взгляды на вещи были диаметрально противоположны.
Сквейр считал человеческую природу верхом всяческой добродетели, а порок – такой же ненормальностью, как физическая уродливость. Тваком, наоборот, утверждал, что разум человеческий после грехопадения есть лишь вертеп беззакония, очищаемый и искупаемый только благодатью. В одном лишь они были согласны – именно в том, что во время споров о нравственности никогда не употребляли слова «доброта». Любимым выражением философа было «естественная красота добродетели); любимым выражением богослова – «божественная сила благодати». Философ мерил все поступки, исходя из непреложного закона справедливости и извечной гармонии вещей; богослов судил обо всем на основании авторитета, причем всегда прибегал к Священному Писанию и его комментаторам, как юрист прибегает к комментариям Коука[34 - Коук Эдуард (1552–1634) – основатель современного английского гражданского права, автор «Уставов» («Institutiones») в четырех томах, первый том которых является комментарием к упомянутому трактату Литтлтона. (Примеч. пер.)] на Литтлтона[35 - Литтлтон Эдуард (1589–1645) – английский юрист, написавший на так называемом юридическом французском языке трактат «О владении», который и до сих пор служит основой английского законодательства о собственности. (Примеч. пер.)], считая толкование и текст одинаково авторитетными.
После этого краткого вступления читатель благоволит припомнить, что священник заключил свою речь торжествующим вопросом, на который, по его мнению, не было ответа, а именно: разве честь может существовать независимо от религии?
Сквейр заявил на это, что, не установив предварительно значения слов, невозможно рассуждать о них философски и что едва ли найдутся два слова с более расплывчатым и неопределенным значением, чем слова, им упомянутые, ибо относительно чести существует почти столько же самых разнообразных мнений, как и относительно религии.
– Однако если под честью вы подразумеваете подлинную естественную красоту добродетели, то я берусь утверждать, что она может существовать независимо от всякой религии. Да ведь вы и сами допускаете, что она может существовать независимо от всех религии, кроме одной; то же самое скажет и магометанин, и еврей, и последователь любой секты на свете.
Тваком отвечал, что это обычный лукавый довод всех врагов истинной Церкви. Он сказал, что не сомневается в том, что всем неверующим и еретикам хотелось бы согласить честь со своими нелепыми заблуждениями и пагубными лжеучениями.
– Однако честь, – ораторствовал он, – не является многоразличной вследствие того, что о ней существует много нелепых мнений, как не является многоразличной религия оттого, что на свете есть разные секты и ереси. Когда я говорю о религии, я имею в виду христианскую религию, и не просто христианскую религию, а религию протестантскую, и не просто протестантскую религию, а англиканскую Церковь. И когда я говорю о чести, я разумею род божественной благодати, который не только совместим с этой религией, но и зависит от нее и в то же время несовместим ни с какой иной религией и от нее не зависит. При таких условиях говорить, что подразумеваемая мной честь – а мне кажется, ясно, что никакой иной чести я не мог подразумевать, – будет поддерживать и тем более предписывать неправду, значит, утверждать самую возмутительную нелепость.
– Я умышленно избегал, – отвечал Сквейр, – выводить заключение, которое, мне кажется, с очевидностью следует из моих слов; однако, если вы и уловили его, вы не сделали никакой попытки на него возразить. Впрочем, оставляя в стороне религию, из сказанного вами, я полагаю, ясно, что у нас различные понятия о чести; но почему бы нам не столковаться относительно определения ее в одних и тех же терминах? Я утверждал, что истинная честь и истинная добродетель – почти синонимы и обе основаны на непреложном законе справедливости и вечной гармонии вещей, а так как неправда совершенно несовместима с ними и противоречит им, то ясно, что истинная честь не может терпеть неправду. В этом, следовательно, мы согласны. Но говорить, что эта честь может основываться на религии, в то время как она ей предшествует, если под религией подразумевать положительный закон…
– Как! Я согласен с человеком, утверждающим, будто честь предшествует религии? – с жаром воскликнул Тваком. – Мистер Олверти, разве я согласился?
Тут мистер Олверти оборвал речь, холодно заметив, что они оба ошибочно его поняли, потому что он ничего не говорил об истинной чести. Впрочем, ему, может быть, нелегко было бы успокоить спорщиков, которые в одинаковой степени разгорячились, если бы разговору не положило конец одно неожиданное происшествие.
Глава IV
заключающая в себе необходимое оправдание автора и детскую ссору, тоже, может быть, нуждающуюся в оправдании
Прежде чем идти дальше, прошу позволения предотвратить некоторые кривотолки, к которым может привести слишком большое рвение иных читателей, ибо у меня нет ни малейшего желания кого-либо оскорблять, особенно людей, принимающих близко к сердцу интересы добродетели или религии.
Надеюсь поэтому, никто не допустит такого грубого непонимания и искажения моей мысли, чтобы вообразить, будто я стремлюсь подвергнуть осмеянию величайшие совершенства человеческой природы, которые одни только очищают и облагораживают человеческое сердце и возвышают человека над бессмысленными тварями. Смею уверить вас, читатель (и чем благороднее вы, тем охотнее мне поверите), что я скорее предал бы мнения двух упомянутых лиц вечному забвению, чем согласился высказаться неуважительно о таких священных предметах.
Напротив, я решился рассказать о жизни и действиях двух мнимых поборников добродетели и религии именно с той целью, чтобы содействовать прославлению столь высоких предметов. Вероломный друг – самый опасный враг, и я смело скажу, что лицемеры обесславили религию и добродетель больше, чем самые остроумные хулители и безбожники. Больше того: если добродетель и религия, в их чистом виде, справедливо называются скрепами гражданского общества и являются действительно благословеннейшими дарами, то, отравленные и оскверненные обманом, притворством и лицемерием, они сделались его злейшими проклятиями и толкали людей на самые черные преступления по отношению к их ближним.
Я не сомневаюсь, что такое осмеяние, вообще говоря, позволительно; но из уст двух описываемых мной лиц часто исходили самые верные и правильные суждения, и я боюсь главным образом того, как бы все не было свалено в одну кучу и читатель не подумал, будто я осмеиваю все огулом. Пусть он благоволит принять во внимание, что люди они были неглупые, и нельзя предполагать, будто они придерживались одних только ошибочных убеждений и высказывали одни только нелепости. Какое превратное дал бы я о них представление, если бы выбрал одни только дурные их черты! И какими жалкими и уродливыми показались бы все их рассуждения!
Словом, здесь выставлены с дурной стороны не религия или добродетель, а их отсутствие. Если бы при построении своей системы Тваком не пренебрегал до такой степени добродетелью, а Сквейр – религией и если бы оба они не сбросили со счета естественную доброту сердца, они никогда не явились бы предметом насмешки в этой истории, к которой мы теперь и возвращаемся.
Происшествием, положившим конец разговору, изложенному в последней главе, была ссора между молодым Блайфилом и Томом Джонсом, последствием которой явился окровавленный нос первого. Хоть и младший летами, Блайфил был ростом выше своего товарища, однако Том значительно превосходил его в благородном искусстве биться на кулачки.
Том, однако, тщательно избегал каких-либо столкновений с племянником мистера Олверти. Не говоря уже о том, что при всей своей проказливости Томми Джонс был юноша безобидный и искренне любил Блайфила, на него действовал сдерживающе мистер Тваком, всегда бравший сторону последнего.
Но справедливо сказал один писатель: «Нет человека, который был бы мудр каждую минуту»; неудивительно поэтому, если мудрость иногда покидала мальчика. Заспорив о чем-то во время игры, молодой Блайфил назвал Тома нищим ублюдком. В ответ на это Том, который был нрава горячего, тотчас же украсил его лицо только что упомянутым нами способом.
И вот молодой Блайфил, с текущей из носа кровью и струящимися из глаз вслед за ней слезами, явился на суд дяди и грозного Твакома. В этом трибунале Джонсу тотчас же было предъявлено обвинение в оскорблении действием и ранении. Том в оправдание сослался только на вызывающие слова Блайфила, о которых, впрочем, последний умолчал в своей жалобе. Очень может быть, что это обстоятельство действительно вылетело у него из памяти, потому что в своем ответе он решительно отрицал произнесение им обидных слов, воскликнув:
– Сохрани боже, чтобы из моих уст исходили когда-нибудь такие скверные слова!
Том, в противность всем судебным формальностям, отвечал на возражение повторением брани Блайфила. Тогда последний сказал:
– Неудивительно. Кто раз соврал, тот не посовестится соврать другой раз. Если бы я сказал моему учителю такую гадкую небылицу, как ты, я стыдился бы показаться на глаза людям.