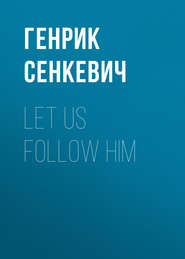По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это в Божьей воле. Во всяком случае, раз здесь князь, то им это дастся нелегко.
– Вот так утешили! Меня не интересует, легко ли это дастся, а важно, чтобы совсем не далось.
– Немалое удовлетворение для солдата, если он не даром отдает свою жизнь.
– Конечно, конечно! Пусть же их гром разразит вместе с вашим удовлетворением!
В эту минуту к ним подошли Подбипента и Володыевский.
– Говорят, что татар и казаков будет около полумиллиона, – сказал литвин.
– Чтоб у вас язык отнялся! – крикнул Заглоба. – Хорошая новость!
– При штурмах их легче рубить, чем в поле, – мягко ответил Подбипента.
– Уж если наш князь и Хмельницкий встретились наконец, – сказал Володыевский, – то о переговорах нечего и говорить. Завтра будет судный день, – прибавил он, потирая руки.
Маленький рыцарь был прав. В этой войне, столь долгой, еще ни разу не сходились лицом к лицу эти два страшных льва. Один громил гетманов и полковников, другой – мощных атаманов казацких; за одним и другим вослед шла победа, один и другой были страшилищем для врагов, но на чью сторону склонятся весы победы в непосредственном столкновении, должно было решиться только теперь. Вишневецкий смотрел с вала на бесчисленные полчища татар и казаков и тщетно старался охватить их взглядом; Хмельницкий поглядывал с поля на замок и лагерь и думал в душе: «Там мой страшнейший враг, если я сотру с лица земли и его, кто решится противиться мне?»
Легко было отгадать, что борьба между этими двумя людьми будет долгая и отчаянная, но в результате ее нельзя было сомневаться. Этот «князь на Лубнах и Вишневце» стоял во главе пятнадцати тысяч людей, считая и обозную прислугу, между тем как за крестьянским вождем шли полчиша, жившие на пространстве от Азовского моря и Дона вплоть до устьев Дуная. С ним шел хан во главе орд крымской, белгородской, ногайской и добруджской, шел народ, обитавший по всем притокам Днестра и Днепра, шли низовцы и бесчисленная чернь – из степей, яров, лесов, городов, местечек, деревень и хуторов, и все те, кто прежде служил в магнатских или коренных войсках; шли черкесы, валахские каралаши, силистрийские турки, шли даже ватаги сербов и болгар. Могло показаться, будто это новое переселение народов, которые бросили свои мрачные степные жилища и движутся на запад, чтобы занять новые земли и образовать новое государство.
Таково было соотношение борющихся сил… Горсть против тысяч, остров против моря. И неудивительно, что не одно сердце билось тревогой; и не только в городе, не только в этом краю, но во всей Речи Посполитой смотрели на эти одинокие окопы, окруженные морем диких воинов, как на могилу великих рыцарей и их великого вождя.
Так же, должно быть, смотрел и Хмельницкий, ибо только лишь загорелись костры в его лагерях, как перед окопами появился казак с белым знаменем, стал трубить и кричать, чтобы не стреляли.
Стража вышла и тотчас схватила казака.
– От гетмана к князю Ереме, – сказал он.
Князь еще не сходил с коня и стоял на валу с безоблачно ясным лицом. Зарево костров отражалось в его глазах и озаряло его бледное лицо розовым светом. Казак, остановившись перед князем, не мог проговорить ни слова: колени его задрожали и мурашки пошли по всему телу, хотя это был старый степной волк и прибыл он в качестве посла.
– Кто ты? – спросил князь-воевода, остановив на нем свой спокойный взор.
– Я сотник Сокол… от гетмана.
– А с чем пришел?
Старик стал низко, до самого стремени князя, кланяться.
– Прости, пане! Что мне приказали, то скажу – я ни в чем не виноват.
– Говори смело!
– Гетман велел мне сказать, что он прибыл в гости в Збараж и завтра навестит вас в замке.
– Скажи ему, что пир я даю не завтра, а сегодня! – ответил князь.
И действительно, час спустя загремели пушки, раздались радостные крики, и все окна в замке засияли от тысячи горящих свечей.
Хан, услышав салютные выстрелы, звуки труб и литавр, вышел из шатра в сопровождении брата Нурадина, султана Галги, Тугай-бея и многих мурз, а затем послал за Хмельницким.
Гетман хоть и подвыпил немного, но тотчас явился и, низко кланяясь и прикладывая руку ко лбу, бороде и груди, ждал вопроса.
Хан долго смотрел на замок, блестевший вдали как огромный фонарь, и слегка кивал головой. Наконец погладил рукой свою жидкую бороду, которая двумя длинными космами спускалась на его соболью шубу, и сказал, указывая пальцем на освещенные окна замка:
– Гетман запорожский, что это там?
– Могущественнейший царь, – ответил Хмельницкий, – это пирует князь Ерема.
Хан изумился.
– Пирует?
– Там пируют завтрашние трупы, – сказал гетман.
В эту минуту в замке раздались новые выстрелы, зазвучали трубы, и смешанные крики донеслись до ушей хана.
– Един Бог, – пробормотал он. – Лев в сердце этого гяура!
И после минутного молчания он прибавил:
– Я предпочел бы быть с ним, чем с тобой.
Хмельницкий вздрогнул. Дорогой ценой оплачивал он необходимую дружбу с татарами и к тому же не был уверен в страшном союзнике. По прихоти хана все орды могли обратиться против казаков, которые тогда окончательно погибли бы. Притом же Хмельницкий видел, что хан помогал ему, в сущности, ради добычи, ради даров, ради несчастных пленников, и что, считая себя законным монархом, в душе он стыдился становиться на сторону восставших против короля, на сторону какого-то «Хмеля», против такого льва, как Вишневецкий.
Казацкий гетман часто напивался не только из страсти к вину, но и с отчаяния…
– Великий монарх! – сказал он. – Ерема твой враг. Это он отнял у татар Заднепровье, он побитых мурз, как волков, вешал по деревьям, он хотел идти на Крым с огнем и мечом…
– А вы разве не разоряли улусов? – спросил хан.
– Я твой невольник.
Синие губы Тугай-бея задрожали, и блеснули клыки; у него среди казаков был смертельный враг, который когда-то вырезал у него целый чамбул и чуть не схватил его самого. Имя его невольно просилось теперь на его уста со всей силой мстительных воспоминаний, и он пробормотал:
– Бурлай! Бурлай!
– Тугай-бей, – тотчас сказал Хмельницкий, – по мудрому повелению хана вы с Бурлаем в прошлом году лили воду на мечи.
Новый залп в замке прервал дальнейший разговор. Хан протянул руку и описал ею круг, обнимавший Збараж, замок и окна.
– Завтра это мое? – спросил он, обращаясь к Хмельницкому.
– Завтра они умрут, – ответил гетман, устремив глаза на замок.
Потом он снова стал бить поклоны и касаться рукой лба, бороды и груди, считая разговор оконченным. Хан запахнулся в соболью шубу, так как ночь была холодная, хотя и июльская, и сказал, повернувшись к шатрам:
– Уже поздно!
– Вот так утешили! Меня не интересует, легко ли это дастся, а важно, чтобы совсем не далось.
– Немалое удовлетворение для солдата, если он не даром отдает свою жизнь.
– Конечно, конечно! Пусть же их гром разразит вместе с вашим удовлетворением!
В эту минуту к ним подошли Подбипента и Володыевский.
– Говорят, что татар и казаков будет около полумиллиона, – сказал литвин.
– Чтоб у вас язык отнялся! – крикнул Заглоба. – Хорошая новость!
– При штурмах их легче рубить, чем в поле, – мягко ответил Подбипента.
– Уж если наш князь и Хмельницкий встретились наконец, – сказал Володыевский, – то о переговорах нечего и говорить. Завтра будет судный день, – прибавил он, потирая руки.
Маленький рыцарь был прав. В этой войне, столь долгой, еще ни разу не сходились лицом к лицу эти два страшных льва. Один громил гетманов и полковников, другой – мощных атаманов казацких; за одним и другим вослед шла победа, один и другой были страшилищем для врагов, но на чью сторону склонятся весы победы в непосредственном столкновении, должно было решиться только теперь. Вишневецкий смотрел с вала на бесчисленные полчища татар и казаков и тщетно старался охватить их взглядом; Хмельницкий поглядывал с поля на замок и лагерь и думал в душе: «Там мой страшнейший враг, если я сотру с лица земли и его, кто решится противиться мне?»
Легко было отгадать, что борьба между этими двумя людьми будет долгая и отчаянная, но в результате ее нельзя было сомневаться. Этот «князь на Лубнах и Вишневце» стоял во главе пятнадцати тысяч людей, считая и обозную прислугу, между тем как за крестьянским вождем шли полчиша, жившие на пространстве от Азовского моря и Дона вплоть до устьев Дуная. С ним шел хан во главе орд крымской, белгородской, ногайской и добруджской, шел народ, обитавший по всем притокам Днестра и Днепра, шли низовцы и бесчисленная чернь – из степей, яров, лесов, городов, местечек, деревень и хуторов, и все те, кто прежде служил в магнатских или коренных войсках; шли черкесы, валахские каралаши, силистрийские турки, шли даже ватаги сербов и болгар. Могло показаться, будто это новое переселение народов, которые бросили свои мрачные степные жилища и движутся на запад, чтобы занять новые земли и образовать новое государство.
Таково было соотношение борющихся сил… Горсть против тысяч, остров против моря. И неудивительно, что не одно сердце билось тревогой; и не только в городе, не только в этом краю, но во всей Речи Посполитой смотрели на эти одинокие окопы, окруженные морем диких воинов, как на могилу великих рыцарей и их великого вождя.
Так же, должно быть, смотрел и Хмельницкий, ибо только лишь загорелись костры в его лагерях, как перед окопами появился казак с белым знаменем, стал трубить и кричать, чтобы не стреляли.
Стража вышла и тотчас схватила казака.
– От гетмана к князю Ереме, – сказал он.
Князь еще не сходил с коня и стоял на валу с безоблачно ясным лицом. Зарево костров отражалось в его глазах и озаряло его бледное лицо розовым светом. Казак, остановившись перед князем, не мог проговорить ни слова: колени его задрожали и мурашки пошли по всему телу, хотя это был старый степной волк и прибыл он в качестве посла.
– Кто ты? – спросил князь-воевода, остановив на нем свой спокойный взор.
– Я сотник Сокол… от гетмана.
– А с чем пришел?
Старик стал низко, до самого стремени князя, кланяться.
– Прости, пане! Что мне приказали, то скажу – я ни в чем не виноват.
– Говори смело!
– Гетман велел мне сказать, что он прибыл в гости в Збараж и завтра навестит вас в замке.
– Скажи ему, что пир я даю не завтра, а сегодня! – ответил князь.
И действительно, час спустя загремели пушки, раздались радостные крики, и все окна в замке засияли от тысячи горящих свечей.
Хан, услышав салютные выстрелы, звуки труб и литавр, вышел из шатра в сопровождении брата Нурадина, султана Галги, Тугай-бея и многих мурз, а затем послал за Хмельницким.
Гетман хоть и подвыпил немного, но тотчас явился и, низко кланяясь и прикладывая руку ко лбу, бороде и груди, ждал вопроса.
Хан долго смотрел на замок, блестевший вдали как огромный фонарь, и слегка кивал головой. Наконец погладил рукой свою жидкую бороду, которая двумя длинными космами спускалась на его соболью шубу, и сказал, указывая пальцем на освещенные окна замка:
– Гетман запорожский, что это там?
– Могущественнейший царь, – ответил Хмельницкий, – это пирует князь Ерема.
Хан изумился.
– Пирует?
– Там пируют завтрашние трупы, – сказал гетман.
В эту минуту в замке раздались новые выстрелы, зазвучали трубы, и смешанные крики донеслись до ушей хана.
– Един Бог, – пробормотал он. – Лев в сердце этого гяура!
И после минутного молчания он прибавил:
– Я предпочел бы быть с ним, чем с тобой.
Хмельницкий вздрогнул. Дорогой ценой оплачивал он необходимую дружбу с татарами и к тому же не был уверен в страшном союзнике. По прихоти хана все орды могли обратиться против казаков, которые тогда окончательно погибли бы. Притом же Хмельницкий видел, что хан помогал ему, в сущности, ради добычи, ради даров, ради несчастных пленников, и что, считая себя законным монархом, в душе он стыдился становиться на сторону восставших против короля, на сторону какого-то «Хмеля», против такого льва, как Вишневецкий.
Казацкий гетман часто напивался не только из страсти к вину, но и с отчаяния…
– Великий монарх! – сказал он. – Ерема твой враг. Это он отнял у татар Заднепровье, он побитых мурз, как волков, вешал по деревьям, он хотел идти на Крым с огнем и мечом…
– А вы разве не разоряли улусов? – спросил хан.
– Я твой невольник.
Синие губы Тугай-бея задрожали, и блеснули клыки; у него среди казаков был смертельный враг, который когда-то вырезал у него целый чамбул и чуть не схватил его самого. Имя его невольно просилось теперь на его уста со всей силой мстительных воспоминаний, и он пробормотал:
– Бурлай! Бурлай!
– Тугай-бей, – тотчас сказал Хмельницкий, – по мудрому повелению хана вы с Бурлаем в прошлом году лили воду на мечи.
Новый залп в замке прервал дальнейший разговор. Хан протянул руку и описал ею круг, обнимавший Збараж, замок и окна.
– Завтра это мое? – спросил он, обращаясь к Хмельницкому.
– Завтра они умрут, – ответил гетман, устремив глаза на замок.
Потом он снова стал бить поклоны и касаться рукой лба, бороды и груди, считая разговор оконченным. Хан запахнулся в соболью шубу, так как ночь была холодная, хотя и июльская, и сказал, повернувшись к шатрам:
– Уже поздно!