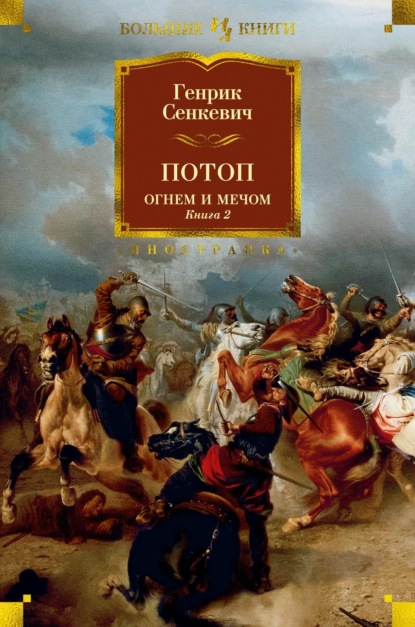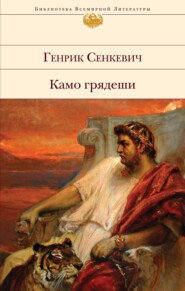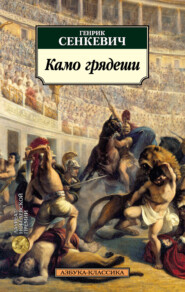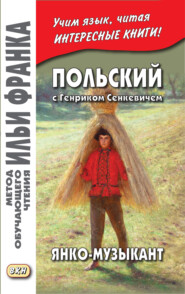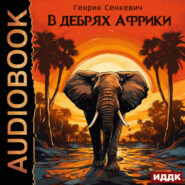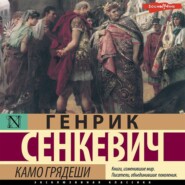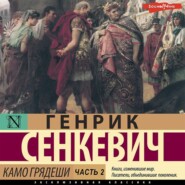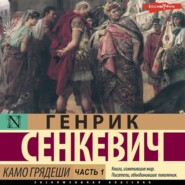По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Потоп. Огнем и мечом. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Твори Бог волю свою! – сказала она наконец. – Коли ты, пан Анджей, от меня отказываешься, иди своей дорогой! Господь останется покровом сироте!
– Я от тебя отказываюсь? – с величайшим изумлением спросил Кмициц.
– Да, коли не словом, так делом, коли не ты от меня, так я от тебя. Потому что не пойду я за человека, на чьей совести людские слезы и людская кровь, на кого пальцем показывают, кого отщепенцем зовут и разбойником и почитают предателем!
– Каким предателем? Не вводи ты меня в грех, не то я такое сотворю, что сам потом буду жалеть. Чтоб меня громом убило, провалиться мне на этом месте, коли я предатель, это я-то, что стал на защиту отчизны, когда у всех опустились руки!
– Ты стал на ее защиту, пан Анджей, а поступаешь как враг, потому что топчешь ее, потому что наших людей истязаешь, потому что попираешь божеские и людские законы. Нет, пусть у меня сердце разорвется, не хочу я тебя такого, не хочу!
– Не говори мне об этом, не то я взбешусь! Пресвятая Богородица, спаси и помилуй! Да не захочешь ты добром пойти за меня, силком возьму, хоть бы вся голытьба из застянков, хоть бы сами Радзивиллы, сам король и все черти рогами тебя обороняли, хоть бы душу дьяволу пришлось продать…
– Не поминай нечистого, услышит! – вскричала Оленька, протягивая руки.
– Чего ты от меня хочешь?
– Будь же ты достойным человеком!
Они оба умолкли, и в покое воцарилась тишина. Слышно было только, как тяжело дышит пан Анджей. Его все-таки проняло от последних слов Оленьки, совесть в нем заговорила. Он чувствовал себя униженным. Не знал, что ответить ей, как оправдаться. Быстрыми шагами стал ходить по комнате; она сидела неподвижно. Облако раздора повисло над ними, обиды и раздражения. Тяжело им было обоим, и долгое молчание становилось все несносней.
– Прощай! – сказал вдруг Кмициц.
– Поезжай, пан Анджей, и пусть Бог наставит тебя на путь истинный, – ответила Оленька.
– Поеду! Горько было твое питье, горек хлеб! Желчью и оцтом меня тут напоили!
– А ты думаешь, пан Анджей, что меня сладостью ты напоил? – ответила она голосом, в котором дрожали слезы.
– Прощай!
– Прощай!
Кмициц шагнул было к двери, но вдруг повернулся и, подбежав к панне Александре, схватил ее за руки:
– Господи, неужто ты хочешь, чтобы я в дороге мертвый упал с коня?
Тут Оленька дала волю слезам; он обнял ее и держал, трепещущую, в объятиях, повторяя сквозь стиснутые зубы:
– Бей же меня, кто в Бога верует, бей, не жалей! – Наконец он не выдержал: – Не плачь, Оленька, ради Христа, не плачь! В чем я перед тобой провинился? Я все сделаю, что только ты пожелаешь. Отошлю их прочь. В Упите все улажу, жить стану по-иному, потому что люблю тебя!.. Ради Христа, сердце у меня разорвется… я все сделаю, только не плачь… и люби меня хоть немножко!..
Так он утешал ее и голубил, а она, выплакавшись, сказала ему:
– Поезжай, пан Анджей. Господь примирит нас. Я на тебя не в обиде, только болит мое сердце…
Луна высоко поднялась уже над белыми полями, когда пан Анджей отправился в Любич, а за ним тронулись шагом солдаты, вытянувшись лентой на широкой дороге. Они ехали не через Волмонтовичи, а прямиком через болота, скованные морозом, по которым сейчас можно было безопасно проехать.
Вахмистр Сорока поравнялся с паном Анджеем.
– Пан ротмистр, – спросил он, – а где нам в Любиче остановиться?
– Пошел прочь! – ответил Кмициц.
Он ехал впереди, ни с кем не говоря ни слова. В сердце его кипели горькие чувства сожаления, порою гнева, но прежде всего досады на самого себя. Это была первая ночь в его жизни, когда он держал ответ перед совестью, и упреки ее были тяжелей самой тяжелой кольчуги. Ехал он сюда, а за ним дурная слава бежала, и что же он сделал, чтобы поправить ее? В первый же день позволил товарищам в Любиче стрелять и распутничать и солгал, будто сам не распутничал, а на самом-то деле распутничал, а потом каждый день позволял им бесчинствовать. Дальше: солдаты обидели горожан, а он усугубил эту обиду. Хуже того, набросился на поневежский гарнизон, людей избил, офицеров голыми гонял по снегу… Предадут его суду – и конец. Лишат имущества и чести, а может, и к смертной казни присудят. Ведь не сможет же он по-прежнему, собрав ватагу вооруженной голытьбы, глумиться над законом, ведь он жениться хочет, осесть в Водоктах, служить не на свой страх, а в войске, а там закон найдет его и настигнет кара. А если кара и минует его, все равно дурные это поступки, недостойные рыцаря. Может, ему и удастся замять дело, но память о них останется и в людских сердцах, и в его собственной совести, и в сердце Оленьки… И как вспомнил он тут, что она еще не оттолкнула его, что, уезжая, он прочитал в ее взоре прощение, доброй она ему показалась, как ангелы небесные. И взяла его охота не завтра, а сейчас вот воротиться к ней, прискакать, и повалиться в ноги, и просить забыть все, и целовать ее сладостные очи, которые слезами оросили сегодня его лицо.
Ему хотелось самому зарыдать, и чувствовал он, что любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Пресвятая Дева! – думал он в душе. – Я все сделаю, что она только пожелает; щедро оделю товарищей и отправлю их на край света, потому что это правда, что они толкают меня на злые дела».
Тут пришло ему на ум, что вот приедет он в Любич и, наверно, застанет их пьяных или с девками, и такое взяло его зло, что захотелось броситься на кого-нибудь с саблей, хоть на тех же солдат, которых он вел, и рубить без пощады.
– Ну и задам же я им! – ворчал он, теребя ус. – Они меня еще таким не видали, каким нынче увидят!
Тут он в ярости стал шпорить коня, дергать и рвать поводья, так что разгорячил своего аргамака. Видя это, Сорока проворчал, обращаясь к солдатам:
– Взбесился ротмистр. Не приведи бог попасть ему под сердитую руку!
Пан Анджей и впрямь бесился. Великий покой царил вокруг. Ясно светила луна, в небе сверкали тысячи звезд, даже ветерок не шевелил ветвей на деревьях, – только в сердце рыцаря была целая буря. Дорога до Любича показалась ему длинной, как никогда. Какой-то неведомый доселе страх стал надвигаться на него из мрака, из лесных дебрей, с полей, залитых зеленоватым лунным светом. Наконец усталость овладела паном Анджеем, потому что, говоря правду, всю прошлую ночь он в Упите пропьянствовал и прогулял. Но он хотел клин клином выбить, быстрой ездой стряхнуть с себя тревогу, повернулся к солдатам и скомандовал:
– Рысью!
Он понесся стрелой, а за ним весь отряд. Они мчались по лесам и пустым полям, словно тот дьявольский легион рыцарей-крестоносцев, который, как рассказывают в Жмуди, появляется в ясные лунные ночи и несется по воздуху, предвещая войну и небывалые бедствия. Топот летел вперед и назад, взмылились кони, и только тогда, когда за поворотом показались заснеженные крыши Любича, отряд убавил ходу.
Ворота были отворены настежь. Когда двор наполнили люди и кони, Кмициц удивился, что никто не вышел спросить, кто же это приехал. Он думал, что окна будут пылать огнями, что он услышит чакан Углика, скрипку или веселые клики пирующих; меж тем только в двух окнах столового покоя мерцал слабый огонек, всюду было темно, тихо и глухо. Вахмистр Сорока первый спешился, чтобы подержать ротмистру стремя.
– Ступайте спать! – сказал Кмициц. – Кто поместится в людской, пусть спит там, остальные – по конюшням. Коней поставить в риги и хлева и принести им сена из сарая.
– Слушаюсь! – ответил вахмистр.
Кмициц соскочил с коня. Дверь в сени была распахнута настежь, сени выстудились.
– Эй, там! Есть там кто?
Молчание.
– Перепились!.. – проворчал пан Анджей.
И его охватила такая ярость, что он зубами заскрежетал. По дороге сюда он трясся от гнева, думая, что застанет пьянство и гульбу, теперь эта тишина бесила его еще больше.
Он вошел в столовый покой. На большом столе, мерцая, горел красный огонек чадной масляной светильни. Струя воздуха, ворвавшись из сеней, заколебала пламя так, что с минуту пан Анджей ничего не мог разглядеть. Только тогда, когда огонек успокоился, он увидел ряд тел, ровно вытянувшихся на полу у стены.
– Перепились насмерть, что ли? – с беспокойством пробормотал он.
Затем нетерпеливо подошел к телу, лежавшему с краю. Лица он не мог разглядеть, оно было погружено в тень, но по белому кожаному поясу и белому футляру чакана он узнал Углика и начал бесцеремонно пинать его ногой:
– Вставайте, чертовы дети, вставайте!
Только тогда, когда огонек успокоился, он увидел ряд тел, ровно вытянувшихся на полу у стены.
Но Углик лежал неподвижно, и руки его были бессильно брошены вдоль тела, а за ним лежали остальные; никто не зевнул, не шевельнулся, не проснулся, не забормотал. В ту же минуту Кмициц заметил, что все они лежат навзничь, в одинаковом положении, и сердце его сжалось от страшного предчувствия.
Подбежав к столу, он трясущейся рукой схватил светильню и приблизил ее к лицам лежащих.
– Я от тебя отказываюсь? – с величайшим изумлением спросил Кмициц.
– Да, коли не словом, так делом, коли не ты от меня, так я от тебя. Потому что не пойду я за человека, на чьей совести людские слезы и людская кровь, на кого пальцем показывают, кого отщепенцем зовут и разбойником и почитают предателем!
– Каким предателем? Не вводи ты меня в грех, не то я такое сотворю, что сам потом буду жалеть. Чтоб меня громом убило, провалиться мне на этом месте, коли я предатель, это я-то, что стал на защиту отчизны, когда у всех опустились руки!
– Ты стал на ее защиту, пан Анджей, а поступаешь как враг, потому что топчешь ее, потому что наших людей истязаешь, потому что попираешь божеские и людские законы. Нет, пусть у меня сердце разорвется, не хочу я тебя такого, не хочу!
– Не говори мне об этом, не то я взбешусь! Пресвятая Богородица, спаси и помилуй! Да не захочешь ты добром пойти за меня, силком возьму, хоть бы вся голытьба из застянков, хоть бы сами Радзивиллы, сам король и все черти рогами тебя обороняли, хоть бы душу дьяволу пришлось продать…
– Не поминай нечистого, услышит! – вскричала Оленька, протягивая руки.
– Чего ты от меня хочешь?
– Будь же ты достойным человеком!
Они оба умолкли, и в покое воцарилась тишина. Слышно было только, как тяжело дышит пан Анджей. Его все-таки проняло от последних слов Оленьки, совесть в нем заговорила. Он чувствовал себя униженным. Не знал, что ответить ей, как оправдаться. Быстрыми шагами стал ходить по комнате; она сидела неподвижно. Облако раздора повисло над ними, обиды и раздражения. Тяжело им было обоим, и долгое молчание становилось все несносней.
– Прощай! – сказал вдруг Кмициц.
– Поезжай, пан Анджей, и пусть Бог наставит тебя на путь истинный, – ответила Оленька.
– Поеду! Горько было твое питье, горек хлеб! Желчью и оцтом меня тут напоили!
– А ты думаешь, пан Анджей, что меня сладостью ты напоил? – ответила она голосом, в котором дрожали слезы.
– Прощай!
– Прощай!
Кмициц шагнул было к двери, но вдруг повернулся и, подбежав к панне Александре, схватил ее за руки:
– Господи, неужто ты хочешь, чтобы я в дороге мертвый упал с коня?
Тут Оленька дала волю слезам; он обнял ее и держал, трепещущую, в объятиях, повторяя сквозь стиснутые зубы:
– Бей же меня, кто в Бога верует, бей, не жалей! – Наконец он не выдержал: – Не плачь, Оленька, ради Христа, не плачь! В чем я перед тобой провинился? Я все сделаю, что только ты пожелаешь. Отошлю их прочь. В Упите все улажу, жить стану по-иному, потому что люблю тебя!.. Ради Христа, сердце у меня разорвется… я все сделаю, только не плачь… и люби меня хоть немножко!..
Так он утешал ее и голубил, а она, выплакавшись, сказала ему:
– Поезжай, пан Анджей. Господь примирит нас. Я на тебя не в обиде, только болит мое сердце…
Луна высоко поднялась уже над белыми полями, когда пан Анджей отправился в Любич, а за ним тронулись шагом солдаты, вытянувшись лентой на широкой дороге. Они ехали не через Волмонтовичи, а прямиком через болота, скованные морозом, по которым сейчас можно было безопасно проехать.
Вахмистр Сорока поравнялся с паном Анджеем.
– Пан ротмистр, – спросил он, – а где нам в Любиче остановиться?
– Пошел прочь! – ответил Кмициц.
Он ехал впереди, ни с кем не говоря ни слова. В сердце его кипели горькие чувства сожаления, порою гнева, но прежде всего досады на самого себя. Это была первая ночь в его жизни, когда он держал ответ перед совестью, и упреки ее были тяжелей самой тяжелой кольчуги. Ехал он сюда, а за ним дурная слава бежала, и что же он сделал, чтобы поправить ее? В первый же день позволил товарищам в Любиче стрелять и распутничать и солгал, будто сам не распутничал, а на самом-то деле распутничал, а потом каждый день позволял им бесчинствовать. Дальше: солдаты обидели горожан, а он усугубил эту обиду. Хуже того, набросился на поневежский гарнизон, людей избил, офицеров голыми гонял по снегу… Предадут его суду – и конец. Лишат имущества и чести, а может, и к смертной казни присудят. Ведь не сможет же он по-прежнему, собрав ватагу вооруженной голытьбы, глумиться над законом, ведь он жениться хочет, осесть в Водоктах, служить не на свой страх, а в войске, а там закон найдет его и настигнет кара. А если кара и минует его, все равно дурные это поступки, недостойные рыцаря. Может, ему и удастся замять дело, но память о них останется и в людских сердцах, и в его собственной совести, и в сердце Оленьки… И как вспомнил он тут, что она еще не оттолкнула его, что, уезжая, он прочитал в ее взоре прощение, доброй она ему показалась, как ангелы небесные. И взяла его охота не завтра, а сейчас вот воротиться к ней, прискакать, и повалиться в ноги, и просить забыть все, и целовать ее сладостные очи, которые слезами оросили сегодня его лицо.
Ему хотелось самому зарыдать, и чувствовал он, что любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Пресвятая Дева! – думал он в душе. – Я все сделаю, что она только пожелает; щедро оделю товарищей и отправлю их на край света, потому что это правда, что они толкают меня на злые дела».
Тут пришло ему на ум, что вот приедет он в Любич и, наверно, застанет их пьяных или с девками, и такое взяло его зло, что захотелось броситься на кого-нибудь с саблей, хоть на тех же солдат, которых он вел, и рубить без пощады.
– Ну и задам же я им! – ворчал он, теребя ус. – Они меня еще таким не видали, каким нынче увидят!
Тут он в ярости стал шпорить коня, дергать и рвать поводья, так что разгорячил своего аргамака. Видя это, Сорока проворчал, обращаясь к солдатам:
– Взбесился ротмистр. Не приведи бог попасть ему под сердитую руку!
Пан Анджей и впрямь бесился. Великий покой царил вокруг. Ясно светила луна, в небе сверкали тысячи звезд, даже ветерок не шевелил ветвей на деревьях, – только в сердце рыцаря была целая буря. Дорога до Любича показалась ему длинной, как никогда. Какой-то неведомый доселе страх стал надвигаться на него из мрака, из лесных дебрей, с полей, залитых зеленоватым лунным светом. Наконец усталость овладела паном Анджеем, потому что, говоря правду, всю прошлую ночь он в Упите пропьянствовал и прогулял. Но он хотел клин клином выбить, быстрой ездой стряхнуть с себя тревогу, повернулся к солдатам и скомандовал:
– Рысью!
Он понесся стрелой, а за ним весь отряд. Они мчались по лесам и пустым полям, словно тот дьявольский легион рыцарей-крестоносцев, который, как рассказывают в Жмуди, появляется в ясные лунные ночи и несется по воздуху, предвещая войну и небывалые бедствия. Топот летел вперед и назад, взмылились кони, и только тогда, когда за поворотом показались заснеженные крыши Любича, отряд убавил ходу.
Ворота были отворены настежь. Когда двор наполнили люди и кони, Кмициц удивился, что никто не вышел спросить, кто же это приехал. Он думал, что окна будут пылать огнями, что он услышит чакан Углика, скрипку или веселые клики пирующих; меж тем только в двух окнах столового покоя мерцал слабый огонек, всюду было темно, тихо и глухо. Вахмистр Сорока первый спешился, чтобы подержать ротмистру стремя.
– Ступайте спать! – сказал Кмициц. – Кто поместится в людской, пусть спит там, остальные – по конюшням. Коней поставить в риги и хлева и принести им сена из сарая.
– Слушаюсь! – ответил вахмистр.
Кмициц соскочил с коня. Дверь в сени была распахнута настежь, сени выстудились.
– Эй, там! Есть там кто?
Молчание.
– Перепились!.. – проворчал пан Анджей.
И его охватила такая ярость, что он зубами заскрежетал. По дороге сюда он трясся от гнева, думая, что застанет пьянство и гульбу, теперь эта тишина бесила его еще больше.
Он вошел в столовый покой. На большом столе, мерцая, горел красный огонек чадной масляной светильни. Струя воздуха, ворвавшись из сеней, заколебала пламя так, что с минуту пан Анджей ничего не мог разглядеть. Только тогда, когда огонек успокоился, он увидел ряд тел, ровно вытянувшихся на полу у стены.
– Перепились насмерть, что ли? – с беспокойством пробормотал он.
Затем нетерпеливо подошел к телу, лежавшему с краю. Лица он не мог разглядеть, оно было погружено в тень, но по белому кожаному поясу и белому футляру чакана он узнал Углика и начал бесцеремонно пинать его ногой:
– Вставайте, чертовы дети, вставайте!
Только тогда, когда огонек успокоился, он увидел ряд тел, ровно вытянувшихся на полу у стены.
Но Углик лежал неподвижно, и руки его были бессильно брошены вдоль тела, а за ним лежали остальные; никто не зевнул, не шевельнулся, не проснулся, не забормотал. В ту же минуту Кмициц заметил, что все они лежат навзничь, в одинаковом положении, и сердце его сжалось от страшного предчувствия.
Подбежав к столу, он трясущейся рукой схватил светильню и приблизил ее к лицам лежащих.