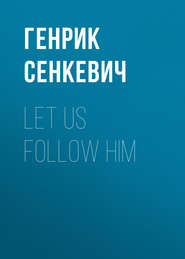По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пан Володыевский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На лице Баси был испуг, губы ее дрожали, точно от плача. Ни гранат, ни пушечного грохота, ни обломков камней она не боялась, боялась она только гнева мужа. Она сложила руки, как ребенок, который боится наказания, и говорила голосом, дрожащим от слез:
– Я не могла, Михалок, клянусь любовью к тебе, не могла. Не сердись, Михалок, не сердись. Я не могу там усидеть, когда ты в огне, не могу, не могу!
Он, действительно, начал было сердиться и даже крикнул:
– Баська! Побойся ты Бога!
Но вдруг его охватила жалость к ней, голос его дрогнул, и, только когда эта милая светлая головка была уже у него на груди, он сказал:
– Друг ты мой верный, верный до смерти! Мой… И он обнял ее.
А Заглоба между тем, укрывшись в нишу стены, поспешно говорил Кетлингу:
– И твоя тоже хотела идти, но мы ее обманули, сказав, что не пойдем. На мост из города в замок гранаты летят, как груши. Я думал, что умру, – не от страха, конечно, а от злости. Я упал на острые осколки и так оцарапал себе кожу, что целую неделю сесть не смогу. Уф, а эти шельмы все стреляют, чтоб их громом перебило. Пан Потоцкий хочет мне передать команду. Дайте пить солдатам, иначе не выдержат. Смотрите на эту гранату. Ей-богу, она упадет здесь, где-нибудь близко… Заслоните Басю. Ей-богу, близко.
Но граната упала далеко – на крышу лютеранской часовни в старом замке. Рассчитывая на прочность сводов, осажденные поместили там пороховые запасы, но граната пробила свод, и произошел взрыв. Страшный грохот, сильнее пушечных громов, потряс основания обоих замков. Со стен послышались крики ужаса, польские и турецкие пушки замолкли. Кетлинг бросил Заглобу, Володыевский Басю, и оба бросились на крепостные стены. С минуту было слышно, как они оба, запыхавшись, отдавали приказания, но их голоса были заглушены боем барабанов в турецких шанцах.
– Будут атаковать! – прошептал Заглоба.
И действительно, турки, услыхав взрыв, предположили, что оба замка разрушены, а защитники частью погребены под их развалинами, частью в панике. Рассчитывая на это, они готовились к штурму. Глупцы! Они не знали, что одна только лютеранская часовня взлетела на воздух, взрыв же, кроме потрясения, не причинил никакого вреда; в новом замке ни одна пушка не сошла с лафета. Но в шанцах бой барабанов был все громче. Толпы янычар сошли с шанцев и побежали к замку. Огни были погашены и в замке, и в турецких окопах, но ночь была ясная, и при свете луны легко можно было разглядеть массу белых янычарских шапок, колеблемых во время бега наподобие волны, колыхаемой ветром. Несколько тысяч янычар и несколько сотен «джамаков». Некоторым из них никогда уже не пришлось увидать константинопольских минаретов, светлых вод Босфора и темных кипарисов, но они бежали с яростью, рассчитывая на победу.
Володыевский побежал во весь дух вдоль крепостных стен.
– Не стрелять, ждать команды! – кричал он у каждого орудия. Драгуны с мушкетами легли на стенах.
Воцарилась тишина, слышен был только отголосок быстрых шагов янычар, точно отдаленный гром. Чем ближе они были, тем были увереннее, что сразу овладеют обоими замками. Многие полагали, что остатки защитников отступили к городу и что на крепостных стенах никого нет. Добежав до рва, они стали засыпать его мешками с соломой и засыпали в одно мгновение.
На крепостных стенах все было тихо.
Но когда первые ряды вошли в засыпанный мешками ров, в одном месте бастиона раздался выстрел из пистолета, и пронзительный голос скомандовал:
– Огонь!
И тотчас оба бастиона и соединяющая их стена засветились длинной лентой огня; раздался грохот орудий, треск мушкетных выстрелов, крики нападающих. И как копье, брошенное сильной рукой охотника, до половины вонзается в брюхо медведя, и тот свертывается в клубок, рычит, бросается в разные стороны, мечется и опять свертывается, так и толпы янычар сбились в одну кучу. Ни один выстрел поляков не пропал даром. Орудия, заряженные картечью, валили на землю людей целыми десятками, как ветер одним порывом клонит к земле целое хлебное поле. Та часть янычар, которая бросилась на стену, соединяющую бастионы, очутилась среди трех огней и, охваченная ужасом, столпилась в беспорядочную кучу. Кетлинг из двух орудий засыпал эту кучу картечью, и когда наконец она бросилась бежать, он отрезал ей путь к спасению, залив узкий проход между бастионами дождем свинца и железа.
Штурм был отбит по всей линии. Когда янычары, отступив от рва, обратились в паническое бегство, в турецких шанцах зажгли смоляные бочки и факелы, пускали ракеты, превращая ночь в день, чтобы осветить дорогу бегущим и помешать вероятной вылазке осажденных. Между тем пан Володыевский, заметив янычар в узком проходе между бастионами, крикнул драгунам и бросился к ним; несчастные еще раз пробовали проскочить в узкий проход, но Кетлинг направил туда такой страшный огонь, что проход тотчас покрылся грудой трупов, образовавших высокий вал. Оставшимся в живых оставалось только погибнуть, так как осажденные не хотели никого брать в плен и янычары стали бешено защищаться. Эти сильные люди, сбиваясь в маленькие группы по два, по три, по пять человек, вооруженные копьями, бердышами, ятаганами и саблями, рубили с каким-то остервенением. Страх, ужас, неминуемость смерти, отчаяние уступили место одному чувству – бешенству. Ими овладела горячка боя. Некоторые из них в одиночку бросались на драгун. Их в одно мгновение рубили саблями. Это была борьба двух стихий, ибо и драгуны, доведенные усталостью, бессонницей и голодом до зверского бешенства, беспощадно рубили неприятеля. Кетлинг, желая осветить поле сражения, тоже приказал зажечь смоляные бочки, и при их свете видны были толпы Мазуров, которые рубили янычар, таскали их за волосы и за бороды. Особенно бесновался свирепый Люсня; он походил на разъяренного быка. В конце другого крыла сражался сам Володыевский; зная, что Бася смотрит на него с крепостной стены, он превзошел самого себя. Как злая ласка, забравшись в амбар, где завелись мыши, нападает на них, так и маленький рыцарь бросался на неприятеля, как дух истребитель. Имя его было уже известно туркам по прежним битвам и по рассказам хотимских татар – и уже сложилось общее мнение, что, кто бы ни столкнулся с ним, тому не миновать смерти. А потому многие из янычар, попавших в западню между бастионами, увидав перед собой маленького рыцаря, не сопротивляясь, даже закрывали глаза и со словом «кисмет»[26 - Провидение, судьба (тур).] на устах погибали под ударом его сабли. Наконец сопротивление янычар ослабело, остальные бросились ко рву – и там их добивали. Углубление ниши было залито светом, и на лицах Баси и маленького рыцаря играли лунные лучи. Внизу на дворе замка видны были группы спяших солдат и трупы убитых во время бомбардировки, которых еще не успели похоронить. Тихий свет луны скользил по этим группам, точно этот странник небесный хотел проверить, кто здесь спит от усталости, а кто заснул вечным сном. Далее обрисовывалась стена главного замка, от которого ложилась тень до середины двора. Из-за крепостных стен, где между бастионами лежали трупы убитых янычар, до них доходили мужские голоса. Это те из солдат, которым добыча была милее сна, грабили убитых. Их фонари мелькали точно светляки. Некоторые из них перекликались друг с другом, а один из них даже напевал вполголоса песенку, которая так не подходила к его занятию:
Серебра мне и золота не надо,
Только б быть мне с тобой, моя отрада.
Немного погодя движение прекратилось, и наступила тишина, нарушаемая лишь глухим звуком ломов, долбящих стену, и перекличкой часовых. Эта тишина и прекрасная летняя ночь опьянили Басю и маленького рыцаря. Неизвестно почему им стало и грустно, и тоскливо, и в то же время сладостно. Бася первая подняла глаза на мужа и, видя, что у него глаза открыты, спросила:
– Ты не спишь, Михалок?
– Странно, но мне спать не хочется.
– А хорошо тебе здесь?
– Хорошо, а тебе? Баська кивнула головой.
– Ах, Михалок, так хорошо, так хорошо. Слышал ты, что там сейчас пели?
Тут она повторила слова песенки:
Серебра мне и золота не надо,
Только б быть мне с тобой, моя отрада.
Они замолчали на минуту; молчание это прервал маленький рыцарь.
– Баська, – сказал он. – Слушай, Баська!
– Что, Михалок?
– По правде сказать, нам ужасно хорошо с тобой, и я так полагаю, что если б кто-нибудь из нас погиб, то другой страшно бы тосковал.
Бася прекрасно понимала, что если маленький рыцарь говорил, «если б кто-нибудь из нас погиб», то он просто не хотел сказать «умер» и подразумевал только себя. Ей пришло в голову, что он, быть может, не надеется выйти живым из этой осады и хочет подготовить ее к этому несчастью. Странное предчувствие сжало ей сердце, и, сложив руки, она сказала:
– Михал, пожалей ты и себя и меня!
Голос маленького рыцаря был несколько взволнован, хотя и спокоен.
– Видишь ли, Баська, ты не права, – сказал он, – ибо если рассудить, то что такое наша жизнь? Кого может удовлетворить здесь счастье и любовь, когда все это здесь так непрочно, как засохшая ветка, ведь правда?
Бася затряслась от рыданий и принялась повторять:
– Не хочу! Не хочу! Не хочу!
– Клянусь Богом, ты не права, – повторил маленький рыцарь. – Вот видишь, там вверху, за ясной луной страна вечного блаженства. Вот о каком счастье ты мне говори. Только тот, кто попадет туда, отдохнет по-настоящему, словно после долгой дороги, и не будет знать забот. Когда придет мой черед (а для солдата ведь это дело обыкновенное), ты сейчас должна сказать сама себе: «Михал уехал, правда, далеко, гораздо дальше, чем отсюда до Литвы, да это ничего, я за ним поеду!» Баська, ну тише, не плачь! Кто из нас первый уедет, тот другому квартиру приготовит, вот и все!
Тут перед ним, как перед ясновидящим, открылась завеса будущего, он поднял глаза к лунному сиянию и продолжал:
– Что есть жизнь земная? Допустим, что я уже там, и вдруг кто-то стучит в небесные врата. Святой Петр отворяет, я гляжу: кто же это? Моя Баська! Господи! Вот я брошусь к ней, вот крикну!.. Слов не хватит! И не будет там слез, только вечное веселье, и не будет ни язычников, ни пушек, ни мин под стенами, только счастье и спокойствие. Баська, помни: это ничего!
– Михал, Михал! – повторяла Бася.
И снова наступила тишина, нарушаемая только отдаленным, однообразным звуком ломов.
Наконец Володыевский сказал:
– Баська! Будем молиться!
И эти две души, чистые, как слеза, стали читать молитву. По мере того, как они молились, на них нисходило спокойствие, потом их стало клонить ко сну, и они проспали до рассвета.
Пан Володыевский еще до утренней зари проводил жену до моста, соединявшего старый замок с городом, и сказал на прощание:
– Помни, Баська: это ничего!
XIX
– Я не могла, Михалок, клянусь любовью к тебе, не могла. Не сердись, Михалок, не сердись. Я не могу там усидеть, когда ты в огне, не могу, не могу!
Он, действительно, начал было сердиться и даже крикнул:
– Баська! Побойся ты Бога!
Но вдруг его охватила жалость к ней, голос его дрогнул, и, только когда эта милая светлая головка была уже у него на груди, он сказал:
– Друг ты мой верный, верный до смерти! Мой… И он обнял ее.
А Заглоба между тем, укрывшись в нишу стены, поспешно говорил Кетлингу:
– И твоя тоже хотела идти, но мы ее обманули, сказав, что не пойдем. На мост из города в замок гранаты летят, как груши. Я думал, что умру, – не от страха, конечно, а от злости. Я упал на острые осколки и так оцарапал себе кожу, что целую неделю сесть не смогу. Уф, а эти шельмы все стреляют, чтоб их громом перебило. Пан Потоцкий хочет мне передать команду. Дайте пить солдатам, иначе не выдержат. Смотрите на эту гранату. Ей-богу, она упадет здесь, где-нибудь близко… Заслоните Басю. Ей-богу, близко.
Но граната упала далеко – на крышу лютеранской часовни в старом замке. Рассчитывая на прочность сводов, осажденные поместили там пороховые запасы, но граната пробила свод, и произошел взрыв. Страшный грохот, сильнее пушечных громов, потряс основания обоих замков. Со стен послышались крики ужаса, польские и турецкие пушки замолкли. Кетлинг бросил Заглобу, Володыевский Басю, и оба бросились на крепостные стены. С минуту было слышно, как они оба, запыхавшись, отдавали приказания, но их голоса были заглушены боем барабанов в турецких шанцах.
– Будут атаковать! – прошептал Заглоба.
И действительно, турки, услыхав взрыв, предположили, что оба замка разрушены, а защитники частью погребены под их развалинами, частью в панике. Рассчитывая на это, они готовились к штурму. Глупцы! Они не знали, что одна только лютеранская часовня взлетела на воздух, взрыв же, кроме потрясения, не причинил никакого вреда; в новом замке ни одна пушка не сошла с лафета. Но в шанцах бой барабанов был все громче. Толпы янычар сошли с шанцев и побежали к замку. Огни были погашены и в замке, и в турецких окопах, но ночь была ясная, и при свете луны легко можно было разглядеть массу белых янычарских шапок, колеблемых во время бега наподобие волны, колыхаемой ветром. Несколько тысяч янычар и несколько сотен «джамаков». Некоторым из них никогда уже не пришлось увидать константинопольских минаретов, светлых вод Босфора и темных кипарисов, но они бежали с яростью, рассчитывая на победу.
Володыевский побежал во весь дух вдоль крепостных стен.
– Не стрелять, ждать команды! – кричал он у каждого орудия. Драгуны с мушкетами легли на стенах.
Воцарилась тишина, слышен был только отголосок быстрых шагов янычар, точно отдаленный гром. Чем ближе они были, тем были увереннее, что сразу овладеют обоими замками. Многие полагали, что остатки защитников отступили к городу и что на крепостных стенах никого нет. Добежав до рва, они стали засыпать его мешками с соломой и засыпали в одно мгновение.
На крепостных стенах все было тихо.
Но когда первые ряды вошли в засыпанный мешками ров, в одном месте бастиона раздался выстрел из пистолета, и пронзительный голос скомандовал:
– Огонь!
И тотчас оба бастиона и соединяющая их стена засветились длинной лентой огня; раздался грохот орудий, треск мушкетных выстрелов, крики нападающих. И как копье, брошенное сильной рукой охотника, до половины вонзается в брюхо медведя, и тот свертывается в клубок, рычит, бросается в разные стороны, мечется и опять свертывается, так и толпы янычар сбились в одну кучу. Ни один выстрел поляков не пропал даром. Орудия, заряженные картечью, валили на землю людей целыми десятками, как ветер одним порывом клонит к земле целое хлебное поле. Та часть янычар, которая бросилась на стену, соединяющую бастионы, очутилась среди трех огней и, охваченная ужасом, столпилась в беспорядочную кучу. Кетлинг из двух орудий засыпал эту кучу картечью, и когда наконец она бросилась бежать, он отрезал ей путь к спасению, залив узкий проход между бастионами дождем свинца и железа.
Штурм был отбит по всей линии. Когда янычары, отступив от рва, обратились в паническое бегство, в турецких шанцах зажгли смоляные бочки и факелы, пускали ракеты, превращая ночь в день, чтобы осветить дорогу бегущим и помешать вероятной вылазке осажденных. Между тем пан Володыевский, заметив янычар в узком проходе между бастионами, крикнул драгунам и бросился к ним; несчастные еще раз пробовали проскочить в узкий проход, но Кетлинг направил туда такой страшный огонь, что проход тотчас покрылся грудой трупов, образовавших высокий вал. Оставшимся в живых оставалось только погибнуть, так как осажденные не хотели никого брать в плен и янычары стали бешено защищаться. Эти сильные люди, сбиваясь в маленькие группы по два, по три, по пять человек, вооруженные копьями, бердышами, ятаганами и саблями, рубили с каким-то остервенением. Страх, ужас, неминуемость смерти, отчаяние уступили место одному чувству – бешенству. Ими овладела горячка боя. Некоторые из них в одиночку бросались на драгун. Их в одно мгновение рубили саблями. Это была борьба двух стихий, ибо и драгуны, доведенные усталостью, бессонницей и голодом до зверского бешенства, беспощадно рубили неприятеля. Кетлинг, желая осветить поле сражения, тоже приказал зажечь смоляные бочки, и при их свете видны были толпы Мазуров, которые рубили янычар, таскали их за волосы и за бороды. Особенно бесновался свирепый Люсня; он походил на разъяренного быка. В конце другого крыла сражался сам Володыевский; зная, что Бася смотрит на него с крепостной стены, он превзошел самого себя. Как злая ласка, забравшись в амбар, где завелись мыши, нападает на них, так и маленький рыцарь бросался на неприятеля, как дух истребитель. Имя его было уже известно туркам по прежним битвам и по рассказам хотимских татар – и уже сложилось общее мнение, что, кто бы ни столкнулся с ним, тому не миновать смерти. А потому многие из янычар, попавших в западню между бастионами, увидав перед собой маленького рыцаря, не сопротивляясь, даже закрывали глаза и со словом «кисмет»[26 - Провидение, судьба (тур).] на устах погибали под ударом его сабли. Наконец сопротивление янычар ослабело, остальные бросились ко рву – и там их добивали. Углубление ниши было залито светом, и на лицах Баси и маленького рыцаря играли лунные лучи. Внизу на дворе замка видны были группы спяших солдат и трупы убитых во время бомбардировки, которых еще не успели похоронить. Тихий свет луны скользил по этим группам, точно этот странник небесный хотел проверить, кто здесь спит от усталости, а кто заснул вечным сном. Далее обрисовывалась стена главного замка, от которого ложилась тень до середины двора. Из-за крепостных стен, где между бастионами лежали трупы убитых янычар, до них доходили мужские голоса. Это те из солдат, которым добыча была милее сна, грабили убитых. Их фонари мелькали точно светляки. Некоторые из них перекликались друг с другом, а один из них даже напевал вполголоса песенку, которая так не подходила к его занятию:
Серебра мне и золота не надо,
Только б быть мне с тобой, моя отрада.
Немного погодя движение прекратилось, и наступила тишина, нарушаемая лишь глухим звуком ломов, долбящих стену, и перекличкой часовых. Эта тишина и прекрасная летняя ночь опьянили Басю и маленького рыцаря. Неизвестно почему им стало и грустно, и тоскливо, и в то же время сладостно. Бася первая подняла глаза на мужа и, видя, что у него глаза открыты, спросила:
– Ты не спишь, Михалок?
– Странно, но мне спать не хочется.
– А хорошо тебе здесь?
– Хорошо, а тебе? Баська кивнула головой.
– Ах, Михалок, так хорошо, так хорошо. Слышал ты, что там сейчас пели?
Тут она повторила слова песенки:
Серебра мне и золота не надо,
Только б быть мне с тобой, моя отрада.
Они замолчали на минуту; молчание это прервал маленький рыцарь.
– Баська, – сказал он. – Слушай, Баська!
– Что, Михалок?
– По правде сказать, нам ужасно хорошо с тобой, и я так полагаю, что если б кто-нибудь из нас погиб, то другой страшно бы тосковал.
Бася прекрасно понимала, что если маленький рыцарь говорил, «если б кто-нибудь из нас погиб», то он просто не хотел сказать «умер» и подразумевал только себя. Ей пришло в голову, что он, быть может, не надеется выйти живым из этой осады и хочет подготовить ее к этому несчастью. Странное предчувствие сжало ей сердце, и, сложив руки, она сказала:
– Михал, пожалей ты и себя и меня!
Голос маленького рыцаря был несколько взволнован, хотя и спокоен.
– Видишь ли, Баська, ты не права, – сказал он, – ибо если рассудить, то что такое наша жизнь? Кого может удовлетворить здесь счастье и любовь, когда все это здесь так непрочно, как засохшая ветка, ведь правда?
Бася затряслась от рыданий и принялась повторять:
– Не хочу! Не хочу! Не хочу!
– Клянусь Богом, ты не права, – повторил маленький рыцарь. – Вот видишь, там вверху, за ясной луной страна вечного блаженства. Вот о каком счастье ты мне говори. Только тот, кто попадет туда, отдохнет по-настоящему, словно после долгой дороги, и не будет знать забот. Когда придет мой черед (а для солдата ведь это дело обыкновенное), ты сейчас должна сказать сама себе: «Михал уехал, правда, далеко, гораздо дальше, чем отсюда до Литвы, да это ничего, я за ним поеду!» Баська, ну тише, не плачь! Кто из нас первый уедет, тот другому квартиру приготовит, вот и все!
Тут перед ним, как перед ясновидящим, открылась завеса будущего, он поднял глаза к лунному сиянию и продолжал:
– Что есть жизнь земная? Допустим, что я уже там, и вдруг кто-то стучит в небесные врата. Святой Петр отворяет, я гляжу: кто же это? Моя Баська! Господи! Вот я брошусь к ней, вот крикну!.. Слов не хватит! И не будет там слез, только вечное веселье, и не будет ни язычников, ни пушек, ни мин под стенами, только счастье и спокойствие. Баська, помни: это ничего!
– Михал, Михал! – повторяла Бася.
И снова наступила тишина, нарушаемая только отдаленным, однообразным звуком ломов.
Наконец Володыевский сказал:
– Баська! Будем молиться!
И эти две души, чистые, как слеза, стали читать молитву. По мере того, как они молились, на них нисходило спокойствие, потом их стало клонить ко сну, и они проспали до рассвета.
Пан Володыевский еще до утренней зари проводил жену до моста, соединявшего старый замок с городом, и сказал на прощание:
– Помни, Баська: это ничего!
XIX