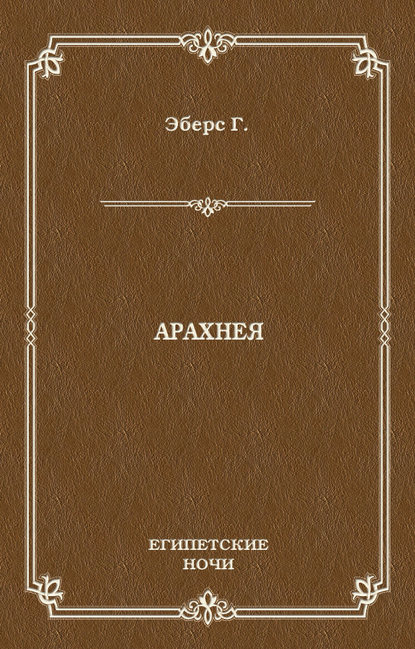По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Арахнея
Автор
Серия
Год написания книги
1897
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С самого раннего детства мы были хорошими товарищами, и притом как же мало во мне женской прелести.
– Я же скажу, что ты обладаешь необыкновенной, обаятельной прелестью, – ответил решительно Мертилос. – Я совсем не хочу тебе льстить, ты прекрасно знаешь, что я не причисляю тебя к красавицам Александрии. Вместо тонких правильных черт, какие нужны для художников, боги дали тебе лицо, пленяющее все сердца, даже и женские, потому что в нем отражаются, как в зеркале, истинная, готовая всем помочь женская доброта, честные убеждения, здоровый восприимчивый ум. Передать такое чарующее лицо очень трудно, и Гермону, повторяю, это удалось. Ты же одна из всех женщин внушаешь ему, лишившемуся рано матери, уважение, и к тебе питает он более серьезное чувство, чем к кому бы то ни было. Впрочем, он тебе и обязан многим. Когда он так внезапно порвал крепкие узы, связывающие его с дядей, не ты ли их связала вновь! И мне кажется, они теперь прочнее, чем когда-либо, и я не знаю, что могло бы теперь заставить его отречься от тебя. Честь и слава твоему отцу, который вместо того, чтобы продолжать сердиться на этого упрямца, отнесся еще теплее к нему и задал нам две задачи, исполнение которых позволит каждому из нас выказать свои способности с лучшей стороны. И если я не ошибаюсь, то мы обязаны этим заказом дочери Архиаса.
– Понятно, что отец, – сказала Дафна, – обсуждал со мной свое намерение, но он сам напал на эту мысль, и она всецело принадлежит ему. Статуя Гермона «Уличный мальчишка утоляет свой голод винными ягодами», хотя и не вполне во вкусе отца, понравилась ему все же больше первых произведений, и я согласна с Эвфранором, что фигура мальчика поразительно правдива. Отец это понял. Кроме того, он прежде всего купец, и деньги, которые он заработал, ценит он высоко; то, что Гермон отказался от его золота, поразило его, а стойкость, с которой Гермон, несмотря на кутежи, неудачу в работе и нужду, сохранил честность и благородство, унаследованные им от храброго отца, были также оценены стариком, и дело Гермона было выиграно.
– А что сталось бы с ним в прошлом году без твоей поддержки и участия, после оскорбительного отказа принять его статую «Счастливое возвращение», заказанную для гавани Эвноста[8 - Гавань Эвноста – то есть гавань «счастливого возвращения» – западная часть большой александрийской гавани.]?
– Отказ был совсем несправедлив! – вскричала Дафна. – Мать, открывающая свои объятия возвращающемуся сыну, – правда, некрасива, и мне она также не нравилась, но юноша, с посохом в руке, полон силы, и движения его выразительны и правдивы.
– Это мнение, – сказал Мертилос, – как ты уже знаешь, разделяю и я. Трогательное выражение должно было заменить красоту матери, а для юноши, как и для уличного мальчика, взял он подходящую натуру прямо из жизни. Правда, для изображения Деметры у него есть самое лучшее, что только можно желать.
Тут он в замешательстве остановился. Дафна стала требовать, чтобы он ей сказал, на что он намекает, говоря, что раз начал, то должен и докончить.
Снисходительно улыбаясь, он продолжал:
– Вижу, что мне не остается ничего больше, как выболтать все, чем мы тебя хотели поразить. Уже в Александрии, когда мы принялись за моделировку головы богини, перед моими и его очами стоял твой прелестный облик, одинаково дорогой и близкий нам обоим.
Обрадованная Дафна протянула художнику руку и воскликнула:
– Как мне приятно это слышать, какие вы добрые друзья! Но каким образом это могло быть, ведь я не позировала вам для вашей богини.
– Гермон тогда только что окончил твой бюст, а мне ты позволила вылепить твою голову для моей «Богини Мира», которая потонула вместе с кораблем на пути в Остию. Мы сделали три-четыре повторения, да притом образ твой запечатлелся в нашей душе. Когда настанет время показать тебе наши работы, ты сама поразишься, до чего различно могут два человека видеть и воспроизводить одно и то же.
Дафна с несвойственной ей живостью произнесла:
– Теперь, когда я так много знаю и принимаю такое близкое участие в ваших произведениях, я решительно настаиваю на том, чтобы видеть ваши работы. Передай это от меня Гермону и напомни ему, что я, уже ради наших гостей из Пелусия, ожидаю его к вечернему столу. Пригрози ему моим гневом, если он будет настаивать на своем намерении рано покинуть наш пир.
– Я не премину исполнить последнее твое поручение, – отвечал Мертилос. – Что же касается твоего желания уже теперь увидеть наши статуи Деметры, то…
– Ну, мы об этом поговорим, когда останемся опять втроем.
Говоря это, она простилась с художником, но едва сделал он несколько шагов к выходу, как она его остановила вопросом:
– Скажи мне, не обманывает ли сам себя Гермон, когда с такой уверенностью говорит, что статуя ткачихи Арахнеи ему вполне удастся?
– Едва ли он обманывается, в особенности если намеченная им модель согласится ему позировать для этой статуи.
– Красива ли она и нашел ли он ее здесь, в Теннисе? – спросила Дафна, стараясь при этом принять равнодушный вид.
Но Мертилос, поняв ее намерение, весело сказал:
– Так выспрашивают только у маленьких детей. До свидания, прекрасная любопытная, до вечера.
VII
Невольник Биас не сопровождал своего господина на охоту. Египетский страж, отводивший его ребенком на невольничий рынок, пробил ему ногу, и с тех пор легкая хромота делала его непригодным для охоты, но она ему нисколько не мешала исполнять всевозможные работы по дому и стать необходимым его господину. Сегодня до восхода солнца он приготовил ему все необходимое для охоты на птиц. Когда лодки с охотниками отплыли, вышел и он из дому. Маленькая собака, из породы такс, принадлежащая старому привратнику, нубийцу, по всегдашней привычке громко лая, выбежала вперед и вспугнула целую стаю воробьев. Из-под ног Биаса взлетели они и в тревожном беспорядке закружились в воздухе.
Невольник увидал в этом несомненное предзнаменование, и, видя выходящую из палатки Стефаниону, прислужницу Дафны, поседевшую на службе в доме Архиаса и отпущенную им на волю, он произнес греческое приветствие: «Радуйся!» – и, указывая на воробьев, продолжал:
– Смотри, как они летают, кружатся, обгоняют друг друга, пищат и чирикают. Помяни мое слово – нам предстоит тревожный день.
Такое значение, приданное Биасом невинной птичьей тревоге, показалось вполне правильным Стефанионе, которая высоко ценила его мудрость. Она была рада встрече с ним и возможности поболтать часочек, тем более что привезла с собой из Александрии много новостей. В виде предисловия рассказала она ему о браках и смертях в кругу их знакомых, вольных и рабов. Затем поведала она Биасу причину, заставившую Дафну, покидавшую до сих пор отца лишь на несколько часов, приехать сюда. Архиас сам послал ее сюда после того, как молодой Филиппос, один из поклонников Дафны, рассказал о богатой добыче, привезенной его приятелем с охоты на птиц близ Тенниса, причем Дафна выразила желание опорожнить там свой колчан. Правда, Филиппос с жаром предложил себя в руководители охотой, но Дафна решительно отвергла его предложение, потому что, как уверяла старая прислужница, более, чем охота, привлекала сюда молодую девушку возможность встречи с двоюродными братьями – скульпторами. Это и высказала ее госпожа вполне откровенно, а отец был уже и тем доволен, что у нее появилось какое бы то ни было желание, потому что Дафна за последнее время сделалась такая равнодушная ко всему на свете, замкнутая и грустная, что она, Стефаниона, стала опасаться за нее. При этом она употребляла все старание скрыть от отца свое настроение, но разве могло что-либо укрыться от проницательности господина! Ничто не должно было препятствовать ее желанию отправиться в путь, и уже теперь молодая девушка как бы переродилась. И это сделало только одно свидание с двоюродными братьями, но задай ей, старой служанке, кто-либо вопрос, кому Дафна отдаст предпочтение, Мертилосу или Гермону, она бы затруднилась дать верный ответ.
– Осторожно собранные сведения избавляют нас от ошибок, – глубокомысленно отвечал Биас. – Впрочем, в данном случае ты можешь довериться моей опытности: это – Мертилос. Слава всегда пробуждает любовь, и лавры, в которых свет отказывает моему господину, несмотря на его дарование, давно достались Мертилосу. Затем, хотя мы и не нуждаемся, но Мертилос богат, подобно царю индийскому. Я не хочу этим сказать, чтобы Дафна, которая сама утопала в золоте, искала богатства, но кто знаком с жизнью, тот знает, что, где уже сидят голуби, туда прилетают еще голуби, – деньги притягивают деньги.
Стефаниона была другого мнения, она основывалась не на том только, что ее госпожа чаще говорила о чернобородом, нежели о белокуром, а скорее на том, что хорошо знала молодых девушек и редко ошибалась в сердечных вопросах. Что Дафна и к Мертилосу расположена, этого она и не хочет отрицать. Но в конце концов она не будет невестой ни того ни другого, а достанется Филиппосу, царскому родственнику, красивому, статному юноше. При этом же и отец ее отдает ему предпочтение перед всеми женихами, окружающими ее, точно мухи мед. В другом доме давно приняли бы предложение Филиппоса, потому что кому в Александрии пришло бы в голову спрашивать согласие дочери, когда выбор будущего мужа сделан уже отцом. Но Архиас такой же редкий отец, как белый ворон редкая птица, он никогда не будет принуждать свое единственное дитя. Но любовь и брак – две совершенно различные вещи. Будь за Эросом последнее слово, кто знает, не пал ли бы выбор Дафны на кого-нибудь из художников. Тут ее прервал недовольный возглас Биаса:
– Что за противоречия! «Женский волос долог, да ум короток», – говорит пословица. Выжидание – мудрое правило для купца, говорил не раз твой господин, а следовать словам умных людей самое лучшее для менее умных. Я пока такого мнения: Дафна, как и все вы, прежде всего женщина, и ее загнало сюда любопытство. Она хочет видеть статуи Деметры, которые заказал нам ее отец.
– А Арахнею? – полюбопытствовала прислужница.
Этот вопрос как нельзя более был кстати для Биаса, он часто слышал, как художники упоминали об этой Арахнее, и его самолюбие страдало от сознания, что, кроме имени, означающего по-гречески «паук», он не имел о ней никаких сведений. Между тем что-нибудь да было связано с этой Арахнеей, статую которой Архиас желал поставить в своем доме в Александрии и в большой ткацкой в Теннисе рядом со статуей Деметры. Ведь для этой же самой Арахнеи должна была служить моделью, как того желал его господин, биамитянка Ледша. Стефаниона – родом гречанка и выросла в Македонии: ей должно быть все известно о ней. Осторожно он направил разговор на эту тему и добавил, что очень хотел бы знать, в каком виде изобразят скульпторы эту Арахнею.
– Моя госпожа, – ответила прислужница, – а с ней вместе и Архиас уже не раз ломали себе головы над этим вопросом. Быть может, они изобразят ее за работой в доме ее отца Идмона, красильщика из Колофона.
– Никогда, – возразил Биас презрительно, – представь себе только, на что будет похож ткацкий станок из золота и кости.
– Да ведь я это только так говорю, – извинилась за свое невежество Стефаниона. – Дафна того мнения, что они оба изобразят ее совершенно различно. Мертилос представит ее, вероятно, в тот момент, когда она с гордостью показывает только что законченную тончайшую ткань своей работы посетившим ее нимфам Пактола и других вод близ Колофона. Гермон же предпочтет изобразить ее после того, как она навлекла на себя гнев Афины, осмелившись выткать ковры с изображениями любовных похождений богов с простыми смертными.
– Например, как Зевс-громовержец в образе лебедя соблазняет Леду, – перебил ее Биас, – как он, превратившись в быка, уводит Европу, или как целомудренная Артемида склоняется над спящим Эндимионом[9 - Эндимион – в греческих сказаниях прекрасный возлюбленный Артемиды, которого эта богиня погрузила в непробудный сон, чтобы тайно целовать его.].
– Как это всем вам, мужчинам, нравится, – сказала прислужница, слегка ударяя его метелкой, которую держала в руках, – но можно ли осуждать Афину за то, что она воспылала гневом против Арахнеи, простой смертной, выставившей таким образом на посмеяние поступки ее божественной родни?
– Понятно нельзя, – ответил Биас.
А Стефаниона продолжала:
– Когда же мудрая Афина, изобретательница ткацкого станка и покровительница ткачих, снизошла до состязания с Арахнеей и та победила, гнев богини не знал предела, и что же удивительного, что она ударила дерзкую победительницу ткацким челноком по лбу.
– Вот этот-то именно поступок, да простит меня мудрая богиня, никогда мне, глупому, не нравился. Даже простой смертный, побежденный в честном бою, не должен сердиться на победителя; так, по крайней мере, учили меня с детства. Помня те камни, которыми закидали статую моего господина «Борющиеся менады», я знаю, что ничто не может быть менее пригодно для изображения, чем две женщины, из которых одна бьет другую.
– По-моему, изображение Арахнеи, когда она, оскорбленная этим ударом, вешается, произведет еще более отталкивающее впечатление. Но легче представить, как Афина освобождает ее из петли, нежели то, как она в наказание за дерзость превращает Арахнею в паука.
– Дабы ей до конца дней можно было ткать самые искусные ткани, – сказал Биас важным тоном. – Со времени этого превращения паук называется у греков Арахнеей. Я же часто думаю о том, что Гермон изобразит ее свивающей веревку, на которой она повесится. Ты ведь видела многие из наших произведений и знаешь, что мы любим все ужасное.
– О, пусти меня в ваши мастерские, – стала просить Стефаниона так же настойчиво, как и ее молодая госпожа, но и ей пришлось отказаться от своего желания.
Господа, уверял совершенно правдиво Биас, тщательно запирают мастерские. В них так же трудно проникнуть, как в сильно укрепленную крепость, но это делается не с целью защитить себя от любопытных, которых здесь мало, а для того, чтобы оградить себя от воровских попыток. Статуи, по желанию Архиаса, должны быть из золота и слоновой кости. Большие запасы этих дорогих материалов могут ввести в соблазн обыкновенно честных и скромных египтян. А потому нечего было и думать туда попасть, не говоря уже о том, что Биасу было запрещено, под угрозой продать его в каменоломни, без разрешения господина впускать кого бы то ни было в мастерскую. Стефанионе пришлось отказаться от своего намерения, тем более что ее позвала молодая невольница, говоря, что ее услуги нужны компаньонке Дафны, Хрисилле, почтенной матроне знатного греческого рода, не принимавшей участия в охоте. Довольный тем, что он, не обнаружив своего невежества, узнал все то, что ему нужно было об Арахнее, Биас удалился в белый дом, где и пробыл до возвращения охотников. Во время осмотра Дафной добычи и ее разговора с художниками невольник вышел также на площадь перед домом, но ему пришлось отказаться от намерения подслушать разговор Дафны с его господином: после первых слов, сказанных ею, он заметил за деревьями в саду биамитянку Ледшу. Итак, она сдержала слово и пришла.
Он узнал ее, несмотря на покрывало, закрывающее ей голову и часть лица. Как сверкали ее черные глаза и каким мрачным огнем они горели, когда она смотрела то на Дафну, то на Гермона, разговаривающих у входа в белый дом. Вчера вечером он впервые заглянул в взволнованную душу этого страстного создания, и он уверен, что, если здесь она заметит что-либо, что может ее рассердить или показаться ей обидным, она, способная на все, в состоянии позволить себе всякую выходку перед гостями его господина. Помешать этому было его прямой обязанностью уже ради его повелителя. Вчера еще предостерегал он Ледшу от него не потому только, что ему было неприятно видеть, как Ледшу, свободную биамитянку, ставили на одну ступень с продажными натурщицами из Александрии, а еще и потому, что он знал, к каким печальным последствиям приведет любовная связь его господина с египтянкой. Он ведь прекрасно знал, что свободные биамиты не оставят безнаказанным грека, соблазнившего одну из дочерей их рода. Хотя рабство не прошло для него бесследно и наградило его многими недостатками раба, но он был верен своему господину, к которому питал большую благодарность за то, что Гермон во время разрыва с дядей, страшно нуждаясь, ни за что не соглашался расстаться со своим верным и мудрым Биасом, как он его называл, несмотря на то что ему предлагали высокую цену за него. Невольник поклялся никогда не забывать этого и держал свою клятву.
На обширной площади перед домом было оживленное движение: отпущенники и рабы ходили взад и вперед; собаки лаяли; раздавались громкие крики продавцов фруктов, зелени и рыб, желавших обратить на свой товар внимание поваров. Поэтому на одинокую закутанную женскую фигуру никто не обращал внимания, но Биас зорко за ней следил. Когда же она приставила ко лбу свою руку, защищая глаза от ослепляющих солнечных лучей и поставила одну ногу на камень как бы для того, чтобы лучше рассмотреть происходившее перед ней, невольно вспомнил он только что слышанный рассказ о ткачихе Арахнее. И каким-то воплощением большой беды показалась ему Ледша, а когда она подняла и другую руку, он испуганно вздрогнул – ему показалось, как будто он видит перед собой громадного паука, протягивающего свои тонкие ноги, чтобы привлечь его к себе, опутать его паутиной и высосать всю его кровь. Несколько мгновений продолжалось это видение. Когда оно рассеялось и он увидал опять перед собой стройную, закутанную покрывалом биамитянку, он, глубоко вздохнув, покачал головой; ему еще никогда наяву и при солнечном свете не грезилось ничего подобного. Это видение было, вероятно, ему послано богами для того, чтобы предостеречь его господина от этой женщины. И во всяком случае оно предсказывало несчастье. Биамитянка сделала несколько шагов по направлению к Дафне и Гермону, но Биас, быстро покинув свой наблюдательный пост, загородил ей дорогу. Кратко сказав ей: «Идем!», он взял ее за руку и прошептал:
– Гермон радуется твоему посещению.
Рот Ледши был закрыт покрывалом, но ему показалось, что какая-то насмешливая улыбка искривила ее губы. Она молча последовала за ним. Сначала вел он ее за руку, но пальцы ее показались ему необычайно холодными и цепкими, и он, содрогаясь, выпустил ее руку. Она, казалось, ничего не замечала и шла возле него с поникшей головой. Они прошли в боковой вход и достигли дверей мастерской Гермона. Видя ее запертой, Ледша стала осыпать Биаса резкими упреками. Не обращая на них никакого внимания, он повел ее в жилые помещения художника и попросил там подождать. Затем он поспешил к ступеням главного входа и оттуда стал подавать знаки своему господину, желая привлечь его внимание. Гермон заметил его и подошел к нему. Биас сообщил ему, кто желает его видеть и куда он провел Ледшу; он не скрыл от него, как она ему в мимолетном видении показалась громадным пауком. Гермон тихо засмеялся.
– Так, значит, в образе паука. Что ж, пусть это будет предзнаменованием. Мы сделаем из нее госпожу паучиху Арахнею, которую не стыдно будет показать всему свету. Но эта необыкновенная красавица принадлежит к самым упрямым особам ее рода, и, если я ей прощу ее дерзкое посещение среди белого дня, она скоро сядет мне на голову. Сначала надо обмыть кровь с моей руки; раненый морской орел своими когтями разорвал мне на ней кожу. Я скрыл от Дафны эту царапину. Подай мне полоску полотна, чтобы перевязать. А пока пускай наша нетерпеливая самовольница узнает, что одного ее жеста недостаточно, чтобы перед ней раскрывались все двери.
– Я же скажу, что ты обладаешь необыкновенной, обаятельной прелестью, – ответил решительно Мертилос. – Я совсем не хочу тебе льстить, ты прекрасно знаешь, что я не причисляю тебя к красавицам Александрии. Вместо тонких правильных черт, какие нужны для художников, боги дали тебе лицо, пленяющее все сердца, даже и женские, потому что в нем отражаются, как в зеркале, истинная, готовая всем помочь женская доброта, честные убеждения, здоровый восприимчивый ум. Передать такое чарующее лицо очень трудно, и Гермону, повторяю, это удалось. Ты же одна из всех женщин внушаешь ему, лишившемуся рано матери, уважение, и к тебе питает он более серьезное чувство, чем к кому бы то ни было. Впрочем, он тебе и обязан многим. Когда он так внезапно порвал крепкие узы, связывающие его с дядей, не ты ли их связала вновь! И мне кажется, они теперь прочнее, чем когда-либо, и я не знаю, что могло бы теперь заставить его отречься от тебя. Честь и слава твоему отцу, который вместо того, чтобы продолжать сердиться на этого упрямца, отнесся еще теплее к нему и задал нам две задачи, исполнение которых позволит каждому из нас выказать свои способности с лучшей стороны. И если я не ошибаюсь, то мы обязаны этим заказом дочери Архиаса.
– Понятно, что отец, – сказала Дафна, – обсуждал со мной свое намерение, но он сам напал на эту мысль, и она всецело принадлежит ему. Статуя Гермона «Уличный мальчишка утоляет свой голод винными ягодами», хотя и не вполне во вкусе отца, понравилась ему все же больше первых произведений, и я согласна с Эвфранором, что фигура мальчика поразительно правдива. Отец это понял. Кроме того, он прежде всего купец, и деньги, которые он заработал, ценит он высоко; то, что Гермон отказался от его золота, поразило его, а стойкость, с которой Гермон, несмотря на кутежи, неудачу в работе и нужду, сохранил честность и благородство, унаследованные им от храброго отца, были также оценены стариком, и дело Гермона было выиграно.
– А что сталось бы с ним в прошлом году без твоей поддержки и участия, после оскорбительного отказа принять его статую «Счастливое возвращение», заказанную для гавани Эвноста[8 - Гавань Эвноста – то есть гавань «счастливого возвращения» – западная часть большой александрийской гавани.]?
– Отказ был совсем несправедлив! – вскричала Дафна. – Мать, открывающая свои объятия возвращающемуся сыну, – правда, некрасива, и мне она также не нравилась, но юноша, с посохом в руке, полон силы, и движения его выразительны и правдивы.
– Это мнение, – сказал Мертилос, – как ты уже знаешь, разделяю и я. Трогательное выражение должно было заменить красоту матери, а для юноши, как и для уличного мальчика, взял он подходящую натуру прямо из жизни. Правда, для изображения Деметры у него есть самое лучшее, что только можно желать.
Тут он в замешательстве остановился. Дафна стала требовать, чтобы он ей сказал, на что он намекает, говоря, что раз начал, то должен и докончить.
Снисходительно улыбаясь, он продолжал:
– Вижу, что мне не остается ничего больше, как выболтать все, чем мы тебя хотели поразить. Уже в Александрии, когда мы принялись за моделировку головы богини, перед моими и его очами стоял твой прелестный облик, одинаково дорогой и близкий нам обоим.
Обрадованная Дафна протянула художнику руку и воскликнула:
– Как мне приятно это слышать, какие вы добрые друзья! Но каким образом это могло быть, ведь я не позировала вам для вашей богини.
– Гермон тогда только что окончил твой бюст, а мне ты позволила вылепить твою голову для моей «Богини Мира», которая потонула вместе с кораблем на пути в Остию. Мы сделали три-четыре повторения, да притом образ твой запечатлелся в нашей душе. Когда настанет время показать тебе наши работы, ты сама поразишься, до чего различно могут два человека видеть и воспроизводить одно и то же.
Дафна с несвойственной ей живостью произнесла:
– Теперь, когда я так много знаю и принимаю такое близкое участие в ваших произведениях, я решительно настаиваю на том, чтобы видеть ваши работы. Передай это от меня Гермону и напомни ему, что я, уже ради наших гостей из Пелусия, ожидаю его к вечернему столу. Пригрози ему моим гневом, если он будет настаивать на своем намерении рано покинуть наш пир.
– Я не премину исполнить последнее твое поручение, – отвечал Мертилос. – Что же касается твоего желания уже теперь увидеть наши статуи Деметры, то…
– Ну, мы об этом поговорим, когда останемся опять втроем.
Говоря это, она простилась с художником, но едва сделал он несколько шагов к выходу, как она его остановила вопросом:
– Скажи мне, не обманывает ли сам себя Гермон, когда с такой уверенностью говорит, что статуя ткачихи Арахнеи ему вполне удастся?
– Едва ли он обманывается, в особенности если намеченная им модель согласится ему позировать для этой статуи.
– Красива ли она и нашел ли он ее здесь, в Теннисе? – спросила Дафна, стараясь при этом принять равнодушный вид.
Но Мертилос, поняв ее намерение, весело сказал:
– Так выспрашивают только у маленьких детей. До свидания, прекрасная любопытная, до вечера.
VII
Невольник Биас не сопровождал своего господина на охоту. Египетский страж, отводивший его ребенком на невольничий рынок, пробил ему ногу, и с тех пор легкая хромота делала его непригодным для охоты, но она ему нисколько не мешала исполнять всевозможные работы по дому и стать необходимым его господину. Сегодня до восхода солнца он приготовил ему все необходимое для охоты на птиц. Когда лодки с охотниками отплыли, вышел и он из дому. Маленькая собака, из породы такс, принадлежащая старому привратнику, нубийцу, по всегдашней привычке громко лая, выбежала вперед и вспугнула целую стаю воробьев. Из-под ног Биаса взлетели они и в тревожном беспорядке закружились в воздухе.
Невольник увидал в этом несомненное предзнаменование, и, видя выходящую из палатки Стефаниону, прислужницу Дафны, поседевшую на службе в доме Архиаса и отпущенную им на волю, он произнес греческое приветствие: «Радуйся!» – и, указывая на воробьев, продолжал:
– Смотри, как они летают, кружатся, обгоняют друг друга, пищат и чирикают. Помяни мое слово – нам предстоит тревожный день.
Такое значение, приданное Биасом невинной птичьей тревоге, показалось вполне правильным Стефанионе, которая высоко ценила его мудрость. Она была рада встрече с ним и возможности поболтать часочек, тем более что привезла с собой из Александрии много новостей. В виде предисловия рассказала она ему о браках и смертях в кругу их знакомых, вольных и рабов. Затем поведала она Биасу причину, заставившую Дафну, покидавшую до сих пор отца лишь на несколько часов, приехать сюда. Архиас сам послал ее сюда после того, как молодой Филиппос, один из поклонников Дафны, рассказал о богатой добыче, привезенной его приятелем с охоты на птиц близ Тенниса, причем Дафна выразила желание опорожнить там свой колчан. Правда, Филиппос с жаром предложил себя в руководители охотой, но Дафна решительно отвергла его предложение, потому что, как уверяла старая прислужница, более, чем охота, привлекала сюда молодую девушку возможность встречи с двоюродными братьями – скульпторами. Это и высказала ее госпожа вполне откровенно, а отец был уже и тем доволен, что у нее появилось какое бы то ни было желание, потому что Дафна за последнее время сделалась такая равнодушная ко всему на свете, замкнутая и грустная, что она, Стефаниона, стала опасаться за нее. При этом она употребляла все старание скрыть от отца свое настроение, но разве могло что-либо укрыться от проницательности господина! Ничто не должно было препятствовать ее желанию отправиться в путь, и уже теперь молодая девушка как бы переродилась. И это сделало только одно свидание с двоюродными братьями, но задай ей, старой служанке, кто-либо вопрос, кому Дафна отдаст предпочтение, Мертилосу или Гермону, она бы затруднилась дать верный ответ.
– Осторожно собранные сведения избавляют нас от ошибок, – глубокомысленно отвечал Биас. – Впрочем, в данном случае ты можешь довериться моей опытности: это – Мертилос. Слава всегда пробуждает любовь, и лавры, в которых свет отказывает моему господину, несмотря на его дарование, давно достались Мертилосу. Затем, хотя мы и не нуждаемся, но Мертилос богат, подобно царю индийскому. Я не хочу этим сказать, чтобы Дафна, которая сама утопала в золоте, искала богатства, но кто знаком с жизнью, тот знает, что, где уже сидят голуби, туда прилетают еще голуби, – деньги притягивают деньги.
Стефаниона была другого мнения, она основывалась не на том только, что ее госпожа чаще говорила о чернобородом, нежели о белокуром, а скорее на том, что хорошо знала молодых девушек и редко ошибалась в сердечных вопросах. Что Дафна и к Мертилосу расположена, этого она и не хочет отрицать. Но в конце концов она не будет невестой ни того ни другого, а достанется Филиппосу, царскому родственнику, красивому, статному юноше. При этом же и отец ее отдает ему предпочтение перед всеми женихами, окружающими ее, точно мухи мед. В другом доме давно приняли бы предложение Филиппоса, потому что кому в Александрии пришло бы в голову спрашивать согласие дочери, когда выбор будущего мужа сделан уже отцом. Но Архиас такой же редкий отец, как белый ворон редкая птица, он никогда не будет принуждать свое единственное дитя. Но любовь и брак – две совершенно различные вещи. Будь за Эросом последнее слово, кто знает, не пал ли бы выбор Дафны на кого-нибудь из художников. Тут ее прервал недовольный возглас Биаса:
– Что за противоречия! «Женский волос долог, да ум короток», – говорит пословица. Выжидание – мудрое правило для купца, говорил не раз твой господин, а следовать словам умных людей самое лучшее для менее умных. Я пока такого мнения: Дафна, как и все вы, прежде всего женщина, и ее загнало сюда любопытство. Она хочет видеть статуи Деметры, которые заказал нам ее отец.
– А Арахнею? – полюбопытствовала прислужница.
Этот вопрос как нельзя более был кстати для Биаса, он часто слышал, как художники упоминали об этой Арахнее, и его самолюбие страдало от сознания, что, кроме имени, означающего по-гречески «паук», он не имел о ней никаких сведений. Между тем что-нибудь да было связано с этой Арахнеей, статую которой Архиас желал поставить в своем доме в Александрии и в большой ткацкой в Теннисе рядом со статуей Деметры. Ведь для этой же самой Арахнеи должна была служить моделью, как того желал его господин, биамитянка Ледша. Стефаниона – родом гречанка и выросла в Македонии: ей должно быть все известно о ней. Осторожно он направил разговор на эту тему и добавил, что очень хотел бы знать, в каком виде изобразят скульпторы эту Арахнею.
– Моя госпожа, – ответила прислужница, – а с ней вместе и Архиас уже не раз ломали себе головы над этим вопросом. Быть может, они изобразят ее за работой в доме ее отца Идмона, красильщика из Колофона.
– Никогда, – возразил Биас презрительно, – представь себе только, на что будет похож ткацкий станок из золота и кости.
– Да ведь я это только так говорю, – извинилась за свое невежество Стефаниона. – Дафна того мнения, что они оба изобразят ее совершенно различно. Мертилос представит ее, вероятно, в тот момент, когда она с гордостью показывает только что законченную тончайшую ткань своей работы посетившим ее нимфам Пактола и других вод близ Колофона. Гермон же предпочтет изобразить ее после того, как она навлекла на себя гнев Афины, осмелившись выткать ковры с изображениями любовных похождений богов с простыми смертными.
– Например, как Зевс-громовержец в образе лебедя соблазняет Леду, – перебил ее Биас, – как он, превратившись в быка, уводит Европу, или как целомудренная Артемида склоняется над спящим Эндимионом[9 - Эндимион – в греческих сказаниях прекрасный возлюбленный Артемиды, которого эта богиня погрузила в непробудный сон, чтобы тайно целовать его.].
– Как это всем вам, мужчинам, нравится, – сказала прислужница, слегка ударяя его метелкой, которую держала в руках, – но можно ли осуждать Афину за то, что она воспылала гневом против Арахнеи, простой смертной, выставившей таким образом на посмеяние поступки ее божественной родни?
– Понятно нельзя, – ответил Биас.
А Стефаниона продолжала:
– Когда же мудрая Афина, изобретательница ткацкого станка и покровительница ткачих, снизошла до состязания с Арахнеей и та победила, гнев богини не знал предела, и что же удивительного, что она ударила дерзкую победительницу ткацким челноком по лбу.
– Вот этот-то именно поступок, да простит меня мудрая богиня, никогда мне, глупому, не нравился. Даже простой смертный, побежденный в честном бою, не должен сердиться на победителя; так, по крайней мере, учили меня с детства. Помня те камни, которыми закидали статую моего господина «Борющиеся менады», я знаю, что ничто не может быть менее пригодно для изображения, чем две женщины, из которых одна бьет другую.
– По-моему, изображение Арахнеи, когда она, оскорбленная этим ударом, вешается, произведет еще более отталкивающее впечатление. Но легче представить, как Афина освобождает ее из петли, нежели то, как она в наказание за дерзость превращает Арахнею в паука.
– Дабы ей до конца дней можно было ткать самые искусные ткани, – сказал Биас важным тоном. – Со времени этого превращения паук называется у греков Арахнеей. Я же часто думаю о том, что Гермон изобразит ее свивающей веревку, на которой она повесится. Ты ведь видела многие из наших произведений и знаешь, что мы любим все ужасное.
– О, пусти меня в ваши мастерские, – стала просить Стефаниона так же настойчиво, как и ее молодая госпожа, но и ей пришлось отказаться от своего желания.
Господа, уверял совершенно правдиво Биас, тщательно запирают мастерские. В них так же трудно проникнуть, как в сильно укрепленную крепость, но это делается не с целью защитить себя от любопытных, которых здесь мало, а для того, чтобы оградить себя от воровских попыток. Статуи, по желанию Архиаса, должны быть из золота и слоновой кости. Большие запасы этих дорогих материалов могут ввести в соблазн обыкновенно честных и скромных египтян. А потому нечего было и думать туда попасть, не говоря уже о том, что Биасу было запрещено, под угрозой продать его в каменоломни, без разрешения господина впускать кого бы то ни было в мастерскую. Стефанионе пришлось отказаться от своего намерения, тем более что ее позвала молодая невольница, говоря, что ее услуги нужны компаньонке Дафны, Хрисилле, почтенной матроне знатного греческого рода, не принимавшей участия в охоте. Довольный тем, что он, не обнаружив своего невежества, узнал все то, что ему нужно было об Арахнее, Биас удалился в белый дом, где и пробыл до возвращения охотников. Во время осмотра Дафной добычи и ее разговора с художниками невольник вышел также на площадь перед домом, но ему пришлось отказаться от намерения подслушать разговор Дафны с его господином: после первых слов, сказанных ею, он заметил за деревьями в саду биамитянку Ледшу. Итак, она сдержала слово и пришла.
Он узнал ее, несмотря на покрывало, закрывающее ей голову и часть лица. Как сверкали ее черные глаза и каким мрачным огнем они горели, когда она смотрела то на Дафну, то на Гермона, разговаривающих у входа в белый дом. Вчера вечером он впервые заглянул в взволнованную душу этого страстного создания, и он уверен, что, если здесь она заметит что-либо, что может ее рассердить или показаться ей обидным, она, способная на все, в состоянии позволить себе всякую выходку перед гостями его господина. Помешать этому было его прямой обязанностью уже ради его повелителя. Вчера еще предостерегал он Ледшу от него не потому только, что ему было неприятно видеть, как Ледшу, свободную биамитянку, ставили на одну ступень с продажными натурщицами из Александрии, а еще и потому, что он знал, к каким печальным последствиям приведет любовная связь его господина с египтянкой. Он ведь прекрасно знал, что свободные биамиты не оставят безнаказанным грека, соблазнившего одну из дочерей их рода. Хотя рабство не прошло для него бесследно и наградило его многими недостатками раба, но он был верен своему господину, к которому питал большую благодарность за то, что Гермон во время разрыва с дядей, страшно нуждаясь, ни за что не соглашался расстаться со своим верным и мудрым Биасом, как он его называл, несмотря на то что ему предлагали высокую цену за него. Невольник поклялся никогда не забывать этого и держал свою клятву.
На обширной площади перед домом было оживленное движение: отпущенники и рабы ходили взад и вперед; собаки лаяли; раздавались громкие крики продавцов фруктов, зелени и рыб, желавших обратить на свой товар внимание поваров. Поэтому на одинокую закутанную женскую фигуру никто не обращал внимания, но Биас зорко за ней следил. Когда же она приставила ко лбу свою руку, защищая глаза от ослепляющих солнечных лучей и поставила одну ногу на камень как бы для того, чтобы лучше рассмотреть происходившее перед ней, невольно вспомнил он только что слышанный рассказ о ткачихе Арахнее. И каким-то воплощением большой беды показалась ему Ледша, а когда она подняла и другую руку, он испуганно вздрогнул – ему показалось, как будто он видит перед собой громадного паука, протягивающего свои тонкие ноги, чтобы привлечь его к себе, опутать его паутиной и высосать всю его кровь. Несколько мгновений продолжалось это видение. Когда оно рассеялось и он увидал опять перед собой стройную, закутанную покрывалом биамитянку, он, глубоко вздохнув, покачал головой; ему еще никогда наяву и при солнечном свете не грезилось ничего подобного. Это видение было, вероятно, ему послано богами для того, чтобы предостеречь его господина от этой женщины. И во всяком случае оно предсказывало несчастье. Биамитянка сделала несколько шагов по направлению к Дафне и Гермону, но Биас, быстро покинув свой наблюдательный пост, загородил ей дорогу. Кратко сказав ей: «Идем!», он взял ее за руку и прошептал:
– Гермон радуется твоему посещению.
Рот Ледши был закрыт покрывалом, но ему показалось, что какая-то насмешливая улыбка искривила ее губы. Она молча последовала за ним. Сначала вел он ее за руку, но пальцы ее показались ему необычайно холодными и цепкими, и он, содрогаясь, выпустил ее руку. Она, казалось, ничего не замечала и шла возле него с поникшей головой. Они прошли в боковой вход и достигли дверей мастерской Гермона. Видя ее запертой, Ледша стала осыпать Биаса резкими упреками. Не обращая на них никакого внимания, он повел ее в жилые помещения художника и попросил там подождать. Затем он поспешил к ступеням главного входа и оттуда стал подавать знаки своему господину, желая привлечь его внимание. Гермон заметил его и подошел к нему. Биас сообщил ему, кто желает его видеть и куда он провел Ледшу; он не скрыл от него, как она ему в мимолетном видении показалась громадным пауком. Гермон тихо засмеялся.
– Так, значит, в образе паука. Что ж, пусть это будет предзнаменованием. Мы сделаем из нее госпожу паучиху Арахнею, которую не стыдно будет показать всему свету. Но эта необыкновенная красавица принадлежит к самым упрямым особам ее рода, и, если я ей прощу ее дерзкое посещение среди белого дня, она скоро сядет мне на голову. Сначала надо обмыть кровь с моей руки; раненый морской орел своими когтями разорвал мне на ней кожу. Я скрыл от Дафны эту царапину. Подай мне полоску полотна, чтобы перевязать. А пока пускай наша нетерпеливая самовольница узнает, что одного ее жеста недостаточно, чтобы перед ней раскрывались все двери.