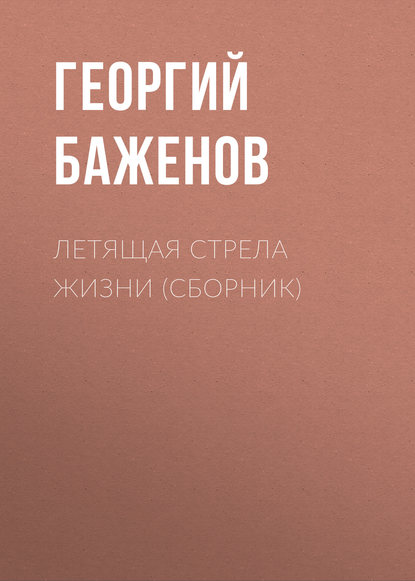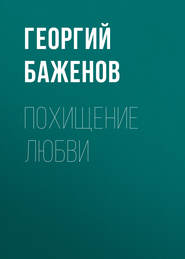По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Летящая стрела жизни (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В тот вечер они и в самом деле сварили на костре уху – из окуней и ершей. Правда, не было с ними у костра Ивана Фомича – ушел к вечеру домой, хозяйство не ждет, требует ухода. Так что у костра сидели впятером: Ваня, Валентин, Важен, Вера и Гурий. До утра почти сидели… Один только Важен к полуночи умаялся, заснул на фуфайке.
А ухой все же угостили Ивана Фомича. Вера отлила из ведерка ушицы в котелок, отнесла утром отцу на пробу. Иван Фомич уху похвалил, ел с азартом, аппетитно причмокивая.
Не знал он, что уху варил Гурий, а то вряд ли бы вырвалось из него хоть одно похвальное слово…
Еще больше, чем сам Гурий, переживала за него родная мать – Ольга Петровна. Долгие годы проработав в школе, учительницей географии, она безраздельно властвовала в душе сына, и пока он рос тихий, послушный, вежливый, внимательный, она считала себя самой счастливой матерью на свете. Но вот сын вошел в пору юности, и для Ольги Петровны начались тревожные дни. Не то что бы Гурий стал грубить или не слушаться, просто однажды он вдруг замкнулся в себе, перестал делиться с матерью сокровенными мыслями и мечтами, подолгу бродил где-то – то по улицам Северного, то по лесу (а это было небезопасно – одному по лесу, переживала мать, мало ли что может случиться). И не знала, конечно, Ольга Петровна, не догадывалась, что уже тогда в душе сына начали брезжить неясные и мучительные образы, какая-то тайная и властная сила требовала, даже диктовала ему, чтобы он не смел думать о себе, как о простом смертном, ему даровано природой чувствовать и понимать жизнь так, как мало кому дано из людей. Душа его, словно обожженная неведомым огнем, изнывала под гнетом особых чувств и переживаний, то есть он воспринимал и чувствовал жизнь совсем не так, как, скажем, воспринимали ее сверстники или даже взрослые люди, которых он знал и встречал до сих пор. Гурия в прямом смысле мучило ощущение трагичности жизни, душа его изнывала под тяжестью этого ощущения, ему странно было видеть и понимать, что все люди вокруг живут так (или делают вид, что живут так), будто нет никакой смерти на свете, а значит, нет трагедии существования, нет обреченности, нет той тяжкой и мрачной безысходности, которая и есть суть человеческой жизни. Но, с другой стороны, чем больше проникалась его душа трагедийным самоощущением жизни, тем сильней и явственней он замечал и прелести, и радости, и свет непосредственной жизни. Он не умел принимать участия в этой радостной жизни, сторонился веселых компаний, развлечений, смеха, открытых ясных отношений между людьми; да, не умел и не хотел принимать в этом участия, но самоё эту радость жизни принимал душой, понимал ее, воспринимал с тайным восхищением, а порой и с завистью к тем, кто открыто радовался жизни и пользовался ее дарами. Одно то, как страстно, например, хотелось Гурию поцеловать красивую девочку Лизу, и то, что впервые ему удалось поцеловать девушку только в институте, через много лет после мучительных юношеских переживаний и вожделений, уже это говорит о Гурии немало. И вот эта двоякость его внутреннего состояния, раздвоение души, может, и были той причиной, которая далеко удалила его от матери, от ее девственных и неглубоких представлений о нем, о сыне, как о совсем еще маленьком, глупом и чистом мальчике. Нет, он не был глуп и давно перестал быть маленьким, ибо познал мучение от страшной догадки: жизнь – трагедия, но как она прекрасна! Как она мучительна в своей красоте, прелести, загадочности и в том вожделении, которое трепещет в каждом человеческом сердце!
Как он жаждал одиночества в те годы!
И как, одновременно, ему хотелось обладать всем, буквально всем в этом мире, что несет в себе чувственную радость, наслаждение и философскую глубину!
Вот причина его юношеского одиночества, вот почему подолгу бродил он по улицам Северного, с болью в душе ощущая, как он глубинно и жестоко одинок. В то же время в каком-то неистовом восторженном блаженстве Гурий упивался красотой и нежностью женских лиц, их плавными и чувственными движениями, линией их ног, талий, грудей, изгибом их прекрасных лебединых шей: женщины были и остались для него на всю жизнь загадкой из загадок… Итак, он подолгу бродил по улицам Северного или с таким же упоением бродил по лесу, уходил на Малаховую гору, забирался на Высокий Столб, и здесь открывалась ему вторая тайна жизни – сама природа, ее красота, беспредельность новизны ее, сложности и очарования. Каждый листик или лепесток был полон загадки, нес в себе ту же тайну, что совсем недавно открылась ему в людях: жизнь – трагедия, но как она прекрасна!
Ах, если б он умел выражать свои чувства в словах, он, возможно, окунулся бы с головой в писание стихов, как делают это тысячи и тысячи юношей, но догадки свои и внутренние открытия он лишь ощущал сердцем, язык его был нем и беспомощен, и писанием стихов, слава Богу, он не занялся. Но другим даром, кажется, наделила его природа: с какого-то времени, почувствовал он, рука его неудержимо потянулась к карандашу, он стал делать наброски, эскизы, рисунки; впрочем, в этом не было, казалось бы, ничего удивительного: он и в раннем детстве, и даже в отрочестве недурно рисовал, то есть не рисовал, а неплохо копировал то, что видел перед собой, но тогда это было чем-то механическим, непроизвольным, а теперь подключилась душа, и именно потому, что она подключилась, рисунок стал меньше даваться ему. Он исстрадался из-за этого противоречия: чем лучше и глубже он чувствовал натуру, тем хуже и бледней получался эскиз. Поразительно!
Он стал резок, невозможен в разговорах с матерью; до прямых грубостей не доходило, но, Боже мой, его замкнутость, холодность и неожиданные вспышки раздражения были для матери хуже открытой грубости и брани. Ибо как она могла смириться с тем, что ее тихий вежливый послушный мальчик вдруг превратился в глубоко страдающего человека. Она это чувствовала, хотя причину его страданий не понимала, а потому не могла понять и принять его неожиданную холодность и резкость.
Вообще мать Гурия была в определенном смысле уникальная женщина. Всю жизнь проработав в школе и с почетом уйдя на пенсию, будучи строгой, требовательной и педантичной в работе, Ольга Петровна обладала странной особенностью: она не понимала детей. То есть практически, конечно, никто не знал об этом, даже сама она вряд ли до конца осознавала такую простую истину, и тем не менее это было так: детей она не понимала. Они были чужие для нее, больше того – она боялась их, не могла смириться с тем, что они никогда не слушаются взрослых, что им нужно говорить и объяснять одно и то же двадцать раз на день, что в голове у них постоянные глупости и баловство, что никто из них всерьез не думает о будущем, и так далее, и так далее. Соответственно и школьники относились к ней как к пустому месту, верней – как к нереальному существу: вот она есть, конечно, их учительница, но одновременно как бы ее и нет, они не воспринимали ее слова, наставления и строгости вполне серьезно, слова учительницы отскакивали от них, как барабанные палочки от барабана.
Но еще больше, чем учеников, Ольга Петровна не знала и не понимала их родителей. Воспитавшая сына сама, в гордом одиночестве (отчего и почему – это особый разговор), Ольга Петровна воспринимала мужчин (отцов детей) как грубых и неотесанных существ, особенностью которых было то, что они совершенно подавляли своих жен; и жены, вместо того чтобы тонко и умно воспитывать детей, занимались только домашним хозяйством и ублажением мужей-мужчин, куда входило (нет, не только стирка и готовка пищи) и потаканье таким слабостям мужчин, как выпивка, курение, матерщина, грубость, оскорбления и рукоприкладство.
Мужчин Ольга Петровна просто-напросто боялась.
Женщин, живущих с ними, не понимала: как они могут спокойно переносить издевательства и глумление не только над женским началом жен, но и над собственными детьми?!
Не понимала и не принимала Ольга Петровна и детей: несерьезные, глупые, невоспитанные, никого не уважающие, ни о чем не думающие… Боже мой!
И какой же вывод? А вывод простой: Ольга Петровна не знала жизни. И только по одной причине: жизни этой она боялась.
И вот странное дело: женщина, которая считала себя умной, вежливой, тактичной, образованной, глубокой, в действительности представляла из себя забитое и испуганное существо, главным стремлением которого было, во-первых, оградить родное дитя, сына, от всех возможных и невозможных напастей, а, во-вторых, оградить и себя от всего сложного, непонятного, грубого и трудного в жизни, то есть оградиться от самой жизни. Неудивителен поэтому тот образ жизни, который она вела почти все годы в Северном: полное затворничество. Соседи, даже самые близкие соседи – ну хоть Салтыковых взять, хоть Варнаковых – были для Ольги Петровны загадочными существами: их грубые неотесанные будни, вечная забота о хлебе насущном и только о нем, полное отсутствие тяги к культуре, нередкая взаимная ругань, вплоть до мордобоя, и тут же шумные перемирия, кончающиеся общей гульбой и пьянкой, – что могло быть страшней и непонятней для Ольги Петровны?
И потому, когда взбунтовался ее собственный сын, вначале тихо и неприметно, а затем явно и недвусмысленно, Ольга Петровна буквально впала в панику. Как жить? Что делать? Как спасти их такую спокойную, понятную им обоим, культурную и вежливую жизнь?
Но эту жизнь спасти уже нельзя было. Сын вырос, сын потянулся за самим собой, за собственным смыслом бытия, который так просто не дается в жизни, за него нужно платить полной мерой – призванием, талантом, судьбой, наконец.
Вот почему так поспешно ринулся Гурий во взрослую жизнь, то есть поначалу, конечно, не совсем во взрослую, а в студенчество. Он должен был уехать от матери, освободиться от ее домашнего изнуряющего плена, который убивает все первородное и истинное в собственной натуре; нужно было найти себя; нужно было спасти себя. И Гурий уехал в Москву, поступил учиться в педагогический институт на художественное отделение. Мать, поначалу напрочь убитая бегством сына (так она воспринимала отьезд Гурия), вскоре сумела найти для себя некоторое утешение; утешение заключалось в мысли: нет, не зря я столько лет учительствовала, зерно упало в добрую почву, сын пойдет по моим стопам, станет педагогом, учителем, будет наставлять и направлять бездумную молодежь на праведную дорогу…
Но если б сын сам мог найти эту праведную дорогу в жизни!
Хорошего учителя из него не получалось.
Художником он не стал.
Первая семья развалилась.
Вторая семья держалась на честном слове.
Как жить?! Как найти себя, свой смысл, свое назначение?!
Вот и метался Гурий в душе своей из пустого в порожнее, мучился, страдал безмерно. И разве мать не чувствовала его страданий?
Чувствовала, но мало понимала их. Да и понять не могла, ибо не понимала главного – жизни. А не понимала ее по прежней простой причине – не умела принимать, видеть и чувствовать ее такой, какова она в действительности, а не в воображении, не в мечте.
Вот и смотрела сейчас Ольга Петровна на взрослого сына, порядком уже полысевшего, состарившегося, осунувшегося и поблекшего, как на некое непонятное загадочное чудо: что же это за человек такой, ее сын? отчего он мучается? что ему надо? почему никогда и ни в чем не принимает моих советов? не признает моих мыслей? не разделяет моих взглядов?
Одно только то, что Гурий, однажды приехав из Москвы в поселок, ни с того ни с сего сделал предложение Ульяне Варнаковой, молодой взбалмошной вздорной соседке, да чего греха таить – просто недалекой и глупой бабе, одно это ввело Ольгу Петровну в кошмарный шок на долгие-долгие годы. И никак не могла она привыкнуть, что обыкновенные ее соседи по огороду, Наталья и Емельян Варнаковы, люди простые, грубые, давней заводской и одновременно крестьянской закваски, – эти люди теперь ее родственники. Нет, не хотела этого принимать Ольга Петровна, и как жила прежде в одиночестве, так и продолжала жить еще большей затворницей, никого не признавая за родственников, кроме самого Гурия. Об Ульяне и говорить не приходится. Кто она была для Ольги Петровны? Подлая совратительница, окрутившая Гурия и заставившая его жить вместе с ней. К внукам – Валентину и Ванюшке – она относилась терпимей, то есть понимала, что они – сыновья ее сына, но сердцем не могла поверить, что в них течет общая с ней кровь. Она, конечно, разрешала им бывать в своем доме, но, странное дело, внуки никогда не стремились к этому, даже тогда, раньше, когда у Гурия с Ульяной все было хорошо, когда они приезжали в Северный одной семьей: Ульяна с детьми жила с родителями, а Гурий – где хотел: хоть у матери, хоть у тестя с тещей. А когда у Гурия семья разрушилась и он связался совсем уж немыслимо с кем – с другой соседкой, с молодой и тоже недалекой Верой Салтыковой (мало ему в Москве достойных женщин?! обязательно надо деревенщин выбирать, о, Господи!), – тут уж Ольга Петровна совсем в доме притаилась, как таракан в щели, никуда носа не показывала. То, что отныне и Иван Фомич Салтыков, мужик молодой, бородатый, страшный, дикий в гневе и в пьяном похмелье, теперь тоже ее родственник, вконец доконало Ольгу Петровну, а попросту говоря – свалилась Ольга Петровна в постель, заболела. А там и другие прелести начались: новый внук появился, Важен. К этим-то варнакам, Валентину с Иваном, никак не могла привыкнуть Ольга Петровна, так теперь еще один, Важен, к тому же незаконнорожденный…
Бог ты мой, к такой ли старости готовила себя Ольга Петровна?
К такой ли судьбе предназначала своего единственного сына, когда столько лет берегла и лелеяла его?
О том ли мечтала в жизни?
Все пошло прахом…
И тем не менее, видя, как мучается Гурий, даже вот сейчас, в этот его приезд, Ольга Петровна, давно изболевшись сердцем, продолжала переживать за сына так, будто он оставался прежним, маленьким и беззащитным мальчиком. Обе его семьи, жены, дети, обязательства перед ними ничего для нее не значили, кроме одного: они терзали ее мальчика, и это было для нее главное знание и мучение. Вот почему однажды она сказала сыну (впрочем, она пыталась сказать это не раз, да сын не слушал ее):
– Гуринька, маленький, может, тебе плюнуть на все и остаться жить с твоей мамочкой?
Гурий побледнел как полотно и долго смотрел на мать пристальным горячечным взглядом: может, она просто сумасшедшая? невменяемая? не от мира сего? Если нет, откуда тогда такая юродивость в словах? такая кротость взгляда? такая невинность в улыбке? И из губ его вырвалось жестокое, страшное, убийственное восклицание:
– О Господи!!! – после чего он с немыслимой силой хлопнул дверью и выбежал вон из дома.
Опять он бродил по лесу, метался, как загнанный зверь, на этот раз без альбома и карандашей, к черту все! Душа его изнывала от чувства полного бессилия и проигрыша в жизни; казалось бы, он ни в чем не виноват перед жизнью, во всяком случае, изначально не виноват, и все же судьба его катится вперед так (а может, не вперед она катится, а в пропасть?), что повсюду, как вехи, остаются события, главный смысл которых: виноват в этом! виноват в том! виноват в пятом! виноват в десятом! Везде и всюду и во всем – виноват, виноват. Разве можно жить спокойно и размеренно, работать полноценно и нравственно при этом постоянном, изнуряющем чувстве вины?
Да и вины в чем?! перед кем?! за что?!
Непонятно, непонятно…
А от этой непонятности жить на свете еще трудней, еще невыносимей…
И вдруг он слышит: голоса в лесу; стук топора; вжиканье пилы. Выходит на пригорок – и что же видит? Вон, совсем недалеко, на крохотной делянке, взявшись за ручки пилы, разделывают кряжистую сосну Иван Фомич с Верой; видит даже капельки пота на взопревшем лбу Веры. Раскрасневшаяся, в легком цветастом сарафане, Вера работает весело, азартно, с упоением, а Иван Фомич, спокойный, уверенный, иногда поправляет дочь: «Не дергай, не дергай, плавней держи…» Неподалеку от них тюкают двумя топорами Ванюшка с Валентином; один стоит на одном конце сваленной наземь сосны, другой – на втором. Стоят на ногах крепко, уверенно (видать, обучил этому дед, не иначе), а крепость и уверенность нужна тут потому, что рубят они сучки очень острыми, надежными в деле топорами (сам Гурий, конечно, ни за что не доверил бы топоры сыновьям). Каждый из пацанов, широко расставив ноги, стоит над сосной так, чтобы ствол был между ступнями; шаг за шагом, метр за метром продвигаются они вдоль лежащей на земле сосны и отрубают сучки верными расчетливыми движениями; причем рубят правильно, от комля – к вершине. Важен тоже рядом вертится, но дед следит за ним, иногда покрикивает:
– Эй, пострел, а ну-ка топай к нам, не лезь к братцам под топор!
И как ни хочется Бажену быть рядом с Ванюшкой и Валентином, деда он слушается, да к тому же и в самом деле боится топора. Впрочем, он не в обиде на деда, потому что тот разрешает ему ставить клеймо на полутора-двухметровых бревнах. Разделают сосну Иван Фомич с Верой, сложат бревна в небольшую кучку, а Важен ходит с головешкой от костра и ставит на торцах клеймо. Клеймо такое: с одной стороны – крестик, с другой – галочка. И крестик, и галочка Бажену даются легко, а чтоб еще лучше получалось, он высовывает изо рта язык.
– Эй, парень, язык не проглоти! – кричит ему иной раз дед.
– Не, не проглочу. Вот он! – И Важен, весь чумазый, перепачканный в саже, показывает им длинный розовый язык. Вера, любуясь сыном, ласково улыбается ему, а ребята, оторвавшись от работы, вытирая со лба пот, смеются над ним:
– Эх ты, клоп, посмотри на себя, на чертика похож!
– Сами вы шертики, – пыхтит Важен, продолжая сосредоточенно и серьезно ставить на свежих торцах угольные кресты и галочки.
Ах, как болит в эти минуты душа у Гурия; даже не душа, а именно сердце, так и покалывает, покалывает его мелкими иголками. Почему бы это? Сам не знает. Ощущение такое, что вот она, жизнь, рядом, совсем рядом, идет своим чередом, а ему, Гурию, как бы и нет в этой череде места.
Но почему же нет?