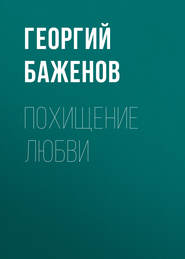По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Меч между мной и тобой (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А вы помолчите пока, товарищ! – бесцеремонно оборвал его Поликарпов. – Ну, так что будем делать с гражданином Нуйкиным, Екатерина Марковна? Знаете вы его или, может, знаете, да вот неожиданно забыли?
Екатерине Марковне послышалось в интонации этих слов что-то оскорбительное, она вспыхнула и выпалила раздраженно:
– Да, знаю!
(А что оставалось делать?)
– Таким образом, – вновь козырнул старший сержант Поликарпов, козырнул с разочарованием, – вы утверждаете, что мы можем оставить товарища Нуйкина под вашу ответственность?
– Да, можете, – кивнула она. А что, нужно было сказать: нет, не утверждаю, забирайте его? Но совесть и что-то еще, чему она не могла пока дать объяснения, не позволили Екатерине Марковне сделать это.
– В таком случае – всего доброго. Извините! – Поликарпов козырнул на прощание, милиционеры сели в машину, которая резко осела под их одновременным движением, и машина тронулась с места, полоснув ослепительным светом по лицу Марка Захаровича. Он испуганно ойкнул, прикрываясь потрепанным рукавом пальто, и отшатнулся в сторону.
Стало темно; Екатерина Марковна и Нуйкин стояли друг против друга. Неподалеку, никуда не уходя, с пристальным вниманием наблюдал за ними Марк Захарович.
– Пойдемте! – резко проговорила Екатерина Марковна и, развернувшись, пошла по направлению к своему подъезду. Нуйкин, стараясь не пошатываться (ему, конечно, было стыдно; а впрочем…), пошел следом за Екатериной Марковной.
Они уже скрылись в подъезде, прошло минут пять или шесть, а Марк Захарович, как всякий человек на посту, продолжал стоять на своем месте, не веря ни увиденному, ни услышанному. Он чувствовал, нутром изнывал: тут подвох, явный подвох… А вот какой? И только когда в окнах квартиры Екатерины Марковны вспыхнул свет, Марк Захарович поплотней закутался в свое длиннополое, на манер шинели, обтрепанное пальто, примечательностью которого были еще и золотые пуговицы железнодорожника, и разочарованно вздохнул. Но тут спасительно-ядовитая мысль засеребрилась в его мозгу: «А на вид вроде порядочная женщина… Не успела мужа в могилу спихнуть, а уж Семен Семенычи появились. Ну, народ, ну, народ!..» И, разгоряченный этой мыслью, спасенный ею от смертной скуки, которая одолевала его в холостяцкой, давно потерявшей всякое человеческое тепло однокомнатной квартирке, Марк Захарович отправился восвояси.
– Раздевайтесь, что же вы! – гораздо грубей и резче, чем, в сущности, хотела бы, проговорила Екатерина Марковна, включив в прихожей свет.
– Я, собственно… – начал лепетать Нуйкин, поправляя в нерешительности очки на переносице. – Вы извините…
Екатерина Марковна, даже не взглянув на него, повесила свое пальто на вешалку, сняла платок с головы, поправила волосы.
– Раздевайтесь. Откуда вы только взялись на мою голову… – И прошла на кухню.
Нуйкин начал раздеваться, снял пальто, а когда расшнуровывал ботинки, наклонился и чуть не упал, потеряв равновесие. Собственно, он бы упал, но вовремя уперся руками в тумбочку; тумбочка наклонилась, но не перевернулась, а встала на место.
– Ну, что тут у вас? – Екатерина Марковна вышла из кухни (поверх платья она успела надеть фартук). – Что, чуть тумбочку не уронили? Хорош, хорош, ничего не скажешь… Как вас по фамилии? Нуйкин, что ли?
– Нуйкин. Семен Семенович, – одернув пиджак и поправляя галстук, бодро, как бодрятся все крепко выпившие мужчины, ответил тот. – Я, собственно, к вам. Извините, просто не к кому. Я к вам посоветоваться…
– Посове-е-товаться? – удивленно проговорила Екатерина Марковна. Проговорила не только удивленно, но и насмешливо.
– Да, если позволите. – Он снова одернул пиджак, стоял перед ней навытяжку: на одной ноге – ботинок, на другой – носок. – Вы не смотрите, что я нетрезв… я давно вас жду. Часа два…
– О чем вы можете советоваться со мной? Вы? Со мной? Вы хоть понимаете, как это нелепо звучит? Ладно, – махнула она рукой, – раздевайтесь. Проходите на кухню. – И опять ушла.
Он разделся, хотел надеть тапочки, которые стояли у порога, но вдруг узнал их, ведь это тапочки, которые лежали в «дипломате», и его от отвращения передернуло. А может, вовсе и не те тапочки? Черт их знает… Он прошел на кухню в носках.
– А тапочки? – нахмурилась Екатерина Марковна.
– A-а, я так! – Он сделал неопределенное движение рукой. – Не фон-барон.
– Чай будете? – Она смотрела на него в упор, без снисходительности, без мягкости.
– Да, если можно…
– Садитесь… – Показала на табуретку.
Кухня была просторная. То есть настолько большая, с такими высокими потолками, что Нуйкин и не помнил, чтобы видел когда-нибудь подобное. Вытянув ноги, сложив руки на коленях, Нуйкин с удивлением и уважением оглядывал кухню.
– Когда-то это была коммунальная квартира. – И все, больше ничего не стала добавлять Екатерина Марковна, правильно истолковав взгляд Нуйкина.
– И сколько семей тут жило? – спросил Нуйкин.
– Три.
– Понятно. – И после некоторой паузы: – А теперь?
– Вам это очень интересно? – опять без всякой мягкости, почти грубо спросила Екатерина Марковна.
– Да нет, я так… – смутился Нуйкин. И как-то странно, нелепо, а может, стыдливо хихикнул.
Екатерина Марковна взглянула на Нуйкина с презрением. Поставила перед ним чашку дымящегося чая. Налила чаю и себе. Нарезала сыра, хлеба. Поставила масло.
Помешивая чай, Нуйкин громко (руки дрожали) стучал ложкой о края, Екатерина Марковна морщилась.
– Так о чем вы хотели посоветоваться со мной?
Нуйкин не знал, с чего начать; отпил чаю, обжегся, закашлялся.
– Видите ли… – начал он. – Извините… – И закашлялся всерьез. Надолго.
– Вы, наверное, выпить хотите? – спросила Екатерина Марковна.
– Да, не отказался бы, – признался Нуйкин.
– Вот этого как раз и не будет. Обойдетесь! – отрезала Екатерина Марковна.
– Да? – удивился Нуйкин неожиданности ее логики.
– А вы как думали? Пьянствовать будете у меня? Достаточно того, что притащились без всякого приглашения.
– Да нет, я ничего… Мне только нужен один совет. Дело в том, что я… Сами понимаете, Екатерина Марковна, мое положение… я подал на развод…
Екатерина Марковна продолжала смотреть на Нуйкина строго, придирчиво, никак не выражая в словах своего отношения к услышанному.
– Понимаете? – переспросил Нуйкин. Лоб его покрылся испариной.
Екатерина Марковна кивнула: мол, понимаю, а дальше что? А, впрочем, снисходительности ради, с некоторой паузой произнесла:
– Давно пора.
И с нажимом добавила:
– Я вообще не понимаю, как можно жить с такой женщиной.