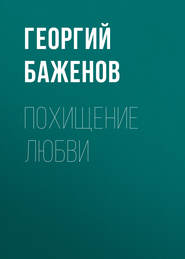По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смертельный любовный треугольник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вон! И с реки чтоб убирались! Ясно? А не то я вас… – Он поднялся с табуретки и медленно пошел на них. Глаза его горели бешенством – черные, угольные глаза. Лицо – узкое, продолговатое, с мощно выпирающим подбородком – налилось сероватой бледностью, губы побелели. И странным, и страшным контрастом к лицу была широкая ярко-синяя лента, которая опоясывала его голову с длинными, как бы завитыми на концах черно-смоляными волосами.
Он пошел на них, сжав кулаки, и они невольно попятились, хотя, надо сказать, Георгий не был совсем уж робкого десятка: широкий в плечах, высокий, с крепкими руками, он не раз участвовал в московских передрягах, где, хоть и не доходило ни до чего серьезного, он все же не пасовал. И это главное – не пасовал, и поэтому всегда все заканчивалось благополучно.
А тут – попятились оба.
Хозяин шел на них, а они, как под гипнозом, пятились, так и вышли – задом – на крыльцо, и по крыльцу спускались задом, потому что он продолжал идти на них, словно вот сейчас, на месте, хотел придушить обоих; Катя нечаянно сбила ногой ведро с земляникой, оно покатилось по крыльцу, рассыпая за собой кроваво-красную дорожку, кровавую потому, что оба невольно наступали на ягоды, которые истекали под тяжестью их ног спелой и налитой сочностью.
Внизу Георгий все же подхватил ведро, в котором ягод осталось всего на донышке, и они с Катей разом, как по команде, повернулись и поспешно пошли прочь от дома, как от чумы, как от наваждения.
И вот этого (поспешного своего бегства) очень долго не мог простить себе Георгий: бегства, а значит – трусости своей.
Неужели он трус?
Никогда не думал так о себе; да и не был трусом; но тут что-то такое было во взгляде хозяина, такая властность и – главное – такая неподдельность ненависти к ним, ненависти и ярости, что не подчиниться нельзя было. Но за что ненависть, откуда?!
А кружка эмалированная, в которую собирала землянику Катя, так и осталась на крыльце: без ягод, без воды…
Вчера, второй раз за лето, приходил Паша Востриков, участковый. Посидели, даже выпили немного, но разговора не получилось. Да и мог ли он получиться? Востриков считал Егора (в душе, конечно) не совсем нормальным, верней – не от мира сего, хотя это не мешало участковому относиться к Егору свысока. В самом деле: когда-то они учились вместе, в одном классе, в одной школе-интернате в поселке Северный; Паша тянул лямку еле-еле, но ребята в классе его любили – он был добродушный и покладистый, а Егор, учась на «четверки» и «пятерки», причем легко, без особых внешних усилий, был ядовит, резок, властен, него, конечно, недолюбливали, побаивались. Еще одна черта водилась за Егором: он любил говорить правду. Всем без разбора. Какая бы она ни была. Учителям, родным, одноклассникам. Даже лучшим дружкам своим – Степке и Николе, которые за это еще больше его уважали. (Ну, и остерегались, конечно, тоже – языка его остерегались.) Это ли повлияло на решение Егора (что он любил искать и говорить правду), или что-то другое, но после окончания школы-интерната он легко и просто, казалось бы, поступил в Уральский государственный университет на философский факультет, отчего сразу стал знаменитостью в поселке: еще никогда в Северном не было своих «философов» – никогда за все годы, сколько помнил себя этот обычный заводской поселок, раскинувшийся на склонах холмов и небольших гор недалеко от Свердловска. Пока Егор учился в университете, Паша Востриков успешно закончил свердловскую милицейскую школу и вернулся в родной поселок. И вот уже многие годы работает участковым. Но в чем тут штука-то? Отчего бы это участковому милиционеру относиться свысока к «философу» Егору Малицыну? А соль тут в том, что в начале третьего курса Егор вдруг бросил университет, но в поселок не вернулся, а остался в Свердловске и пошел работать на завод – сначала учеником токаря, но постепенно вырос в первоклассного мастера токарных дел. Жил в Свердловске в рабочем общежитии, жил много лет, не претендуя ни на что лучшее, слыл молчаливым, скрытным и вспыльчивым. Особенно когда выпивал. Мать в Северном понять не могла (отца у Егора не было, он даже отчество деда носил – Савельевич), что с сыном случилось. Отчего бросил университет? Почему работает на заводе? Чего добивается? Ведь годы идут… А в двадцать шесть лет Егор выкинул последнее коленце: плюнул на завод и вернулся в Северный. Но жить стал не с матерью – куда там! В шести километрах от Северного, на берегу Чусовой, раскинулась вольная деревушка Красная Горка – вот туда и ушел жить Егор Малицын. И не в саму деревеньку, а в одинокий домишко километрах в полутора от деревни; правда, тут есть объяснение: дом этот некогда принадлежал деду Егора, леснику Савелию Малицыну по кличке Азбектфан: корень-то Малицыных отсюда шел, из Лесниковой избушки… Разбил Егор заново огород, подремонтировал-подлатал дом, занялся рыбалкой, охотой – и вот живет здесь бобылем второе лето… А почему Востриков к нему ходит? Потому что он участковый, а порядок должен соблюдаться везде и всегда. Ладно, пусть Егор в Северном прописан, в материном доме, а живет здесь, под Красной Горкой; это ладно, ничего, тут страшного не так много. Другое плохо: где и кем работает Егор? Нигде. Никем. На какой работе числится? Ни на какой. При этом на замечания Вострикова посылает участкового подальше. Как быть Вострикову? Не обращать внимания? Нельзя, непорядок, нехорошо. А дать ход делу? – совесть мешает. Ведь одноклассники все-таки… К тому же – и это самое главное – Егор живет тихо, спокойно, никому не мешает, а трудится – за десятерых: когда бы к нему ни пришел – он весь в работе. Вон огород – сказка. А лес и подлесок в округе? Вычищен и прочищен так, будто это парк ухоженный в каком-нибудь капиталистическом государстве Люксембург. А кто лучший рыбак на Чусовой и Северушке? Опять же – Егор Малицын. Причем сроду у него сетей не водилось, не балует ими. Есть, конечно, одна странность – не любит, чтоб ходили к нему, лезли в его жизнь. И не только сюда, в избушку, а и чтоб в округе никого не было. Впрочем, к нему и не ходят особо. То ли боятся. То ли дичатся его. То ли понять этого человека не могут. Хочется жить одному? Живи. Бог с тобой…
А все ж таки как бы там ни было – в трудовой книжке никакой у него записи. Непорядок. И приходится участковому Вострикову время от времени наведываться сюда: «Как хочешь, Егор, а надо что-то делать, решать… Ведь случись что – кому отвечать? Вострикову!»
– Не трясись ты за свою шкуру, Паша! – сказал вчера Егор, когда сидели и тихо-мирно выпивали, огурчиком закусывали. – Чего тут может случиться?
– А записи нет в трудовой – это как? Тунеядство называется. Ты бы хоть в аренду какую записался… А то живешь, как куркуль-единоличник. В прежние времена с такими, знаешь, как поступали? Ать-два и в дамках!
– Давай, мечтай о прежних временах… Тебя бы первого тогда удавили.
– Как это? Ты, парень, того… говори, да не заговаривайся!
Надо сказать, Павлу Вострикову стукнуло недавно двадцать восемь лет, молодой еще мужик, а разговаривал он – ну как дед старый, верней – языком дедов: протяжно, неспешно, как бы со всегдашним удивлением; и интонации, и словечки – все было, как если бы это не совсем нынешнее, а слегка давешнее время; раньше, лет до двадцати пяти, такого за Востриковым не водилось, а потом вдруг разом – преобразился Павел: видать, почувствовал себя, вошел в колею, которую издревле прокладывали в его роду деды да прадеды.
– А так, – объяснил свою мысль Егор. – Кто сильно старался порядок наводить – того туда же, в петлю пихали: опасный человек.
– Чем опасный?
– А до корней может докопаться. А этого, Паша, ни в какие времена не любят.
– Чувствую, намекаешь на что-то. А не пойму. Ты мне просто скажи: почему не устраиваешься на работу?
– Я работаю. Не видишь? – Егор кивнул за окно – на огород, на Чусовую вдали, на красногорский лес.
– Нет, а официально?
– Не хочу.
– Да ты пойми: если каждый скажет: «Не хочу!» – что тогда будет?
– Если бы каждый работал, как я, больше бы толку было. А так – одна ложь кругом.
– Значит, вся страна за дело взялась, а ты говоришь: ложь?
– Я так не говорил. Не шей мне мыла, Паша!
– Слушай, ну вот если честно: никак я тебя не пойму! – воскликнул Востриков. – Ведь ты умный мужик. Образованный. В университете учился. На заводе работал. И вдруг – бац – бросил все. Ты в своем уме?
– А ты?
– Я-то в своем, – нахмурился участковый. – Но какого хрена ты учиться бросил, убей – не пойму.
– Потому и бросил, что понял: ложь там одна, а не философия. Жить надо, а не лясы точить. Так-то, старшина Востриков!
– Ну да, ты, значит, один правду знаешь, а все остальные – ерундой занимаются?
– Все – не все, а многие. Не умеет человек по правде жить. Не получается. Да и не хочется ему, человеку. Жить по правде – это труд, Востриков, а по лжи-то жить легко. По лжи и лицемерию. Вот человек и живет так. Легче ему, спокойней, сытней. Вот ты себя возьми: тебе лишь бы порядок был. А какой порядок – для тебя все равно. А, может, порядок твой – это сущий бардак как раз, безобразие, противочеловеческое что-то, а?
– Но-но, Егор Савельевич, поосторожней на поворотах! Я к тебе жалеючи, с пониманием, а ты еще оскорблять? Не забывай – я при исполнении служебных обязанностей.
– Вот и катись: лови воров, жуликов, паразитов, прихлебателей – там твое дело! А мне тут нечего голову морочить.
– Значит, так ты ценишь дружеское расположение?
– Друг нашелся! – рассвирепел Егор. – Ты жить спокойно хочешь, кусок свой жевать безмятежно – вот и вся твоя дружба. И пошел ты с такой дружбой знаешь куда?!
Павел Востриков не стал уточнять, куда он должен пойти с такой дружбой, а решительно поднялся из-за стола, одернул резко раздраженными движениями гимнастерку, поправил ремень, нахлобучил фуражку на порядком уже облысевшую голову и, козырнув, угрожающе проговорил:
– Предупреждаю вас в последний раз, товарищ Малицын! Мало того, что живете не по месту прописки, так еще не работаете нигде. Как бы не потянуть на статью за тунеядство!
– Арестуешь – отвечу. А сейчас – катись! – И Егор твердо показал на дверь. Даже не встал из-за стола хозяин.
Несколько секунд, приоткрыв губастый рот, Востриков переживал острую обиду, полоснувшую его по сердцу, но – взял себя в руки и твердым шагом вышел из избы; только бритая шея его густо покраснела.
Да, не получилось разговора…
И не в том дело, что Егор не испугался последствий (Востриков был мягкий и добрый человек, отходчивый, и вряд ли решится на что-то серьезное: совесть замучит), дело в другом – в яростном непонимании, которое разделяло Егора и многих людей, встречавшихся на его пути.
Да что думать об этом! Что мучиться понапрасну!
Егор скинул с себя пиджак, тяжелые лыжные ботинки (весной, летом и осенью – единственно признаваемая им обувь, дешевая и крепкая; зимой предпочитал валенки, «пимы» по-уральски, – обувку тоже надежную, удобную и теплую) и, босой, в одной майке и легких спортивных шароварах вышел из избы, подхватил тяпку у крыльца и отправился в огород.
Когда ему было не по себе, он всегда лечил душу работой; вот и сейчас: встав на углу картофельной гряды, он начал рядок за рядком окучивать картошку, гордость свою, – картошку густую, ветвистую, но еще маловато поднявшуюся над землей и потому требующую как можно больше воздуха, влаги и рыхлости почвы. Солнце припекало не столь сильно, как совсем недавно, когда приходил участковый Паша Востриков (день клонился к закату), но обильный пот и без того яростно и многоструйчато катился по загорелым бугристым плечам Егора, по его мощной груди, по узкому аскетическому лицу; и даже из-под синей широкой ленты, которой Егор всегда прихватывал густые свои, смоляные и вольные волосы, тоже бисеринками выкатывался пот, слепя глаза; прищурившись, Егор снизу вверх, мощной струей воздуха сдувал пот с бровей и ресниц (не прекращая работы, не отрываясь от тяпки), и бисеринки пота разлетались по сторонам, как прозрачно-оранжевые – от солнца – блестящие шарики.
А когда он работал, он всегда думал; больше того, чем неистовей и увлеченней работал, тем думал глубже и серьезней. Конечно, для всех самым странным его поступком было то, что он бросил когда-то университет. Но как объяснить другим, как быть правильно понятым, что потому и бросил, что заела, замучила вконец совесть. Он учился с упоением, легко схватывал все философские термины, понятия, построения, системы, доктрины. Может, оттого легко, что всегда стремился именно к этому: понять, как устроен мир, где его начало, продолжение и конец, понять стройность и логичность законов, которые управляют жизнью, материей и духом; он буквально находился в эйфории, причем эйфории сознательной, оттого, что незаметно-неприметно, но приобщался к тайнам жизни, к их осознанию и пониманию, и даже казалось порой, что то, что понимает он, больше никто на свете не понимает – не понимает так глубоко, ярко, отчетливо, тут бродили-скользили даже мысли о какой-то избранности, пророческом откровении о самом себе, будто он не только открыватель тайн, но и их творец или, по меньшей мере, сотворец.
Что и говорить: сколько молодых сердец ловила в свои сети голая наука философия – наука осознания, понимания и отражения законов материального и духовного мира. Иллюзия причастности к тому, к чему в действительности ты совершенно непричастен, – вот что тут главное, вот в чем истоки возможных и страшных разочарований.
Именно на третьем курсе это и случилось с Егором – он как бы оглянулся вокруг и заметил, и разобрался, и уразумел: философские системы жизни – это одно, а сама жизнь – совсем другое. Сама жизнь – она кровавая вещь, она из пота и плоти, из хлеба и мяса, из слез и страданий. Он учится, упивается знанием, восторжен и упоен в своей мистической мечте познать глубинные законы жизни и природы, а в то же время, когда он выходит из дверей университета, навстречу ему бредет седая старушка в легком рваном пальтишке, без рукавиц, с озябшими посиневшими руками, а из задубевшей на морозе дешевой кожеми-товой ее сумки торчит сизый хвост окоченевшей скумбрии… Вот когда в первый раз кольнуло твое сердце! Что-то остановило твой бег, как будто ты ударился со всего размаха о чугунную тяжелую дверь или уперся в каменную стену, – но что такое?! почему?! Ты еще ничего не осознал, не разобрался ни в чем, но защемило, защемило твое сердце… и страшная боль, как острая игла, вошла в твою душу.
Ты потом ходил и ходил по улицам зимнего завьюженного Свердловска, тоже в легком и рваном полупальтишке, как и та старушка, но все же ваши пальто – совсем разные вещи… И ее скумбрия – тоже совсем другое, чем твой бедный и скудный обед в студенческой столовой… Тут что-то несопоставимое было, несравнимое и несравненное, хотя оба вы – и бедны, и холодны, и голодны. О, твой голод – совсем другой голод; да и не голоден ты, хотя и сосет постоянно в желудке; это оттого, что ты молод и полон сил, и полон восторженного стремления познавать новые и новые тайны жизни через философию и отвлеченную игру ума; тут совсем другое пронзило тебя: тебе двадцать первый год (ты прожил уже треть, а может, всего только четверть, а может – и всю половину отпущенного судьбой времени твоей жизни), но… но ты еще никогда и нигде ничего не создавал и не создал! Ты просто нахлебник у жизни, причем нахлебник восторженный, еще ничего не сделавший, не ударивший палец о палец, а у тебя уже все есть: и корка хлеба, и пальто, и комната в общежитии, и множество книг, и эрос твой есть, который мучит тебя по ночам, но ты пытаешься не придавать ему значения, а ведь он – зов жизни и жизни реальной; нет, для тебя ничего не существует реального, жизненного, одна – наука, одна – философия, но чем же кормятся люди, которые занимаются философией? И не только они, а все, кто ничего не делает, ничего не создает, но много болтает, много думает, много восторгается? Они кормятся именно тем, что отобрали вон у той старушки с озябше-посиневшими руками, которыми она держит дешевую кожемитовую сумку с торчащим из нее сизым хвостом окоченевшей скумбрии…