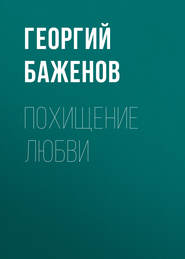По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смертельный любовный треугольник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но, конечно же, его выходку, его поступок не понял никто; тогда, когда бросил университет, тогда можно было считать это молодой блажью, дурью, позерством, а теперь… а теперь назвали его просто сумасшедшим. Бросил все: завод, работу, большую зарплату, прописку в Свердловске, отдельную комнату в общежитии (через год обещали дать, как передовику и лауреату многих профессиональных конкурсов, однокомнатную квартиру), – все бросил. И уехал не в Северный, не у матери поселился, а в убогую деревушку подался, на Красную Горку, и даже не в деревне дом занял, а забрался в лесную избушку деда Савелия, на отшибе устроился, будто спрятался от кого.
Нет, определенно сошел с ума!
И опять думали: это у него временно, блажь и дурь, но вот уже два года он так и живет в лесу, в избушке своей, почти безвылазно, только раз в неделю ходит на Красную Горку, хлеб покупает, остальное все у него свое, домашнее, хозяйское, трудовое.
…Егор напился крепкого, уваристого чаю, в который обязательно бросал несколько веточек молодой душицы, а иногда – для здоровья – и зверобоя, и, подложив под голову фуфайку, лег ногами к затухающему, как бы медленно тающему красными угольками костру. Звезды высыпали густо и ярко, словно кто нарочно выткал над головой звездный ночной ковер с золотым месяцем в правом углу; ни шороха, ни звука кругом, одна сияющая бездна, и такой покой, умиротворение нисходят на душу, что чувствуешь, будто ты не грубый и взрослый мужик, а всего лишь малый ребенок, завороженный полуночной красотой мира. Человеку не бывает плохо, когда он один на один с природой – правда, когда он наедине с мирной природой; да если еще рядом река, костер, хорошая ушица или умело заваренный чай… Так и Егору: было ему сладостно и умиротворенно, и он давно понял, что двадцать шесть лет, которые он прожил, прежде чем поселиться здесь, он прожил как бы готовясь к тому, чтобы обрести и благодать эту, и свободу, и красоту, и простор. Сколько он заблуждался, сколь многого хотел и сколь дерзко относился к жизни, а она – вот она, и не надо ничего другого, только бы не мешал никто, никто не нарушал этой гармонии, этого странного и полного единения и с миром, и с природой, и с самим собой.
Почти каждый день, после дневных трудов, а трудов было множество и на огороде, и в лесу, и по дому, Егор уходил на Чусовую, рыбачил, ставил вёрши и жерлицы, устраивал ночной костерок, любил сварить уху и напиться чаю, а потом вот так полежать на траве-мураве, посмотреть на звезды, послушать реку, всплеск неожиданной рыбы, вскрик ночной птицы, – и всем этим наслаждаться и знать, что все это – твое, истинно твое, ни у кого не украденное, ни у кого не заемное, и ведь ничего, совершенно ничего не надо из того, что прежде считал необходимым, все это глупость, блажь и суета, то есть все это – ложь, а правда – вот она, весь этот удивительный и ночной, и дневной мир, который твой, только твой и ничей больше.
Да, думал Егор, я могу назвать этот мир своим, я отрекся от всего, чему поклонялся, и поклонился всему, что отвергал. Так или не так? И
значит, это мой мир в действительности…
С этими мыслями Егор и задремал, и если б кто мог посмотреть на него сверху, с какой-нибудь звезды, то увидел бы, как он тихо, едва приметно улыбался во сне и иногда слегка вздрагивал от умиротворения и услады осмысленной праведной жизни.
А когда он очнулся, костерок почти прогорел, а босые крупные ноги его изрядно озябли. Встряхнувшись ото сна, Егор быстро собрал снасти и вещи в рюкзак, подхватил удилище и вот так, босой, быстро пошел по знакомой и легко угадываемой в кромешной темноте тропинке домой, в избушку.
Спать завалился легкий, удовлетворенный прожитым днем; и спал всегда крепко, хоть и недолго – с утренней ранней зорькой подымался и шел обычно на Чусовую, проверять вёрши и жерлицы. Вот и завтра, как всегда, отправится прежде всего на речку (какой завтра – сегодня уже) – погода обещает хороший улов.
А утром, у реки, Егор глазам своим не поверил: в черемуховых кустах, у самой воды, прятался красный «Москвич»!
Бесшумно, как осторожный зверь, Егор юркнул с тропы в густоту окружающих зарослей, присел на корточки и, невольно сдерживая дыхание, начал пристально наблюдать за «Москвичом». В машине, однако, не было заметно никаких признаков жизни.
С реки, с крутой ее излучины, дымно клубился туман; и «Москвич», густо-влажно облитый утренней росой, казался нереальным в белесом тумане, казался красным матово-расплывшимся пятном.
Какое-то время Егор прятался в зарослях черемушника, но вот мягко, как кошка, начал ввинчиваться в прогалы кустов, тихо-незаметно приближаясь к «Москвичу». Подкравшись совсем близко, привстал на цыпочки и заглянул в заднее окно: там, в машине, полулежа, спали в обнимку мужчина и женщина.
«Вас тут только не хватало…»
Так же мягко, как прежде, Егор вильнул в кусты и вскоре выбрался на тропу, по которой только что вышел к излучине Чусовой. «К жерлицам, может, сходить? Жерлицы проверить?!» Но махнул рукой – утренняя зорька была испорчена.
А днем, когда Егор услышал, как к избушке приближаются незнакомые люди, переговариваясь друг с другом вольно и громко, он сразу понял: они, те двое… больше некому тут шляться. И все в нем разом напряглось, насторожилось; он терпеть не мог, когда кто-нибудь нарушал размеренный, установленный ритм его жизни. Уж если Паше Вострикову, участковому, не делалось скидки, то чужим и подавно не было снисхождения. И когда они сначала топтались на крыльце, а потом вошли в сени, а потом открыли входную дверь, Егор уже с ног до головы кипел яростью и негодованием. И лишь страшным усилием воли сдерживал себя, ничего не отвечал и не говорил на все их «Здравствуйте», «Простите, мы тут землянику собирали», «Можно ли у вас воды напиться?..» Но когда мужик почти закричал:
– Эй, товарищ, вы что, не слышите нас? – тут-то Егор и не выдержал, взорвался:
– Не ори! Не глухой!
Сразу присмирели пташки, заговорили по-другому.
– Простите, не дадите ли напиться? – тиховежливо попросила женщина мягким и нежным голосом. Но не знала она, что Егор терпеть не мог мягких и ласковых голосов всех этих добрых и хороших людей, как сами они почему-то думают о себе, – и потому услышала в ответ: «Пошли вон!»
– Вон пошли! – зарычал вдруг хозяин и, повернувшись к ним от окна, в которое до этого смотрел сосредоточенно-угрюмо, набычившись красной от напряжения шеей, с яростью повторил: – Вон!
– Но простите, но мы… – залепетали было они, но Егор поднялся с табуретки и медленно пошел на них:
– Нс реки чтоб убирались! Ясно?! А не то я вас… – Глаза его горели бешенством – черные, угольные глаза. Узкое, продолговатое лицо с мощно выпирающим подбородком налилось сероватой бледностью, губы побелели. И странным для них, и страшным контрастом к лицу показалась широкая ярко-синяя лента, которая опоясывала его голову с длинными, как бы завитыми на концах, черно-смоляными волосами.
Егор пошел на них, сжав кулаки, и они невольно попятились. Он с яростью приближался к ним, а они, как под гипнозом, пятились, так и вышли – задом – на крыльцо, и по крыльцу спускались задом, потому что он продолжал идти на них, словно вот сейчас, на месте, хотел придушить обоих; женщина сбила ногой ведро с земляникой, и оно покатилось по крыльцу, рассыпая за собой красно-кровавую дорожку, – пятясь, они топтали ягоды, которые истекали под тяжестью их ног спелой и налитой сочностью.
А кружка эмалированная, которая тоже была с ними, так и осталась стоять на крыльце; без ягод, без воды.
И только ухмыльнулся им вслед Егор, но долго не мог успокоиться…
А они так и не уехали с реки. Эта неожиданная встреча с невменяемым – по-другому не скажешь – хозяином лесной избушки заворожила их, привела в оторопь. Кто он? Почему с такой яростью и бешенством набросился на них? Нет, тут что-то не так, наверняка он принял их за кого-то другого, за каких-то своих врагов. Но почему? За каких врагов?!
– Нет, он идиот. Он просто ненормальный, – бормотал Георгий.
– Чтобы так разговаривать с женщиной? – чуть не плача повторяла Катя. – Нет, такого со мной еще не бывало…
– Да пропади он пропадом! Мало ли идиотов на свете? Надо просто ехать – и все…
– Но как же, Гоша, – повторяла она, теперь и не скрывая слез, – как мы будем после этого жить?
Ты сам много раз говорил: главное – выяснить в человеческих отношениях все до конца, тогда не остается ни фальши, ни вражды, ни ненависти…
– Но я имел в виду совсем другое. Имел в виду отношения между собой нормальных людей, а здесь… Да просто чокнутый попался, шизик, грубиян, человеконенавистник.
– Человеконенавистник? Откуда ты знаешь? И за что ему так ненавидеть людей? Нет, Гоша, тут что-то не так, понимаешь, я чувствую, здесь что-то не так… И не можем мы так просто уехать, Гоша, это будет предательство, предательство самих себя и своих принципов, – как в заклинании повторяла Катя. – Что мы ему сделали? За что он нас? Как мы сможем жить дальше, зная, что нам ни за что ни про что плюнули в самую душу? Мы должны выяснить, разобраться… Ведь мы всегда с тобой старались быть честными, объективными, справедливыми – и вдруг… За что, за что, Гоша?
– Что ты предлагаешь, маленькая? – пытался успокоить Катю Георгий.
– Может, нам вернуться к нему? Попробовать поговорить? Объясниться?
– Это нереально!
– Но если мы сейчас уедем, нам плохо будет, Гоша. Мы словно убежим от какой-то правды, от какой-то ужасной тайны – без понимания, без попытки вникнуть в нее, принять или отринуть. Нас оскорбили? Унизили? И вот – мы бежим? Как же так, Гоша?!
И они остались.
К вечеру Егор решил-таки проверить плетушки и жерлицы…
Но каково было его изумление, когда, выйдя с тропы на лужайку, выйдя смело, уверенно, как и подобает хозяину здешних мест, он увидел в кустах все тот же проклятый красный «Москвич», а рядом – мужчину и женщину, которых… которые… Кровь хлынула Егору в голову, и он пошел на них, почти рыча:
– Да вы что, мерзавцы! Я же вам сказал. Я же предупреждал вас… – Он подходил к ним медленно, с широко растопыренными руками (словно и руки были в изумлении), а они, как загипнотизированные, сидели на траве и невольно прижимались друг к другу. – Я же предупредил тебя, козел, – Егор схватил Георгия за куртку, у самого горла, и, как пушинку, приподнял над землей, – чтобы и духу вашего здесь не было… А ты…
– Но позвольте, – начал было Георгий, отдирая клешни Егора от скрученной в жгут куртки, – кто вы такой, чтобы…
– Что?! – взревел Егор. – Я здесь живу, я хозяин… А вот вы, козлы, что тут делаете? Какого хрена ездите? Что надо на этой земле, а?! – Он изо всех сил тряс Георгия за грудки. – И так обосрали все вокруг, жить нечем, так еще ездят на своих машинах, лезут в любые щели, как тараканы, только чтоб испортить, изгадить, испоганить… Кто вас звал сюда? Кто позволил лезть в чужую жизнь? Кто просил приезжать на это место?
– Но у нас, кажется, нет монополии на землю… – бормотал в испуге и растерянности Георгий. – Каждый может приехать, куда хочет, не запрещается…
– Что? Что ты сказал?! – еще сильней, исступленней стал трясти его Егор. – Да я здесь каждую травиночку вынянчил, каждую пядь земли потом полил, каждую извилинку Чусовой берегу и лелею, а вы, мерзавцы, приезжаете на машинах, делаете что хотите, а потом уезжаете?! Да ты свой, свой кусок земли найди, прикипи к нему, потом полей, обиходь его – а тогда красивые слова говори, падла! Да я тебя…
И тут завизжала, закричала в неистовстве Катя:
– Оставьте его в покое! Что вы схватили его? По какому праву? Вы слышите: оставьте его в покое!
Может, не закричи она этих слов, ничего бы дальнейшего и не случилось, но от крика ее Егор совсем обезумел и так встряхнул Георгия, отшвырнув его в сторону, что… То есть он отшвырнул Георгия и повернулся к Кате, чтобы и ее поучить малость, дать пару раз по морде, чтоб навсегда забыла дорогу сюда, стервочка… Но… Тут-то и случилось то, чего никто, конечно, не ожидал: Георгий, отшвырнутый страшной силой к сосне, ударился головой о ствол, верней – не головой ударился, а врезался правым виском в грубый острый короткий сучок и, прохрипев что-то странное, нечленораздельное, вытаращив в безумии от происходящего с ним глаза, рухнул под сосну, обливаясь кровью.