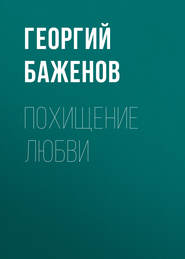По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Яблоко раздора. Уральские хроники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тень нежной, нагой девочки видел Григорий.
«Сказать? Но как? Нет, нет… нельзя…»
Ему было стыдно – и хорошо. Все случилось непроизвольно, и ничего, кроме нежности к женщине, не испытывал Григорий. Сердце его громко, будто на всю избу, билось в груди. Маша, от счастья, воды и солнца, радостно разговаривала с Григорием, и он что-то отвечал, но совершенно не понимал, что. Он впитывал в себя каждое движение, каждый легкий взмах Машиных рук. Видел мягко очерченный профиль тела, от каждой линии исходило очарование. «Зачем, зачем, зачем!..»
А Маша, вымывшись, уже сушила волосы полотенцем и все спрашивала, потому что Григорий молчал:
– А вы, Григорий Иванович, пироги с поджаристой корочкой любите? Я страсть как люблю!.. – И тихо смеялась.
Он смотрел, как тело ее плавно покачивалось, когда встряхивала она головой и волосы рассыпались по спине. Они спадали низко-низко, пушистые и, наверно, мягкие… Забывшись, он протянул руку, и так и остался стоять, с протянутой вперед рукою…
Выйдя вдруг из-за ширмы, успев сказать: «Ну, помылась, кажется, слава Богу!..», Маша увидала Григория Ивановича с протянутой, как у слепого, рукой… Она вскрикнула, оглянулась – и все поняла. На ширме четко и впечатляюще выписалась тень табуретки и таза, а в окно такое знойное полыхало солнце.
– Маша… – только и сказал Григорий.
Всхлипнув, Маша бросилась из избы.
До позднего вечера просидела Маша на берегу Северушки. Ничего вокруг не замечала, а все думала, думала…
Она представляла, как Григорий Иванович смотрел на нее, когда она мылась, вспоминала его лицо, протянутую к ней руку – и испытывала палящий стыд. Снова слезы выступали на глаза ее. В бессилии и отчаянии она потихоньку выплакалась, после слез было уже легче. Она спросила себя: нужно ли рассказывать о случившемся? Если не рассказать, получится, что она боится чего-то, чувствует себя виноватой, что какая-то общая тайна – и это уже страшно! – есть у нее и у Григория Ивановича. Нет, нет, она должна рассказать, должна! Но кому? Ване? Нет, ему нельзя, Ване нельзя… что тогда будет! А кроме Вани совсем некому… совсем, совсем некому: он единственный родной и дорогой человек… Значит, нужно промолчать, никому ничего не рассказывать. Но как можно! Ведь случилось такое, такое!.. Как-то надо наказать Григория Ивановича, что-то нужно сделать, чтобы он понял… так нельзя, нехорошо, очень, очень так плохо поступать… подсматривать, как моется женщина! Вновь Маша представляла весь ужас случившегося, она как бы глазами Григория Ивановича рассматривала себя, – и сердце было готово выскочить из груди от отчаяния и унижения. Всю ее, каждую часть тела, каждую линию, – даже родинки, наверное?! – каждое движение, все, все видел Григорий Иванович. Он теперь знает ее всю, никуда от него не скроешься. Теперь, как ни взглянет, может сказать: «Э-э… красавица, знаем мы тебя… Ишь нарядилась в платье! Знаем, знаем…» Маша краснела, бледнела, заплаканными глазами глядела на воду – и приходило ей в голову, что лучше всего умереть. Но она боялась умирать совсем, ей хотелось умереть лишь ненадолго, она любила жить.
Проходило время, чистое небо затянулось облаками, и яркое солнце уже не блистало, а, словно расплавившись, студенистое, отражалось в бегущей воде. По берегам, бурая от ягод, сплошными зарослями тянулась черемуха, и только кое-где прорывали заросли широкие, с высокой травой по краям, тропы. Вдали, вправо, ждущие хозяйской руки стоят луга; за лугами лес. В этом лесу, когда косят в лугах траву, хорошо прятаться днем от нестерпимо жаркого солнца…
Так сидишь час, два, три… и вдруг все увидится простым, легким, не имеющим особого значения… Удивлялась теперь и Маша, отчего так серьезно восприняла все. Ведь ничего, абсолютно ничего не случилось. Просто даже смешно и стыдно, что она вела себя, как девчонка, расплакалась, сбежала… По-другому представляла она и Григория Ивановича. Вспомнила его растерянным, с потешной гримасой на лице, длинным и cropбившимся, с протянутой вперед рукой, и улыбнулась, сначала робко, но тут же осмелела и даже легонько прыснула. Потом радостно и легко рассмеялась. Ей теперь весело было представлять Григория Ивановича. Кроме того – какая-то новая, жгучая мысль неожиданно поразила ее. Маша смеялась над Григорием Ивановичем, потому что, правда, смешон и несуразен он был, но ведь… Но ведь это из-за нее он был такой! Может, она особенная какая-то, красивая?.. Почему же такая мысль ни разу не приходила ей в голову… ведь если не так, разве таким увидала бы она Григория Ивановича? Радость, что она может с такой силой волновать, поражать кого-то, такая радость стала ей доступна впервые. И теперь, ранее ругавшая и презиравшая себя, она все это забыла… как будто ничего и не было… не презирала, не ругала и Григория Ивановича, а начала вспоминать, как впервые увидела его, длинного, нескладного, как он напугал ее, как она смущалась, как за шутками и легким словом ощущала всегда пристальный и внимательный его взгляд… Когда он рассказывал, как воевал и ходил в разведку, ей страшно было и интересно, она боялась, что ведь его могли убить, а он так со смехом и улыбкой обо всем говорил. Иногда на особенно напряженном месте он вдруг смотрел Маше в глаза – и тогда ей было приятно, что именно ей, в такой момент, посмотрел он в глаза, как-то выделил ее. И радовалась она, что он, такой большой, взрослый, воевавший на фронтах бесстрашный мужчина, вспоминает о ней и как будто – зачем? в чем? – подбадривает ее. Сейчас она нашла в этом нечто другое – и вновь сделалось неспокойно и сладко в груди… Потом, когда он вернулся с рыбалки, она заметила, каким счастливым, чуть-чуть утихшим, но все таким же веселым был он. На рыбалке, видно, отдохнул всей душой, много передумал, перечувствовал, и она, понявшая это, не увидела, – а теперь только видит! – что и к ней он отнесся как-то по-другому… Потом этот случай с ширмой… это ужасно, ужасно произошло, но все же… Она уже не корила себя. Она вспомнила, сколько раз на берегу Северушки видала голых мальчишек – и ничего! Такие же, обыкновенные, не кусаются, даже смешно. Бегают по берегу, брызгаются, ныряют, – им хорошо, светит им солнце. А ей, когда она смотрит на них, и в голову не приходит стыдиться, все это естественно…
Когда уже солнце пропало, когда потянуло с воды прохладой, когда синь вокруг начала густеть и Маша плохо видела то, на что бессознательно, но напряженно смотрела, тогда она и очнулась. Очнулась… и ахнула! Уже так поздно, сколько она, дурочка, просидела здесь, а ее, может, ищут, волнуются из-за нее, переполох какой-нибудь устроили. Да мало ли что… Быстро поднялась – и бегом, через кусты, прямой дорогой домой…
Но никто, когда пришла домой, не ждал ее там, никого и не было. Погрустив отчего-то, она неожиданно почувствовала, как устала за день. Не думая, не вспоминая больше ничего, она постелила себе на ночь, медленно, сонно разделась и легла в постель. Простыни были свежие, прохладные – и, жаркая, грустная, счастливая, Маша через минуту заснула крепким сном.
Григорий проснулся и не сразу понял, где он. Рядом завывал ветер, скрипела где-то незапертая калитка, – а здесь было тепло, тихо и нестерпимо пахло сеном. Сено… Григорий вспомнил, что он на сеновале, куда пришел с вечера: уйти от всех, от всего…
Он поднялся с сена, отряхнулся и, открыв ставню сеновала, посмотрел кругом… Такая же, как вчера, была ночь, с луной и звездами, только не деревья, не костер, не речка рядом, а дома, дома, дома… Нигде, ни в одном из них, не мигнет огонька, спят уже давным-давно все. Григорий задрал голову, с сеновала это было не очень удобно, и, глядя на звезды, на Млечный путь, спросил: «Ну – что?..» Никто ничего ему не ответил, только собственный вопрос и был ему ответом. Он не стал думать, что было сегодня, а вспомнил вчерашнюю ночь, когда он, сидя около речки, глубоко вдыхая ночные запахи, ощущал счастье и одновременно грусть. Сегодня было иное, иная ночь, но и счастье, и грусть остались те же, а человек, с которым вчера он хотел бы – с полной радостью – посидеть, поговорить и сказать ему все, этот человек спал нынче рядом, в доме… Но дома ли она? Он не почувствовал в своем вопросе беспокойства, тревоги, а лишь запрятанную, подспудную боязнь – что нет, может, и не дома. Только вряд ли, вряд ли не дома… Он думал об этом совсем недолго – и решил, что к Ивану пойти она никак не могла, потому что…
Да что ему за дело? Пусть даже и дома, спокойно спит – ему-то что?.. По лестнице он спустился с сеновала вниз, но куда идти?.. Он подошел к двери дома и дернул ее – она не открылась. «Закрыла? Впрочем, почему нет?..» Он очень обиделся. «Ладно, дверь – это черт с ним: дверь – это ничего, только ведь она, значит, боится меня… А чего меня бояться?
Что плохого могу я сделать?..» Он подошел к воротам и, упираясь ногой в чурбак, правой ступил на забор.
По воротам Григорий забрался на крышу, а с крыши на чердак. С чердака в кладовку вела лестница… Этим путем он не однажды в детстве и убегал из дому и возвращался домой, даже был порот отцом не раз: «Еще упадешь, мерзавец! Хорони потом тебя!» – но все равно не слушался и продолжал, когда нужно было, делать по-своему… В кладовке приятно пахло знакомым старым миром – пропыленными дряхлыми шубами, кожей, мукой, инструментом, керосином, пухом, перьями, да мало ли еще чем!.. Григорий задержался в кладовке, постоял, но глаза так и не привыкли к темноте. Он вышел… «Как давно все было: детство, игры, школа… А если и было, то словно не со мной…»
В два окна в избе светила луна, лунный туман освещал вещи. Казалось, теперь, ночью, в их неподвижности есть не то загадка, не то тайна, и даже больше – будто каждая вещь жила своей жизнью и могла теперь, как живая, вскрикнуть. Ночь изменяла мир до неузнаваемости, наделяла его чем-то таким, чего в нем на самом деле не было. Григорий вздохнул…
В углу на кровати спокойно спала Маша. Григорий издалека смотрел на нее, верней – туда, где она спала, и ощущал, что там неприкосновенное и чужое бьется сердце. Но видел он плохо. Тихо и осторожно подошел он к постели – и замер. Ничего лучше не видел он во всю жизнь, в то же время – ничего проще. Спокойное детское лицо дышало под лунным светом равномерно и глубоко, бесцветные, казалось, волосы обрамляя лицо, были свободны и раскиданы по подушке, левую ладошку, как маленькая, Маша уложила под щеку – и спала, как ребенок, так сладко, что серебрилась в темноте ниточка слюны…
Григорий стоял над Машей и долго, пристально рассматривал ее лицо. Когда она, причмокивая, шевелила губами или же удивленно – почему? – поднимала бровь, он вздрагивал, пугался. Разглядывая Машу, он понимал, что во многих его чувствах опять повинна ночь, и все-таки что-то особенное, неповторимое было в лице Маши, в бретельке ночной рубашки, слегка приоткрывавшей плечо…
«Надо уходить… Здесь нельзя…» – думал он, стоя рядом, но ни одна мышца не отвечала действием. Словно то, что он думал, это одно, а то, что делал и сделает, это другое. Но когда он думал, что пора идти, то действительно думал так, не лицемеря…
«Подойти сейчас, погладить ее… и уйти…»
Но он не подходил, а наоборот, пятился к окну, вовсе и не собираясь уходить. У окна, глядя в ночь, на луну, на силуэты в саду, он долго стоял недвижим и слушал, как стучит в груди сердце.
«Пойду я… совсем… тяжело…»
Но вместо этого он вновь стоял рядом с Машей, она во сне что-то шептала… «Кто я? Что мне нужно?..» – думал он. Он чувствовал, что уже не на лицо смотрит, но упорно на плечо. Оно открыто теперь больше – нежное, наверно, мягкое… Вспоминая, какую видел сегодня Машу, он представил теперь всю ее, спящую под одеялом…
Глубокая страсть проснулась в нем, он не чувствовал стыда, только необъяснимый страх. Она спала совсем близко, беззащитная… Словно и Маша что-то почувствовала, долго не было слышно ни вздоха, ни шепота ее сквозь сон. Проснулась ли она? Нет, нет, нет…
Иван спешил домой. В лесу для Маши он нарвал букетик земляники и по дороге, взглядывая на него, беспричинно радовался…
С этим букетиком, прежде чем заходить в дом, он, баловства ради, взобрался на завалинку и заглянул через стекло в комнату, где спала Маша. Тени сада падали на окно, и поначалу ничего в комнате не видел Иван, но, всмотревшись, он увидел вдруг то, отчего тихо-тихо, будто смерть пришла, стало в его душе. Он вгляделся пристальней, с болью чувствуя лбом стекло, и снова увидел то же: Маша спала не одна… Иван никак не мог разглядеть, кто был рядом. Что-то ему показалось знакомым, похожим на что-то и на кого-то… и когда он вдруг начал сознавать, кто же это был, то ноги сделались у него ватные, мягкие – и поползли с завалинки. Он упал на землю, рядом стояло ведро, оно зазвенело, забрякало и покатилось по саду…
Но Иван тут же очнулся, поднялся и стремительно пошел в дом.
Когда он влетел в комнату, где спала Маша, то остановился как вкопанный: она была одна. Спала она лицом к стене, отвернувшись от него, как всегда крепко.
Он подошел к ней, положил на грудь ладонь. Вся она, Маша, была напряжена, неестественна и слишком крепко спала.
Ему было восемнадцать почти лет…
Глава пятая
Свадьбу играли на ноябрьские…
Полетел, именно в этот день, в этот вечер, первый долгожданный снег. Парни с девчонками выскакивали из избы, подставляли снежинкам лица – снежинки таяли, по лицам растекалась влага. Веселые, молодые, были все счастливы: смеялись и кричали песни. По всей Красной Горке, до проходящих мимо поездов, разлеталось беззаботное веселье.
Жених и невеста занимали законные места, а вокруг рассаживались родня, друзья, подруги, знакомые.
Народ, встревоженный, завидущий, легкий на подъем, бесконечно кричал: «Горька! Горька-а!.. Го-орька-а!..», а молодежь, на потеху, кричала свое: «Сладка! Сладка-а!.. Сла-а-адка-а!..» Поначалу на них сердились, шикали, а потом пошли просить реже, тогда и молодежь подхватывала, и общий властный гром требовал подсластить горькущее вино.
Потом просили тостов, говорил один, второй, просили произнести какой-нибудь особенный, и кто-то произносил особенный.
Отец Славы, Григорий Иванович Никитушкин, уважаемый всеми человек, начальник паровозного депо, прослезившись, сказал:
– Гости дорогие! Пожелаем же еще раз молодым счастья, любви, согласия! Спасибо Надежде Тимофеевне за прекрасную дочь! Выпьем за нее, за ее дочь! Выпьем, чтоб Слава отслужил побыстрей и возвращался к молодой жене!..
Седые волосы Григория Ивановича рассыпались на две стороны.
– Выпьем за полное их счастье!
– Мы-то выпьем!.. – закричали вокруг. – Но и ты, Иваныч, и ты давай с нами!
– Шут с вами! – Григорий Иванович поднял рюмку и, хотя врачами запрещено пить совершенно, выпил за молодое счастье.
– Во! Молодец, Иваныч!.. Не слушай никого: много пьешь – долго живешь! – подбадривали со всех сторон, а он всего с нескольких выпитых рюмок был уже хмелен, счастлив.
Он мог быть сегодня счастлив. Один, вот уже двенадцать лет, растил сына и вырастил человеком не хуже других. Обидно, что нет с ним сегодня Лены, жены; и девочка не выжила, и жена умерла от родов… А все не верится, что умерла; кажется, вот-вот откроется дверь, она войдет и спросит: «Что, не ждали? Ах, вы, милые мои! Здравствуйте же!..» Но ничего этого, конечно, не будет. Никогда. Григорий Иванович задумался, взгрустнул, но тут же опомнился – нашел время мрачнеть!
А больное сердце стучало свою жизнь, сопротивлялось волнению, пыталось работать ровным точным механизмом. Но не получалось. Оно прыгало по сторонам, заваливалось, останавливалось, пропадало вовсе, а то вдруг концентрировало в себе всю боль, какая накопилась в организме, – и тогда существовало одно оно, само по себе, это худое сердце. Что же, он болен. Ничего не поделаешь…