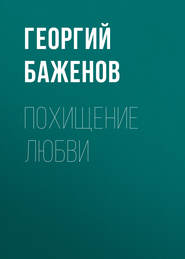По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Яблоко раздора. Уральские хроники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она остается одна. Ей становится вдруг легко-легко, почему-то чувствует она огромную благодарность к Славе. Отчего? Не знает. Теперь ничего не страшно, все правильно, все хорошо… Медленно она подходит к окну, открывает форточку. Холодный воздух толкнул ее в лицо – и она задышала свободно, счастливо. «Я, правда, счастливая?» – спросила. И ответила: «Правда». Сняла с головы фату, бросила на стул: «Пускай, теперь все равно. Я счастливая…» Постояв так, вдруг почувствовала, что вот-вот сойдет с ума. Теперь она уже не знала, что делать дальше – стоять ли, сесть, спать ли ложиться, ждать? Она не двигалась. Так не двигалась минуту, две, три… – и вскоре продрогла и пришла в себя. Времени, видно, прошло уже так много, что луна спустилась с соседних высоких крыш и остановилась перед окном. Желтый полумрак наполнил комнату таинственными предметами, из которых главной была широкая, мягкая – Лия потрогала рукой – кровать.
«Спать…»
Раздевалась она ежась, быстро, чтобы вдруг Слава не зашел и не увидел ее. Вдруг задумалась, в чем остаться? В чем, она не знала, ей стало стыдно… Стыдно, что не знает и что думает так.
Она юркнула под одеяло, и сделалось тоскливо-тоскливо… Или она была ледышкой, или простыни настолько холодны – только тотчас, как у гуся, покрылась ее кожа пупырышками… «Форточку закрыла я? Да, я закрыла форточку». Вдруг ее начало трясти, но не от холода: от жара… Она чувствовала, что внутри все пылает, жжет, вскоре покрылась потом – и тотчас снова, как сосулька, стала холодна. «Боже мой, что это?.. И где Слава?..»
Когда времени прошло еще больше, чем в первый раз, и луна уже стояла полным кругом в окне, Лия начала беспокоиться всерьез: где Слава? Она теперь понимала, что он ей нужен, и оттого, что он нужен, не было совестно, как прежде, когда думала об этом. Ей, теперь уже его жене, было страшно одной в пустой комнате. Он должен быть рядом. Где он?..
Очень долго лежала Лия недвижимо. И когда вот-вот, казалось, начнет она думать о Славе что-то плохое – вдруг, наоборот, начинала думать с особенной нежностью… И правда, какая же она дурочка! Он стесняется ее, он просто-напросто боится ее, как и она его… Добрый и милый, он оставил ее одну, чтобы не ранить, не обидеть… А теперь, зная, что она уже в постели, ждет его, он, видимо, не решается открыть дверь и войти… О, чуткий, чуткий человек, мой Славик! Какая же я дурочка была, как плохо порой о нем думала!.. Она вспоминала, но теперь как будто совсем не о Славе, как не однажды, в каком-то исступлении, он пытался чего-то добиться от нее – она не давалась и не далась бы ни за что на свете. Почему?
Потому что, кроме вспыхнувшей злобы, ничего не чувствовала к нему. Теперь другое…
– Слава!.. – тихо, ласково позвала она и прислушалась к тишине: – Славик!..
И, словно в ответ, какой-то далекий – во дворе, кажется, – послышался шум. Какие-то крики, кто-то что-то требовал, кто-то не соглашался, голоса были как будто знакомые и в то же время чужие…
– Слава!.. – снова позвала она, надеясь, что он рядом.
Но Славы не было, и вскоре прежняя тишина, потому что и во дворе все смолкло, установилась вокруг. Лии по-настоящему сделалось страшно и дико. Теперь она уже не верила ни разуму, ни чувству – один страх, что что-то плохое все-таки случается с ней, и был ее состоянием. Чего и за что она боится? В эту ночь, самую счастливую, она не должна бояться того, чего боится, – одиночества… Даже если Слава стесняется, все равно должен быть рядом, потому что иное просто оскорбительно.
И все-таки, думая так, она думала как будто понарошку: лишь для того только, чтобы он вдруг вошел – и все бы, все сомнения и чушь, разлетелось прочь. Она как бы играла сама с собой, не веря пока себе, не воспринимая всерьез свои же укоры…
Сколько прошло времени? Ей думалось, что вечность…
…Она вздрогнула, когда дверь вдруг распахнулась, и в проеме, почувствовала она, остановился Слава. И по тому, как стоял он, по-хозяйски долго ничего не предпринимая, как дышал, как глядел на нее (и это она чувствовала), она поняла, что он пьян.
– Лия…
Он хотел что-то сказать, но язык не слушался его, и так он ничего и не сказал.
Он подошел к постели и хотел погладить Лиину голову – но промахнулся и что-то промычал.
Потом он присел на стул, посидел немного, хотел покурить, но ни папирос, ни спичек достать из кармана не смог. Тогда он опустился на колени, правой рукой пошарил по полу – половик был на месте. Он лег на половик, сначала на правый бок, так показалось неудобно, лег на спину, руки разбросав по сторонам. Через минуту он уже спал…
И поезд, который увозил Славу Никитушкина в армию через день после свадьбы, увозил его тоже хмельного. От хмеля
Славе не было ни грустно, ни тяжело, он ехал куда-то в неизвестное, неиспытанное – это ему нравилось. Добрыми, любящими всех глазами он глядел на родных и друзей, которые, оставаясь на станции, превращались все более и более в едва различимых людей. Но одного человека, уже далеко от станции, Слава долго еще видел и махал на прощание рукой – жену Лию. Он был рад, что все произошло так, как должно было произойти. Он не тронул ее. «Никуда, – думал он, – теперь не денешься, милая. Ждать придется… Даже и захочешь изменить – не сможешь… не-ет… Я хитрый…»
Вскоре никого уже не различить было вдали, и, махнув в последний раз рукой, Слава Никитушкин пошел в вагон.
Глава шестая
Умирала под Челябинском, в пятьдесят пятом году, мать Григория и Ивана тяжело. Брызнет весеннее тепло в окно – а Манефа Александровна к теплу безучастна.
Внук Сережа подойдет, подергает одеяло – а она скажет: «Сережа, ты уйди…» Раньше всегда гладила его и улыбалась.
В то время, когда она умирала, ни дочери Ольги, ни зятя, ни внучат Сережи с Ниной, – никого рядом не оказалось, кроме подруги, старухи Макаровны. Эта маленькая, опрятная Макаровна всю жизнь боялась смертей, махала на человека руками, когда тот собирался помирать. Замахала и теперь. Но Манефа Александровна была серьезна, строга, и шутки, что, мол, брось, девонька, не горячись помирать, не раз еще в лесок пойдем, грибков пособираем, не проходили. Манефа Александровна говорила скороговоркой, задыхаясь, и старуха Макаровна поняла, что уходить из мира ей тяжело.
– Злодейка я, – говорила тихо Манефа Александровна. – Господи, злодейка… Зачем, Господи, заставил родить врагов? На што надо было? Господи, Господи…
Макаровна не понимала смысла слов. Винила себя Манефа Александровна, но в чем? Слова были общие, на самом интересном обрывались. «Нешто можно так помирать? – охала про себя Макаровна. – Век живу, все чинно, благородно отходят…»
– Ты не бредишь ли, милая? Манефонька?..
Ничего не слышалось в ответ. Только одно: злодейка… зачем… простите…
Последние слова ее были:
– На тебя надеюсь, Ольга… Оленька… на тебя… надею…
Макаровна тихо заплакала.
Все три дня, до самого погребения, старуха Макаровна пересказывала, в основном для Ольги, что говорилось на прощанье матерью. Рассказывая, она пытливо заглядывала в глаза, чтобы подсмотреть в них правду. Она делала это так добросовестно, что Ольга на третий день не выдержала и сказала мужу:
– Сил моих больше нет! Хоть бы ты, Николай, приструнил ее…
Николай Степанович был тихим, скромным, впечатлительным человеком, тем страшней показался Макаровне его надтреснутый голос:
– Послушайте! Если вы не прекратите эти штучки, я… я… – Он не сумел договорить.
Похоронили Манефу Александровну на тихом кладбище, под сосной, где она и хотела лежать. Погода стояла теплая, солнце вовсю наступало на зиму, снег чернел, таял, а кое-где, как вот здесь, под сосной, коричневая уже виднелась земля. Быть скоро настоящему теплу, соки пойдут питать жизнь…
Поминали покойницу скромно, как и просила она; из знакомых были Макаровна, соседи Евсейка Ким и его жена Нина, которых любила умершая за доброту и согласие в семье, дед Семен, без него не обходились вообще ни одни похороны, такой он был человек, да еще двое-трое, а там все родные, дочь Ольга, сыновья Иван и Григорий, зять Николай Степанович, ребятишки Сережа и Нина – дети Ольги и Николая.
Ольга плакала… Поплакав, она наливала всем и просила выпить, не обижать маму, Манефу Александровну… Все пили и молчали. Иногда кто-нибудь, например дед Семен, говорил:
– Да, хороший Александровна была человек… справедливый… Пухом ей будь земля!
Все соглашались.
Печально, тихо, с участием к покойнице поминали люди Манефу Александровну.
И только двух братьев, казалось, если и не обходило горе стороной, то было для них как будто ненужным, некстати свалившимся на их головы. Словно они обижались на мать, что вот взяла и умерла, не спросив их, хотят ли они встречаться на ее похоронах, хотят ли вместе провожать мать в последний путь…
С болью следила Ольга за братьями. Что ждать от них? Как пожмут друг другу руки? – этого не сделали; как скажут хоть что-то друг другу? – нет, не сказали, сумели как-то за все три дня не сказать ни слова, ни полслова.
А мать надеялась на нее, на Ольгу. Нет, конечно, не на Ольгу она надеялась, она надеялась на свою смерть. Думала, что хоть смерть матери потрясет сыновей, сблизит, сметет между ними все.
Она надеялась с тех пор, как почувствовала, что между сыновьями что-то неладно. Когда же узналась правда, то обе они, мать и дочь, пришли в ужас. Как, думали они, как могли братья, родные братья, из-за какой-то!.. – здесь они слов не находили – порвать друг с другом навсегда?! Раз жена изменяет, такую жену не то что гнать в три шеи нужно, а убить мало!.. И что же?! А ничего: как был Ванька слюнтяем, так им и остался. Вместо того, чтобы с жены спросить, чтобы в ней увидеть корень зла, он брата обвинил, с братом порвал. Да что он, не понимает, что брат на свете у него один – был, есть и всегда будет, – а женщин-жен может быть множество, выбирай любую! Что бы ни случилось – брат есть брат, а жена может стать и бывшей женой…
Так думали они и так говорили ему, но он молчал.
В 49-м умер отец, Иван Федорович Никитушкин. Это была первая серьезная надежда Манефы Александровны помирить братьев, но надежда эта провалилась. Да еще с треском. После похорон Иван ночью поднял на ноги весь дом, наставил на брата ружье. Закричала Маша, но Иван все же выстрелил. Осечка…
Это были не похороны, а что-то дикое. Растравили Ивана донельзя. Мать и Ольга в один голос говорили страшные слова: «Помирись, Иван. Смерти отца побойся! Не оскорбляй его! Помирись! Иначе отец не простит! Совесть тебя замучит! Помирись, бессовестный ты человек!..»
И где, где это они говорили?! В доме, где до сих пор живет он с Машей, которую простил, с которой, после единственного раза, никогда об этом не говорил и не заговорит вновь – бессмысленно, бессмысленно теперь!