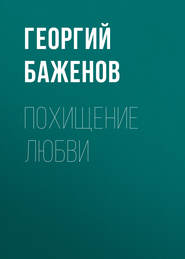По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Другу смотри в глаза (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я продвигался вперед уже не перебежками, а ползком, по-пластунски. Слышу начало далекого впереди «ура-а!..» Наши или «противник»? Поднимаю голову, прислушиваюсь… Ничего не понять. Впечатление такое, что «ура» несется и из окопов, и со стороны «противника». Где-то в глубокой дали раздается рев танков, лязганье гусениц. Значит, танки! В ту секунду, как я понял это, я вдруг лечу в невероятную, неведомую пропасть. Резкая боль в левой ноге ослепляет сознание…
Сразу я очнулся или через какое-то время, я не понимаю. Когда прихожу в себя, замечаю, что стрельба утихает, не слышно уже криков «ура», не слышно рева танков.
Пытаюсь встать, но боль в ноге приковывает к земле. Не знаю даже, что со мной: сломал ли я ногу или это просто вывих. Держась руками за кусты, пытаюсь встать на правую ногу и таким именно образом – три точки опоры – лезть наверх. Ничего не получается – подъем слишком крутой. Только теперь я понимаю, где оказался: это не яма, не овраг, а специальный ров, через который «прыгают» танки.
Вокруг уже совершенная тишина: ни выстрелов, ни голосов, только в голове сильно шумит – от пульсирующей боли в ноге. Снова и снова пытаюсь выбраться наверх – бесполезно.
Вдруг как будто слышу голос Сидорина:
– Костоусов!.. Рядовой Костоусов!.. – Прислушиваюсь. – Где вы? Костоусов! Костоу…
– Я здесь. Здесь! – кричу со дна рва.
На секунду тишина, потом трещат кусты, кто-то скатывается ко мне вниз.
– Рядовой Костоусов! – начинает Сидорин грозно. – Вы, кажется…
– Нога, – говорю я.
– Нога? Что еще у вас с ногой? – Он берется за левую ногу. Я невольно вскрикнул.
– Так… – говорит он как бы в раздумье. – Вывих? Перелом? Ну-ка… – Он снова берется за ногу, и я вновь невольно застонал.
– Так, – повторяет он. – Ну-ка, обнимай меня за шею. Да покрепче. Так… крепче, крепче, не бойся… Правая шагает у тебя?
– Шагает…
– Ну-ка, давай помаленьку, вот так… за кусты придерживайся, молодец. Крепче, крепче обнимай, так… Еще шаг… Стоп. Стоп! Куда ты покатился?
Оба тяжело дышим.
– Так, отдохнули… Давай дальше, еще немного… молоток! Давай, давай… А ты ничего, терпеливый… больно ноге?
– Есть немного…
Мы наконец выбираемся из рва и некоторое время молча отдыхаем. Потом я снова обнимаю сержанта за шею (чувствую, как он вспотел), и мы на «трех ногах» шагаем дальше – уж как можем.
– Ты на меня не обижайся… – Каждое слово сержант выговаривает с придыханием. – Я, брат, хочу из вас людей сделать. Ты же будущий офицер… а какой ты офицер, если трудностей не испытал? Так, нет?
– Так, конечно.
– Нет, правда, не обижайся! Я тебе приказываю – не обижайся! Слышишь?
– Слышу. – Мы оба устало-понимающе усмехаемся.
– А ну-ка передохнем… Садись, садись, так… А с Верой мы вместе школу кончали, ты на меня не обижайся… Она теперь в институте учится, а я в армии. Так-то…
– Да я что!
– Вот… А девчонка она хорошая… Ну-ка, встали… Потопали, потопали, так… Ты, значит, того… этого… Вы о чем с ней говорили тогда у реки?
Тут мы слышим: к нам кто-то приближается.
– Товарищ сержант, это вы? – настороженным шепотом спрашивает Папа Карло.
– A-а, рядовой Аникин! Живо сюда! Вопросы – позже! Ну-ка, подхватывай Костоусова! Та-ак, молодец…
Одной рукой я обнимаю сержанта, другой – Папу Карло.
3
…В тот день у меня было странно-уверенное предчувствие, что я увижу ее. Полосы солнечного света пронизывали кроны сосен – каждая иголочка, каждая травинка, попавшая в струи света, выделялась по-особенному отчетливо и резко. В молодом ельничке, в бороздах, оставшихся еще со времен лесонасаждений, я находил много рыжиков. А из-под елок, сочно-зеленые лапы которых касались земли, выглядывали в желтых шляпках маслята…
Никогда еще я не пользовался такой свободой, как в тот месяц. После выписки из санчасти меня освободили от всех дежурств, не говоря уже о строевых занятиях, полевых учениях и прочем. Почти целыми днями я мог бродить по лесу, уходить к реке, удить рыбу. Но если я сидел на берегу реки с удочкой, то сидел не ради рыбалки… Я все ждал, когда на том берегу появится она. И по лесу гулял не потому, что особенно хотелось, а потому, что нельзя же все время сидеть на берегу! Нога моя зажила еще не совсем, и при ходьбе я опирался на палку…
Когда я вышел к берегу реки, ноги сами повели к тому месту, где я обычно прятался в черемуховых кустах. Я знал, что буду сидеть и ждать, когда она появится на том берегу…
…Как сейчас вижу, она вошла ко мне в палату. У меня сидел Папа Карло, он вытаращил глаза, захлопал ресницами – я ему немного рассказывал о Вере. Потом его как ветром сдуло. А она… Она вдруг рассмеялась – точно так же, как смеялась в первый раз. Подошла к моей койке, села рядом и, время от времени спрашивая: «Что, солдатик, не ожидал, да?..», смеялась звонким, веселым своим смехом.
– Я узнала, что ты герой… что ты храбрый маленький солдатик. Что ты умеешь терпеть, переносишь любую боль, бедный мой маленький солдатик… И вот я пришла навестить тебя, не прогонишь меня?
– Меня вообще-то Володей зовут, – хмуро буркнул я, едва сдерживая улыбку.
– Да знаю я, как тебя зовут. Вова Костоусов! Но лучше я буду звать тебя – «мой маленький солдатик»! Ты мой добрый гений, ты даже сам не знаешь, каким добрым гением оказался для меня… Вот хочешь, поцелую тебя за это?!
И, не дождавшись ответа, она наклоняется надо мной, обдает мое лицо горячим дыханием и целует в левую щеку. Никто еще, кроме мамы, не целовал меня, и поэтому со мной происходит что-то невероятное – я закрываю глаза… Я закрываю их невольно, от какого-то странного чувства, которое сильней меня, сильней моей воли…
Она ушла так же стремительно, как и появилась. Я смотрю на соседнюю пустую койку, на которой она оставила два красных яблока, и чувствую, что мог бы сейчас расплакаться.
…Я пробираюсь через кустарник к своему заветному месту. Почему-то я уверен, что сегодня обязательно увижу ее. Подхожу к своему месту – и действительно слышу ее голос! Значит, предчувствие не обмануло меня… Сердце бьется очень громко. Я прислушиваюсь к ее голосу… странно, какие-то немыслимые, невероятные слова… как же так? А она говорит, говорит:
– Ласковый мой, родной… Не знаю, ох, не знаю, милый, как буду жить без тебя, не знаю… – Какое-то время ее голос звучит приглушенно, переходит в слабый, беззащитный шепот.
– Вера, Верочка…
– Как ты мог подумать такое… Мало ли что я учусь, а ты служишь… Господи, как я измучилась, думала, ну почему, почему он не приходит больше, разлюбил, наверное, меня? Каждый вечер бегала к речке, купалась – все ради тебя, для тебя. Думала, увидишь, поймешь… – И снова приглушенный шепот, а в ответ только одно:
– Вера, Верочка…
– Ласковый мой, мой единственный… – Она смеется, но не насмешливым своим, а доверчивым, опьяненным смехом. – Буду ждать тебя, ждать… только тебя…
Впервые я невольно слышу, как говорят, когда любят. Не в том дело, какие это были слова. Главное – как они говорились, как она произносила их. Я стоял растерянный, оглушенный, какое-то недетское горе, недетская боль вдруг вошли в мое сердце. Впервые я испытал ту боль, которую узнаю в будущем еще не раз и которая, быть может, знакома и вам: ты – любишь, а тебя – нет.
Что мне было делать? Я оказался третьим…
Чему я вас учил, мальчики?
В четырнадцать лет я стал чемпионом суворовского училища по гимнастике…
Сразу я очнулся или через какое-то время, я не понимаю. Когда прихожу в себя, замечаю, что стрельба утихает, не слышно уже криков «ура», не слышно рева танков.
Пытаюсь встать, но боль в ноге приковывает к земле. Не знаю даже, что со мной: сломал ли я ногу или это просто вывих. Держась руками за кусты, пытаюсь встать на правую ногу и таким именно образом – три точки опоры – лезть наверх. Ничего не получается – подъем слишком крутой. Только теперь я понимаю, где оказался: это не яма, не овраг, а специальный ров, через который «прыгают» танки.
Вокруг уже совершенная тишина: ни выстрелов, ни голосов, только в голове сильно шумит – от пульсирующей боли в ноге. Снова и снова пытаюсь выбраться наверх – бесполезно.
Вдруг как будто слышу голос Сидорина:
– Костоусов!.. Рядовой Костоусов!.. – Прислушиваюсь. – Где вы? Костоусов! Костоу…
– Я здесь. Здесь! – кричу со дна рва.
На секунду тишина, потом трещат кусты, кто-то скатывается ко мне вниз.
– Рядовой Костоусов! – начинает Сидорин грозно. – Вы, кажется…
– Нога, – говорю я.
– Нога? Что еще у вас с ногой? – Он берется за левую ногу. Я невольно вскрикнул.
– Так… – говорит он как бы в раздумье. – Вывих? Перелом? Ну-ка… – Он снова берется за ногу, и я вновь невольно застонал.
– Так, – повторяет он. – Ну-ка, обнимай меня за шею. Да покрепче. Так… крепче, крепче, не бойся… Правая шагает у тебя?
– Шагает…
– Ну-ка, давай помаленьку, вот так… за кусты придерживайся, молодец. Крепче, крепче обнимай, так… Еще шаг… Стоп. Стоп! Куда ты покатился?
Оба тяжело дышим.
– Так, отдохнули… Давай дальше, еще немного… молоток! Давай, давай… А ты ничего, терпеливый… больно ноге?
– Есть немного…
Мы наконец выбираемся из рва и некоторое время молча отдыхаем. Потом я снова обнимаю сержанта за шею (чувствую, как он вспотел), и мы на «трех ногах» шагаем дальше – уж как можем.
– Ты на меня не обижайся… – Каждое слово сержант выговаривает с придыханием. – Я, брат, хочу из вас людей сделать. Ты же будущий офицер… а какой ты офицер, если трудностей не испытал? Так, нет?
– Так, конечно.
– Нет, правда, не обижайся! Я тебе приказываю – не обижайся! Слышишь?
– Слышу. – Мы оба устало-понимающе усмехаемся.
– А ну-ка передохнем… Садись, садись, так… А с Верой мы вместе школу кончали, ты на меня не обижайся… Она теперь в институте учится, а я в армии. Так-то…
– Да я что!
– Вот… А девчонка она хорошая… Ну-ка, встали… Потопали, потопали, так… Ты, значит, того… этого… Вы о чем с ней говорили тогда у реки?
Тут мы слышим: к нам кто-то приближается.
– Товарищ сержант, это вы? – настороженным шепотом спрашивает Папа Карло.
– A-а, рядовой Аникин! Живо сюда! Вопросы – позже! Ну-ка, подхватывай Костоусова! Та-ак, молодец…
Одной рукой я обнимаю сержанта, другой – Папу Карло.
3
…В тот день у меня было странно-уверенное предчувствие, что я увижу ее. Полосы солнечного света пронизывали кроны сосен – каждая иголочка, каждая травинка, попавшая в струи света, выделялась по-особенному отчетливо и резко. В молодом ельничке, в бороздах, оставшихся еще со времен лесонасаждений, я находил много рыжиков. А из-под елок, сочно-зеленые лапы которых касались земли, выглядывали в желтых шляпках маслята…
Никогда еще я не пользовался такой свободой, как в тот месяц. После выписки из санчасти меня освободили от всех дежурств, не говоря уже о строевых занятиях, полевых учениях и прочем. Почти целыми днями я мог бродить по лесу, уходить к реке, удить рыбу. Но если я сидел на берегу реки с удочкой, то сидел не ради рыбалки… Я все ждал, когда на том берегу появится она. И по лесу гулял не потому, что особенно хотелось, а потому, что нельзя же все время сидеть на берегу! Нога моя зажила еще не совсем, и при ходьбе я опирался на палку…
Когда я вышел к берегу реки, ноги сами повели к тому месту, где я обычно прятался в черемуховых кустах. Я знал, что буду сидеть и ждать, когда она появится на том берегу…
…Как сейчас вижу, она вошла ко мне в палату. У меня сидел Папа Карло, он вытаращил глаза, захлопал ресницами – я ему немного рассказывал о Вере. Потом его как ветром сдуло. А она… Она вдруг рассмеялась – точно так же, как смеялась в первый раз. Подошла к моей койке, села рядом и, время от времени спрашивая: «Что, солдатик, не ожидал, да?..», смеялась звонким, веселым своим смехом.
– Я узнала, что ты герой… что ты храбрый маленький солдатик. Что ты умеешь терпеть, переносишь любую боль, бедный мой маленький солдатик… И вот я пришла навестить тебя, не прогонишь меня?
– Меня вообще-то Володей зовут, – хмуро буркнул я, едва сдерживая улыбку.
– Да знаю я, как тебя зовут. Вова Костоусов! Но лучше я буду звать тебя – «мой маленький солдатик»! Ты мой добрый гений, ты даже сам не знаешь, каким добрым гением оказался для меня… Вот хочешь, поцелую тебя за это?!
И, не дождавшись ответа, она наклоняется надо мной, обдает мое лицо горячим дыханием и целует в левую щеку. Никто еще, кроме мамы, не целовал меня, и поэтому со мной происходит что-то невероятное – я закрываю глаза… Я закрываю их невольно, от какого-то странного чувства, которое сильней меня, сильней моей воли…
Она ушла так же стремительно, как и появилась. Я смотрю на соседнюю пустую койку, на которой она оставила два красных яблока, и чувствую, что мог бы сейчас расплакаться.
…Я пробираюсь через кустарник к своему заветному месту. Почему-то я уверен, что сегодня обязательно увижу ее. Подхожу к своему месту – и действительно слышу ее голос! Значит, предчувствие не обмануло меня… Сердце бьется очень громко. Я прислушиваюсь к ее голосу… странно, какие-то немыслимые, невероятные слова… как же так? А она говорит, говорит:
– Ласковый мой, родной… Не знаю, ох, не знаю, милый, как буду жить без тебя, не знаю… – Какое-то время ее голос звучит приглушенно, переходит в слабый, беззащитный шепот.
– Вера, Верочка…
– Как ты мог подумать такое… Мало ли что я учусь, а ты служишь… Господи, как я измучилась, думала, ну почему, почему он не приходит больше, разлюбил, наверное, меня? Каждый вечер бегала к речке, купалась – все ради тебя, для тебя. Думала, увидишь, поймешь… – И снова приглушенный шепот, а в ответ только одно:
– Вера, Верочка…
– Ласковый мой, мой единственный… – Она смеется, но не насмешливым своим, а доверчивым, опьяненным смехом. – Буду ждать тебя, ждать… только тебя…
Впервые я невольно слышу, как говорят, когда любят. Не в том дело, какие это были слова. Главное – как они говорились, как она произносила их. Я стоял растерянный, оглушенный, какое-то недетское горе, недетская боль вдруг вошли в мое сердце. Впервые я испытал ту боль, которую узнаю в будущем еще не раз и которая, быть может, знакома и вам: ты – любишь, а тебя – нет.
Что мне было делать? Я оказался третьим…
Чему я вас учил, мальчики?
В четырнадцать лет я стал чемпионом суворовского училища по гимнастике…