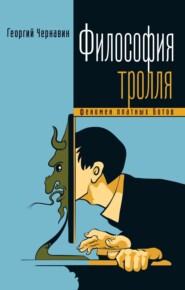По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если прибегнуть к схоластическому различению искры совести (synderesis) и способности судить по совести (conscientia), то можно сказать, что в фантастическом мире рассказа «толстой-4» порче подвергаются обе эти инстанции. Содержание искры совести просто и тавтологично: «следует искать и совершать благо, а зла следует избегать» (Thomas Aquinas [37592] I?-IIae q. 94 a. 2 co.)[6 - «…bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum». Пассаж приводится в переводе Константина Бандуровского, который можно найти в прекрасной статье «Conscientia и synderesis в философии Фомы Аквинского» (Бандуровский 2014, 76).], из чего следует предписание оберегать жизнь (Бандуровский 2014, 77); способность суждения по совести позволяет применить этот принцип в каждом конкретном случае. Персонажи толстого-4 не только выносят суждения как бы по совести
вместо суждений по совести, но еще в них вместо искры совести теплится искра как бы совести
. Принцип «стремись к благу, избегай зла» продолжает подразумеваться, но подвергается коррозии или был в этом мире изначально морально коррумпирован, в любом случае, его заслоняет бельмо «естественных» зверств.
Такая система координат заставляет нас пересмотреть первые абзацы рассказа, в которых повествователь выносит моральные суждения об одном из своих героев (старом князе Арзамасове). Толстой-4 говорит из позиции всезнающего наблюдателя, способного отследить в душе князя самообман и как бы проснувшуюся совесть
вместо совести. После того как мы услышали тревожный звонок само собой разумеющегося как для рассказчика, так и для персонажей расчеловечивания, мы начинаем отдавать себе отчет: даже если повествование ведется из уверенной позиции «вполне проснувшейся совести», мы, к сожалению, знаем, что в основе этой «совести» теплится искра как бы совести
.
* * *
Князь Борис Арзамасов вводится в повествование так: «„Разве могу я быть виноватым?“ – как бы говорили его быстрые черные глаза и всегда румяное круглое лицо» (Сорокин [1999] 2017, 135)[7 - Такое знакомство с персонажем заставляет вспомнить первые характеристики Пьера Безухова как «толстого молодого человека […] c умным и вместе робким, наблюдательным и естественным взглядом» (Толстой [1868] 1937, 11).]. Он тем самым – очевидный кандидат на этическую трансформацию (или, что не то же самое, на этическую трансформацию
). Пробуждение в душе молодого князя странной как бы подлинной совести
, свойственной этому миру, будет спровоцировано двумя сценами: немым укором затравленного зверя и бессмысленной поркой крестьянской девушки[8 - Это, вероятно, контаминация двух сцен из рассказа «После бала»: наказания татарина шпицрутенами и улыбки Вареньки Б., дочери полковника (Толстой [1903] 1952, 123, 125).].
Различие этических координат, которые задают Л. Н. Толстой и толстой-4, ярче всего видно, если сопоставить то, как решена одна и та же сцена: встреча человеческого и звериного взгляда (обе встречи происходят в модальности «как бы», в форме говорящего взгляда затравленного зверя). Это напрямую связано с тем, что в мире толстого-4 порче подвержено не только суждение по совести
, но и искра совести
.
Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и, слегка поворотив к охотнику голову, остановился – назад или вперед? «Э! все равно, вперед!..» – видно, как будто сказал он сам себе и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком. (Толстой [1869] 1938, 253)
«Погодите немного, вот я сейчас встану, распрямлюсь, обрету прежнюю силу дикого и свободного зверя и брошусь на вас, лживых, развращенных, изнеженных, живущих в своем странном, непонятном мире и убивающих нас, свободных и сильных, ради собственной забавы», – словно говорил вид этого лежащего на снегу медведя. (Сорокин [1999] 2017, 147)
Последний процитированный фрагмент выглядит как результат «морфинга» (плавного перетекания одной формы в другую) двух классических толстовских сцен: встречи взглядов Николая Ростова и матерого волка, и монолога пегого мерина Холстомера.
Кстати, расчеловечивающее наименование «толстой-4» – то есть объект «толстой», опытный экземпляр № 4 – заставляет вспомнить, как представлялся толстовский мерин: «Я сын Любезного 1-го и Бабы. Имя мое по родословной Мужик 1-й» (Толстой [1863, 1885] 1936a, 13, 33, 663). Здесь нумерация – это тоже результат «морфинга», в этом случае между именами венценосных особ и кличками домашних животных. Холстомер, сам того не осознавая, пародирует монаршую генеалогию (характеристики вроде «сын императора Павла I-ого и Марии Федоровны»), толстой-4, производя из себя текст, сам того не осознавая, пародирует Л. Н. Толстого (за них это осознают Толстой и Сорокин соответственно). След «Истории лошади» в концепции «коросты, подменяющей совесть» толстого-4 еще и в том, что «короста» была поводом зарезать пегого мерина (Толстой [1863, 1885] 1936a, 35, 483, 665).
Среди многих толстовских вариантов остранения мерин реализовывал его вполне определенный подвид: критику человеческих нравов от лица животного, морализаторское остранение – оно-то и проецируется на затравленного медведя. Это едва заметное смещение ролей (матерый волк Л. Н. Толстого не упрекает загонщиков, а «решает», как уйти от погони) заостряет внимание читателя на том, что для всех персонажей естественно расчеловечивание крепостных (в буквальном смысле слова «расчеловечивание»). То есть молодой князь Борис Арзамасов вполне может увидеть во взгляде издыхающего медведя критику «странного, непонятного мира лживых, развращенных, изнеженных людей», но в принципе не может увидеть противоестественность положения «давил»: людей, низведенных до уровня собак. Князь Михаил Саввич Арзамасов добродушно
говорит, что «давилы» – не пушечное мясо. Это высказывание может быть считано как гуманистическое высказывание нашего мира (и мира персонажей Л. Н. Толстого), но это высказывание-перевертыш из другого универсума: старый князь имеет в виду, что они, конечно, не пушечное мясо, а ценные тренированные псы. Подразумевается не их человеческое достоинство, а их густопсовость.
Читатель начинает понимать, что в мире текста толстого-4 чувство вины вынесено вовне: примерно так же, как закадровый смех звучит, чтобы избавить нас от необходимости смеяться, крепостная крестьянка принимает розги, чтобы Борис пережил этический катарсис
. Крестьянку секут, она принимает «свою» вину, у странным образом вовлеченного в экзекуцию молодого князя трескается рубец недавней дуэльной раны и, как может предположить читатель, сходит короста подобия совести
. Здесь становится понятно, что «подлинная совесть» толстого-4 для нас выглядит как извращенное подобие совести. Для Николая Ростова и Бориса Арзамасова разное «естественно»: для первого, например, то, что «старый граф всегда держал огромную охоту», а для второго то, что спроецированная на крестьянку вина – это «старый добрый обычай дома Арзамасовых».
В самом начале рассказа вводится различие между «подлинно проснувшейся совестью» и как бы проснувшейся совестью
, последняя выдает себя за совесть, но на деле является «коростой общественно узаконенной лжи». Человек с действительно проснувшейся совестью «стряхнул с себя зло равнодушия к жизни других людей в виде крепко и сильно приставшей к телу коросты», то есть стряхнул с себя неподлинную форму совести. Толстой-4 тавтологично морализирует: короста общественно узаконенной лжи «стягивает совесть каждого современного человека, живущего в современном обществе, основанном на узаконенном угнетении одних людей, слабых и бедных, другими людьми, сильными и богатыми». Для него угнетение крестьян помещиками это проблема, а дегуманизация «давил» – не проблема, издыхающий медведь – носитель «как бы» речи, а человеко-пес – нет. Он пишет об этической слепоте и перформативно сам ее демонстрирует; этическое слепое пятно, порча «искры совести» представляет собой конструктивный элемент мира этого рассказа[9 - Можно было бы считать, что расчеловечивание «давил» – гротескное преувеличение, но у этого сорокинского мотива были и внелитературные прототипы. По свидетельству Евгении Гинзбург, в 1940 году между директором совхоза «Эльген» Калдымовым (выпускником философского факультета) и зоотехником Орловым состоялся следующий диалог:«– А это помещение почему у вас пустует? – спрашивает Калдымов.– Здесь стояли быки, – отвечает Орлов, – но мы их вывели сейчас отсюда. Крыша течет, углы промерзли, да и балки прогнили, небезопасно оставлять скот. Будем капитально ремонтировать.– Не стоит на такую рухлядь гробить средства. Лучше пустите под барак для женщин…– Что вы, товарищ директор! Ведь даже быки не выдержали, хворать здесь стали.– Так то – быки! Быками, конечно, рисковать не будем» (Гинзбург 2021, 451).Даже «падёж» (степень дегуманизации, предполагающая, что подвергшийся расчеловечиванию не может даже умереть, а может только околеть) – центральная метафора одноименной повести Сорокина – как образ как будто заимствован из «Крутого маршрута». Это наводит на мысль о том, что «искра совести» подверглась порче не только в мире рассказа «толстой-4», но и в нашем так называемом реальном мире.]. Порча связана со статусом человеко-псов, поэтому различие этических координат в произведениях Л. Н. Толстого и толстого-4 можно обозначить как различие между «подлинной совестью» и густопсовой совестью
.
* * *
Многие медиевисты (Blic 1949, 157; Sorabji 2014, 59; Zamore 2016, 40) считают понятие «искра совести», synderesis результатом ошибки переписчика, «продуктивной ошибкой» (Бандуровский 2014, 70); вместо сближения с «энергией заблуждения» Шкловского я бы предложил посмотреть на него как на аналог подпоручика Киже. Последний, существуя только символически, «выполнил все, что можно было в жизни, и [был] наполнен всем этим: молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных» (Тынянов [1930] 1956, 297). «Искра совести» возникает как описка, освященная авторитетом св. Иеронима, но начинает жить собственной жизнью: она становится частью души, инкорпорируется в ее строй, ее начинают «находить в себе». (Возникнув в символическом регистре, начинает «жить» и в феноменологическом регистре тоже.) Подчеркну, что не подразумеваю здесь вульгарно-номиналистическую интерпретацию («всего лишь слово», «пустой звук»); напротив, речь идет о вторжении символического порождения в феноменологический опыт, где оно проживает настоящую жизнь, обрастает плотью, проживается как самое подлинное в нас.
Если исходить из того, что scintilla conscientiae, «искра совести», возникает в символическом регистре, то достаточно небольшого расхождения на этапе символического учреждения для ключевых отличий в феноменологическом опыте. Такова, на мой взгляд, ситуация с миром произведений Л. Н. Толстого и универсумом (к сожалению, единственного) рассказа толстого-4; в первом мире задаются базовые этические координаты: «мы неразрывно соединены духовной связью не только со всеми людьми, но и со всеми живыми существами» (Толстой [1908] 1957, 575), но во втором универсуме они дополняются небольшой припиской: «кроме „давил“». Стоит с прискорбием признать, что решение о том, кого считать «за людей», а кого не считать, принимается в режиме недобросовестной веры (mauvaise foi) (Sartre [1948] 1983, 580–582). Вторжение небольшого символического различия порождает параллельные литературные миры: мир «подлинной совести» и универсум подлинной совести
. Проблема в том, что мы не знаем базовых этических координат нашего собственного мира, работает ли в нем принцип «подлинной совести» или принцип как бы совести
.
К сожалению, это заставляет смотреть на толстовский «голос единого духовного существа», «зрячую духовную часть человека» с позиции неразличимости «подлинной совести» и густопсовой совести
. «Позу мудрости» (Секацкий, Орлов, Горичева 2000, 165), в равной степени принимают и Л. Н. Толстой («в каждом человеке живут два человека»), и толстой-4 («чем проснувшийся человек отличается от как бы проснувшегося?»), оба претендуют на роль «учителя жизни», по этому критерию их не различить.
* * *
Кто ближе подошел к описанию символического устройства нашего мира: Л. Н. Толстой или толстой-4? Как увидеть этическое слепое пятно нашего собственного мира, нашей «базовой реальности»? Ответить на эти вопросы поможет мысленный эксперимент с двумя мирами, в ходе которого попеременно просыпается то одна «подлинная совесть», то другая (А-совесть и Б-совесть). Эти два мира будет отличать небольшое символическое расхождение, задающее существенные различия в феноменологическом опыте.
А-совесть и Б-совесть
Вот, понимаете, какая у этих букв вышла в жизни ерунда!
(Галич [1968] 2006, 90)
Следующий мысленный эксперимент будет модификацией эксперимента, который в рукописи B I 13 предложил Эдмунд Гуссерль. Приведу соответствующий фрагмент рукописи от октября 1923 года, озаглавленный «Два мира для одного Я», целиком, чтобы затем перепрофилировать его под этическую проблематику:
Мир дан мне в согласованном опыте. Затем следует разрыв. Назовем его: «я проваливаюсь в сон». Теперь здесь другой мир, и он вновь дан в согласованном опыте. Затем новый разрыв, назовем его «пробуждение». Я опять в первом мире. А именно: я вновь вспоминаю его, всю мою прошлую жизнь, то, как я ее на себе испытывал, и одновременно в восприятии я проживаю его как тот же самый, я вновь живу в нем. Примем, что всякий «сновидческий» опыт второго мира следует таким образом, что я во время этого опыта припоминаю первый мир и мою жизнь, которую я на себе испытывал, и мою жизнь как человека в нем. В эту игру можно попеременно играть за обе стороны.
Но здесь нужно продумать ближайшие возможности.
Я говорю об одном мире и другом мире. Как понимать эту инаковость? Естественно, оба мира – одного категориального типа. Мне сейчас данный мир я могу так перевообразить и преобразовать в другой, что он на деле станет возможным, в себе согласованным миром: я могу продолжить перевоображать его в последовательной согласованности. В таком перевоображении во всякий раз новой возможной системе согласованности я всякий раз вновь получаю миры. А то, что при этом остается как необходимый остаток, если я при вполне случайных переходах к другим возможностям буду в состоянии сохранить тождественную сущность, – это необходимо общее, сущность мира вообще. Пока хорошо. Так у меня в опыте есть мой мир, а он есть единство моей согласованности опыта. Мир доопределяется через до сих пор согласованные данные в опыте предметные определения с открытым горизонтом дальнейших, подразумеваемых определений (которые я мог бы узнать в новом опыте), в которых есть неопределенность, но все же и некоторая разумная уместность.
Теперь у меня «новый мир». Это может значить: совершенно новый, с совершенно новыми вещами, с совершенно новыми окружающими людьми и т. д. В первом мире у меня было мое живое тело как орган, как орган восприятия, как орган воли. В новом у меня должно быть новое живое тело. Поначалу кажется, что все вполне складывается и что два мира могли бы быть для меня равнозначными действительностями, без противоборства между собой: один есть, покуда дан мне в опыте и я знаю о нем, живя в нем, и другой ровно так же, покуда этот другой дан мне в опыте.
Я – это я, тот же самый субъект, и у меня есть мое единство жизни, и для меня это факт сознания. Таково единство моей жизни, покуда простираются мои воспоминания, покуда простирается горизонт моей памяти, который можно разворачивать, здесь его можно принять за соразмерный сознанию горизонт прошлого, принадлежащий моему настоящему, который я могу свободно раскрывать. Так у меня был бы в единстве моей жизни, раскрываемой через воспоминания, непрерывный опыт мира, периодически расщепленный, так что у меня сначала был бы непрерывный единый опыт одного мира, а в другом жизненном отрезке непрерывный единый опыт другого мира. Достаточно одного такого чередования. – Не должны ли эти два многообразия опыта с необходимостью вступить в противоборство друг с другом?
Для начала можно было бы сказать: в первом случае у меня есть нулевая точка ориентации как нулевое звено моего мира, это живое тело, в другом случае другое, опять же как нулевое звено. В непрерывности опыта у меня, несмотря на разрыв, есть сквозная единая структура мира, и ее пронизывает данная в созерцании структура ориентации и ориентированного пространства, равно как и объективного времени. А теперь здесь это живое тело до этого момента, до места разрыва, а затем здесь другое живое тело, и также вокруг нулевой точки сначала этот мир, а потом другой; до этого момента «там» значит что-то одно, а после что-то совсем другое. – Но почему это должно представлять сложности? Если я говорю о сохранении одного мира в нормальном случае нашего совместно согласованного опыта, в котором есть только один, а именно сквозным образом сохраняющийся мир, ничего не мешает тому, чтобы в той же системе ориентации, в которой представляется одно пространство, при сходных определенностях ориентации относительно нулевой точки представлялось бы пространство, отличное от первого. То, что находится там, может поменяться, продвинуться дальше, а это же место в пространстве может теперь занять другой объект, и это в соответствии с законами причинности, временами конкурирующими со свободным действием, покуда я толкаю, тяну и иным подобным образом вмешиваюсь как субъект. То же самое относится к структуре мира как необходимость и принадлежит ему как необходимость, поскольку он как один длящийся мир есть «в себе» единство возможного опыта и представляет собой такого рода определение опыта, которое позволяет мне и только-то и может позволить мне то, что я как познающий всякий раз и принципиальным образом могу убедиться: то, что в разные моменты времени было мне дано в опыте, теперь то же самое или не то же самое, изменилось или не изменилось, сдвинулось или не сдвинулось. Для меня в наличии тот же самый мир с теми же самыми вещами, с теми же в свое время совершившимися или совершающимися событиями, и он мыслим только как сущий, покуда я могу продемонстрировать тождество, тождественное истинное бытие, как такое тождественное сущее, которое я могу распознать в моем опыте.
«Куда делась вещь А, которая только что была дана мне в опыте?» – должен спросить себя я. Если она была, то она продолжает быть, неизменная или претерпевшая изменения, и ровно так же все вещи А-мира. А раз я обнаруживаю сейчас Б-вещи, то они должны были быть здесь и раньше; у данного в опыте сейчас есть горизонт прошлой потенциальной данности в опыте, без которой это нынешнее нельзя помыслить. Все, что для меня есть и было, относится к окрестностям моего возможного опыта, возможного действительного опыта или конструирования, соразмерного опыту; все, что в моем опыте может полагаться без разрыва согласованности, принадлежит одному единственному миру.
То есть, когда вклинивается новый «мир» Б, то, для начала, это не значит, что старый оставлен на самотек. Я не могу просто так от него отречься. Настоящее вещей, которое до сих пор было дано мне в действительном опыте, вступает в противоборство с настоящим вещей, которые мне вдруг теперь даны, не как новый мир, а как новые вещи, которые я сейчас вижу и которые я должен причислять к единству все того же мира, к единству, которое у меня до сих пор было.
Если сейчас протекание опыта продолжается и согласуется с новыми вещами, то оно может повлиять на меня только так, что я перечеркну как всего лишь иллюзии те вещи, которые мне были даны до сих пор; и это явно должно будет задним числом затронуть весь мой прошлый опыт. Насколько глубоко – это вопрос продолжающегося хода опыта. Если новые Б-вещи сохраняются в согласованности, то они имеют бесспорную значимость как существующие. Но теперь происходит новый разрыв, и старый мир обновляется, или скорее все испытываемое теперь в опыте согласуется с воспроизводимым прошлым опытом. Что теперь? Явно весь промежуточный эпизод находится в противоборстве с единством этой новой подтвержденной и подкрепленной системы опыта, и как целое получает клеймо «иллюзия» («сновидение»). Но что, если теперь ситуация опять переворачивается? Что если Б опять оживает, то есть получает законную силу через новый период Б1? А затем снова А, распространяясь на отрезок А1, и так далее? Тогда я не вправе буду сказать: это два мира. Скорее: если цикл часто и в определенные периоды времени повторялся, если могу высчитать по А-часам, когда произойдет Б-разрыв, а затем в Б-период по Б-часам, когда стоит ждать нового разрыва, и вообще теперь могу по индукции ожидать и распознать смену, то тогда я должен сказать: по правде нет одного мира, а есть у меня два миро-феномена, со свойственными им устойчивыми закономерностями, по которым я все же могу ориентироваться; если на очереди А, то я могу ориентироваться на феноменальные А-единства и их известные свойства, так же и для Б.
Но не пустые ли это все слова? Не могу ли я сказать с полным правом: «Это два сменяющихся мира в рамках одной пространственно-временной формы, вступающие в противоборство, попеременно отменяющие друг друга в одних и тех же непризнанных отрезках бытия, но каждый из них согласованно, если считать периодическую временную форму каждого из них за одно время»? У каждого такого мира было бы свое время, но оно заполняло бы не все бесконечное время, оно существовало бы только в относящиеся к нему периоды времени. Хотя у вещей в А есть их постоянный горизонт будущего, то есть даже в момент разрыва, тем не менее в следующий период времени существуют не они, а совсем другие вещи. И хотя у этих как у вещей есть горизонт прошлого, но в этом прошлом, определенном предшествовавшим периодом, как раз существовали не они, а вещи другого мира.
Тогда нужно обдумать: каковы условия возможности того, что A, A1, A2,… сойдутся вместе как относящиеся к одному миру многообразия опыта? Что для А-мира должно значить пустое промежуточное время? А-часы все же продолжают идти сквозь паузы. То есть и тогда тоже, когда я засыпаю и оказываюсь теперь в мире сновидения. Для каждой моей паузы на сон надо реконструировать «возможный опыт» и положение вещей, реконструировать происходившее с ними и между ними. Также было бы явно и здесь. Но этот «возможный опыт» вступил бы в противоборство с системой действительного и возможного опыта для Б и соответствующего Б-периода (часы которого явным образом должны быть согласованны с А-часами по своей числовой размерности).
Точнее, это было бы удивительное противоборство. Пусть у меня и были бы две системы опыта, которые совсем не вступали в противоборство. Если А есть в актуальном опыте, то для меня имеет значимость А, и тогда имело бы значимость все, что мне внушается через взаимосвязанный А-опыт. И ровно то же для Б.
вместо суждений по совести, но еще в них вместо искры совести теплится искра как бы совести
. Принцип «стремись к благу, избегай зла» продолжает подразумеваться, но подвергается коррозии или был в этом мире изначально морально коррумпирован, в любом случае, его заслоняет бельмо «естественных» зверств.
Такая система координат заставляет нас пересмотреть первые абзацы рассказа, в которых повествователь выносит моральные суждения об одном из своих героев (старом князе Арзамасове). Толстой-4 говорит из позиции всезнающего наблюдателя, способного отследить в душе князя самообман и как бы проснувшуюся совесть
вместо совести. После того как мы услышали тревожный звонок само собой разумеющегося как для рассказчика, так и для персонажей расчеловечивания, мы начинаем отдавать себе отчет: даже если повествование ведется из уверенной позиции «вполне проснувшейся совести», мы, к сожалению, знаем, что в основе этой «совести» теплится искра как бы совести
.
* * *
Князь Борис Арзамасов вводится в повествование так: «„Разве могу я быть виноватым?“ – как бы говорили его быстрые черные глаза и всегда румяное круглое лицо» (Сорокин [1999] 2017, 135)[7 - Такое знакомство с персонажем заставляет вспомнить первые характеристики Пьера Безухова как «толстого молодого человека […] c умным и вместе робким, наблюдательным и естественным взглядом» (Толстой [1868] 1937, 11).]. Он тем самым – очевидный кандидат на этическую трансформацию (или, что не то же самое, на этическую трансформацию
). Пробуждение в душе молодого князя странной как бы подлинной совести
, свойственной этому миру, будет спровоцировано двумя сценами: немым укором затравленного зверя и бессмысленной поркой крестьянской девушки[8 - Это, вероятно, контаминация двух сцен из рассказа «После бала»: наказания татарина шпицрутенами и улыбки Вареньки Б., дочери полковника (Толстой [1903] 1952, 123, 125).].
Различие этических координат, которые задают Л. Н. Толстой и толстой-4, ярче всего видно, если сопоставить то, как решена одна и та же сцена: встреча человеческого и звериного взгляда (обе встречи происходят в модальности «как бы», в форме говорящего взгляда затравленного зверя). Это напрямую связано с тем, что в мире толстого-4 порче подвержено не только суждение по совести
, но и искра совести
.
Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и, слегка поворотив к охотнику голову, остановился – назад или вперед? «Э! все равно, вперед!..» – видно, как будто сказал он сам себе и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком. (Толстой [1869] 1938, 253)
«Погодите немного, вот я сейчас встану, распрямлюсь, обрету прежнюю силу дикого и свободного зверя и брошусь на вас, лживых, развращенных, изнеженных, живущих в своем странном, непонятном мире и убивающих нас, свободных и сильных, ради собственной забавы», – словно говорил вид этого лежащего на снегу медведя. (Сорокин [1999] 2017, 147)
Последний процитированный фрагмент выглядит как результат «морфинга» (плавного перетекания одной формы в другую) двух классических толстовских сцен: встречи взглядов Николая Ростова и матерого волка, и монолога пегого мерина Холстомера.
Кстати, расчеловечивающее наименование «толстой-4» – то есть объект «толстой», опытный экземпляр № 4 – заставляет вспомнить, как представлялся толстовский мерин: «Я сын Любезного 1-го и Бабы. Имя мое по родословной Мужик 1-й» (Толстой [1863, 1885] 1936a, 13, 33, 663). Здесь нумерация – это тоже результат «морфинга», в этом случае между именами венценосных особ и кличками домашних животных. Холстомер, сам того не осознавая, пародирует монаршую генеалогию (характеристики вроде «сын императора Павла I-ого и Марии Федоровны»), толстой-4, производя из себя текст, сам того не осознавая, пародирует Л. Н. Толстого (за них это осознают Толстой и Сорокин соответственно). След «Истории лошади» в концепции «коросты, подменяющей совесть» толстого-4 еще и в том, что «короста» была поводом зарезать пегого мерина (Толстой [1863, 1885] 1936a, 35, 483, 665).
Среди многих толстовских вариантов остранения мерин реализовывал его вполне определенный подвид: критику человеческих нравов от лица животного, морализаторское остранение – оно-то и проецируется на затравленного медведя. Это едва заметное смещение ролей (матерый волк Л. Н. Толстого не упрекает загонщиков, а «решает», как уйти от погони) заостряет внимание читателя на том, что для всех персонажей естественно расчеловечивание крепостных (в буквальном смысле слова «расчеловечивание»). То есть молодой князь Борис Арзамасов вполне может увидеть во взгляде издыхающего медведя критику «странного, непонятного мира лживых, развращенных, изнеженных людей», но в принципе не может увидеть противоестественность положения «давил»: людей, низведенных до уровня собак. Князь Михаил Саввич Арзамасов добродушно
говорит, что «давилы» – не пушечное мясо. Это высказывание может быть считано как гуманистическое высказывание нашего мира (и мира персонажей Л. Н. Толстого), но это высказывание-перевертыш из другого универсума: старый князь имеет в виду, что они, конечно, не пушечное мясо, а ценные тренированные псы. Подразумевается не их человеческое достоинство, а их густопсовость.
Читатель начинает понимать, что в мире текста толстого-4 чувство вины вынесено вовне: примерно так же, как закадровый смех звучит, чтобы избавить нас от необходимости смеяться, крепостная крестьянка принимает розги, чтобы Борис пережил этический катарсис
. Крестьянку секут, она принимает «свою» вину, у странным образом вовлеченного в экзекуцию молодого князя трескается рубец недавней дуэльной раны и, как может предположить читатель, сходит короста подобия совести
. Здесь становится понятно, что «подлинная совесть» толстого-4 для нас выглядит как извращенное подобие совести. Для Николая Ростова и Бориса Арзамасова разное «естественно»: для первого, например, то, что «старый граф всегда держал огромную охоту», а для второго то, что спроецированная на крестьянку вина – это «старый добрый обычай дома Арзамасовых».
В самом начале рассказа вводится различие между «подлинно проснувшейся совестью» и как бы проснувшейся совестью
, последняя выдает себя за совесть, но на деле является «коростой общественно узаконенной лжи». Человек с действительно проснувшейся совестью «стряхнул с себя зло равнодушия к жизни других людей в виде крепко и сильно приставшей к телу коросты», то есть стряхнул с себя неподлинную форму совести. Толстой-4 тавтологично морализирует: короста общественно узаконенной лжи «стягивает совесть каждого современного человека, живущего в современном обществе, основанном на узаконенном угнетении одних людей, слабых и бедных, другими людьми, сильными и богатыми». Для него угнетение крестьян помещиками это проблема, а дегуманизация «давил» – не проблема, издыхающий медведь – носитель «как бы» речи, а человеко-пес – нет. Он пишет об этической слепоте и перформативно сам ее демонстрирует; этическое слепое пятно, порча «искры совести» представляет собой конструктивный элемент мира этого рассказа[9 - Можно было бы считать, что расчеловечивание «давил» – гротескное преувеличение, но у этого сорокинского мотива были и внелитературные прототипы. По свидетельству Евгении Гинзбург, в 1940 году между директором совхоза «Эльген» Калдымовым (выпускником философского факультета) и зоотехником Орловым состоялся следующий диалог:«– А это помещение почему у вас пустует? – спрашивает Калдымов.– Здесь стояли быки, – отвечает Орлов, – но мы их вывели сейчас отсюда. Крыша течет, углы промерзли, да и балки прогнили, небезопасно оставлять скот. Будем капитально ремонтировать.– Не стоит на такую рухлядь гробить средства. Лучше пустите под барак для женщин…– Что вы, товарищ директор! Ведь даже быки не выдержали, хворать здесь стали.– Так то – быки! Быками, конечно, рисковать не будем» (Гинзбург 2021, 451).Даже «падёж» (степень дегуманизации, предполагающая, что подвергшийся расчеловечиванию не может даже умереть, а может только околеть) – центральная метафора одноименной повести Сорокина – как образ как будто заимствован из «Крутого маршрута». Это наводит на мысль о том, что «искра совести» подверглась порче не только в мире рассказа «толстой-4», но и в нашем так называемом реальном мире.]. Порча связана со статусом человеко-псов, поэтому различие этических координат в произведениях Л. Н. Толстого и толстого-4 можно обозначить как различие между «подлинной совестью» и густопсовой совестью
.
* * *
Многие медиевисты (Blic 1949, 157; Sorabji 2014, 59; Zamore 2016, 40) считают понятие «искра совести», synderesis результатом ошибки переписчика, «продуктивной ошибкой» (Бандуровский 2014, 70); вместо сближения с «энергией заблуждения» Шкловского я бы предложил посмотреть на него как на аналог подпоручика Киже. Последний, существуя только символически, «выполнил все, что можно было в жизни, и [был] наполнен всем этим: молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных» (Тынянов [1930] 1956, 297). «Искра совести» возникает как описка, освященная авторитетом св. Иеронима, но начинает жить собственной жизнью: она становится частью души, инкорпорируется в ее строй, ее начинают «находить в себе». (Возникнув в символическом регистре, начинает «жить» и в феноменологическом регистре тоже.) Подчеркну, что не подразумеваю здесь вульгарно-номиналистическую интерпретацию («всего лишь слово», «пустой звук»); напротив, речь идет о вторжении символического порождения в феноменологический опыт, где оно проживает настоящую жизнь, обрастает плотью, проживается как самое подлинное в нас.
Если исходить из того, что scintilla conscientiae, «искра совести», возникает в символическом регистре, то достаточно небольшого расхождения на этапе символического учреждения для ключевых отличий в феноменологическом опыте. Такова, на мой взгляд, ситуация с миром произведений Л. Н. Толстого и универсумом (к сожалению, единственного) рассказа толстого-4; в первом мире задаются базовые этические координаты: «мы неразрывно соединены духовной связью не только со всеми людьми, но и со всеми живыми существами» (Толстой [1908] 1957, 575), но во втором универсуме они дополняются небольшой припиской: «кроме „давил“». Стоит с прискорбием признать, что решение о том, кого считать «за людей», а кого не считать, принимается в режиме недобросовестной веры (mauvaise foi) (Sartre [1948] 1983, 580–582). Вторжение небольшого символического различия порождает параллельные литературные миры: мир «подлинной совести» и универсум подлинной совести
. Проблема в том, что мы не знаем базовых этических координат нашего собственного мира, работает ли в нем принцип «подлинной совести» или принцип как бы совести
.
К сожалению, это заставляет смотреть на толстовский «голос единого духовного существа», «зрячую духовную часть человека» с позиции неразличимости «подлинной совести» и густопсовой совести
. «Позу мудрости» (Секацкий, Орлов, Горичева 2000, 165), в равной степени принимают и Л. Н. Толстой («в каждом человеке живут два человека»), и толстой-4 («чем проснувшийся человек отличается от как бы проснувшегося?»), оба претендуют на роль «учителя жизни», по этому критерию их не различить.
* * *
Кто ближе подошел к описанию символического устройства нашего мира: Л. Н. Толстой или толстой-4? Как увидеть этическое слепое пятно нашего собственного мира, нашей «базовой реальности»? Ответить на эти вопросы поможет мысленный эксперимент с двумя мирами, в ходе которого попеременно просыпается то одна «подлинная совесть», то другая (А-совесть и Б-совесть). Эти два мира будет отличать небольшое символическое расхождение, задающее существенные различия в феноменологическом опыте.
А-совесть и Б-совесть
Вот, понимаете, какая у этих букв вышла в жизни ерунда!
(Галич [1968] 2006, 90)
Следующий мысленный эксперимент будет модификацией эксперимента, который в рукописи B I 13 предложил Эдмунд Гуссерль. Приведу соответствующий фрагмент рукописи от октября 1923 года, озаглавленный «Два мира для одного Я», целиком, чтобы затем перепрофилировать его под этическую проблематику:
Мир дан мне в согласованном опыте. Затем следует разрыв. Назовем его: «я проваливаюсь в сон». Теперь здесь другой мир, и он вновь дан в согласованном опыте. Затем новый разрыв, назовем его «пробуждение». Я опять в первом мире. А именно: я вновь вспоминаю его, всю мою прошлую жизнь, то, как я ее на себе испытывал, и одновременно в восприятии я проживаю его как тот же самый, я вновь живу в нем. Примем, что всякий «сновидческий» опыт второго мира следует таким образом, что я во время этого опыта припоминаю первый мир и мою жизнь, которую я на себе испытывал, и мою жизнь как человека в нем. В эту игру можно попеременно играть за обе стороны.
Но здесь нужно продумать ближайшие возможности.
Я говорю об одном мире и другом мире. Как понимать эту инаковость? Естественно, оба мира – одного категориального типа. Мне сейчас данный мир я могу так перевообразить и преобразовать в другой, что он на деле станет возможным, в себе согласованным миром: я могу продолжить перевоображать его в последовательной согласованности. В таком перевоображении во всякий раз новой возможной системе согласованности я всякий раз вновь получаю миры. А то, что при этом остается как необходимый остаток, если я при вполне случайных переходах к другим возможностям буду в состоянии сохранить тождественную сущность, – это необходимо общее, сущность мира вообще. Пока хорошо. Так у меня в опыте есть мой мир, а он есть единство моей согласованности опыта. Мир доопределяется через до сих пор согласованные данные в опыте предметные определения с открытым горизонтом дальнейших, подразумеваемых определений (которые я мог бы узнать в новом опыте), в которых есть неопределенность, но все же и некоторая разумная уместность.
Теперь у меня «новый мир». Это может значить: совершенно новый, с совершенно новыми вещами, с совершенно новыми окружающими людьми и т. д. В первом мире у меня было мое живое тело как орган, как орган восприятия, как орган воли. В новом у меня должно быть новое живое тело. Поначалу кажется, что все вполне складывается и что два мира могли бы быть для меня равнозначными действительностями, без противоборства между собой: один есть, покуда дан мне в опыте и я знаю о нем, живя в нем, и другой ровно так же, покуда этот другой дан мне в опыте.
Я – это я, тот же самый субъект, и у меня есть мое единство жизни, и для меня это факт сознания. Таково единство моей жизни, покуда простираются мои воспоминания, покуда простирается горизонт моей памяти, который можно разворачивать, здесь его можно принять за соразмерный сознанию горизонт прошлого, принадлежащий моему настоящему, который я могу свободно раскрывать. Так у меня был бы в единстве моей жизни, раскрываемой через воспоминания, непрерывный опыт мира, периодически расщепленный, так что у меня сначала был бы непрерывный единый опыт одного мира, а в другом жизненном отрезке непрерывный единый опыт другого мира. Достаточно одного такого чередования. – Не должны ли эти два многообразия опыта с необходимостью вступить в противоборство друг с другом?
Для начала можно было бы сказать: в первом случае у меня есть нулевая точка ориентации как нулевое звено моего мира, это живое тело, в другом случае другое, опять же как нулевое звено. В непрерывности опыта у меня, несмотря на разрыв, есть сквозная единая структура мира, и ее пронизывает данная в созерцании структура ориентации и ориентированного пространства, равно как и объективного времени. А теперь здесь это живое тело до этого момента, до места разрыва, а затем здесь другое живое тело, и также вокруг нулевой точки сначала этот мир, а потом другой; до этого момента «там» значит что-то одно, а после что-то совсем другое. – Но почему это должно представлять сложности? Если я говорю о сохранении одного мира в нормальном случае нашего совместно согласованного опыта, в котором есть только один, а именно сквозным образом сохраняющийся мир, ничего не мешает тому, чтобы в той же системе ориентации, в которой представляется одно пространство, при сходных определенностях ориентации относительно нулевой точки представлялось бы пространство, отличное от первого. То, что находится там, может поменяться, продвинуться дальше, а это же место в пространстве может теперь занять другой объект, и это в соответствии с законами причинности, временами конкурирующими со свободным действием, покуда я толкаю, тяну и иным подобным образом вмешиваюсь как субъект. То же самое относится к структуре мира как необходимость и принадлежит ему как необходимость, поскольку он как один длящийся мир есть «в себе» единство возможного опыта и представляет собой такого рода определение опыта, которое позволяет мне и только-то и может позволить мне то, что я как познающий всякий раз и принципиальным образом могу убедиться: то, что в разные моменты времени было мне дано в опыте, теперь то же самое или не то же самое, изменилось или не изменилось, сдвинулось или не сдвинулось. Для меня в наличии тот же самый мир с теми же самыми вещами, с теми же в свое время совершившимися или совершающимися событиями, и он мыслим только как сущий, покуда я могу продемонстрировать тождество, тождественное истинное бытие, как такое тождественное сущее, которое я могу распознать в моем опыте.
«Куда делась вещь А, которая только что была дана мне в опыте?» – должен спросить себя я. Если она была, то она продолжает быть, неизменная или претерпевшая изменения, и ровно так же все вещи А-мира. А раз я обнаруживаю сейчас Б-вещи, то они должны были быть здесь и раньше; у данного в опыте сейчас есть горизонт прошлой потенциальной данности в опыте, без которой это нынешнее нельзя помыслить. Все, что для меня есть и было, относится к окрестностям моего возможного опыта, возможного действительного опыта или конструирования, соразмерного опыту; все, что в моем опыте может полагаться без разрыва согласованности, принадлежит одному единственному миру.
То есть, когда вклинивается новый «мир» Б, то, для начала, это не значит, что старый оставлен на самотек. Я не могу просто так от него отречься. Настоящее вещей, которое до сих пор было дано мне в действительном опыте, вступает в противоборство с настоящим вещей, которые мне вдруг теперь даны, не как новый мир, а как новые вещи, которые я сейчас вижу и которые я должен причислять к единству все того же мира, к единству, которое у меня до сих пор было.
Если сейчас протекание опыта продолжается и согласуется с новыми вещами, то оно может повлиять на меня только так, что я перечеркну как всего лишь иллюзии те вещи, которые мне были даны до сих пор; и это явно должно будет задним числом затронуть весь мой прошлый опыт. Насколько глубоко – это вопрос продолжающегося хода опыта. Если новые Б-вещи сохраняются в согласованности, то они имеют бесспорную значимость как существующие. Но теперь происходит новый разрыв, и старый мир обновляется, или скорее все испытываемое теперь в опыте согласуется с воспроизводимым прошлым опытом. Что теперь? Явно весь промежуточный эпизод находится в противоборстве с единством этой новой подтвержденной и подкрепленной системы опыта, и как целое получает клеймо «иллюзия» («сновидение»). Но что, если теперь ситуация опять переворачивается? Что если Б опять оживает, то есть получает законную силу через новый период Б1? А затем снова А, распространяясь на отрезок А1, и так далее? Тогда я не вправе буду сказать: это два мира. Скорее: если цикл часто и в определенные периоды времени повторялся, если могу высчитать по А-часам, когда произойдет Б-разрыв, а затем в Б-период по Б-часам, когда стоит ждать нового разрыва, и вообще теперь могу по индукции ожидать и распознать смену, то тогда я должен сказать: по правде нет одного мира, а есть у меня два миро-феномена, со свойственными им устойчивыми закономерностями, по которым я все же могу ориентироваться; если на очереди А, то я могу ориентироваться на феноменальные А-единства и их известные свойства, так же и для Б.
Но не пустые ли это все слова? Не могу ли я сказать с полным правом: «Это два сменяющихся мира в рамках одной пространственно-временной формы, вступающие в противоборство, попеременно отменяющие друг друга в одних и тех же непризнанных отрезках бытия, но каждый из них согласованно, если считать периодическую временную форму каждого из них за одно время»? У каждого такого мира было бы свое время, но оно заполняло бы не все бесконечное время, оно существовало бы только в относящиеся к нему периоды времени. Хотя у вещей в А есть их постоянный горизонт будущего, то есть даже в момент разрыва, тем не менее в следующий период времени существуют не они, а совсем другие вещи. И хотя у этих как у вещей есть горизонт прошлого, но в этом прошлом, определенном предшествовавшим периодом, как раз существовали не они, а вещи другого мира.
Тогда нужно обдумать: каковы условия возможности того, что A, A1, A2,… сойдутся вместе как относящиеся к одному миру многообразия опыта? Что для А-мира должно значить пустое промежуточное время? А-часы все же продолжают идти сквозь паузы. То есть и тогда тоже, когда я засыпаю и оказываюсь теперь в мире сновидения. Для каждой моей паузы на сон надо реконструировать «возможный опыт» и положение вещей, реконструировать происходившее с ними и между ними. Также было бы явно и здесь. Но этот «возможный опыт» вступил бы в противоборство с системой действительного и возможного опыта для Б и соответствующего Б-периода (часы которого явным образом должны быть согласованны с А-часами по своей числовой размерности).
Точнее, это было бы удивительное противоборство. Пусть у меня и были бы две системы опыта, которые совсем не вступали в противоборство. Если А есть в актуальном опыте, то для меня имеет значимость А, и тогда имело бы значимость все, что мне внушается через взаимосвязанный А-опыт. И ровно то же для Б.